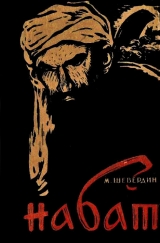
Текст книги "Набат. Книга первая: Паутина"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Глава двадцать пятая
Кабан в загоне
Там, где орел растерял перья,
что сделает маленькая мушка?
Хусроу
– Я аскер-баши! Я командующий войском.
Надо полагать, Ибрагимбек ожидал, что все почтительно станут приветствовать его. Он сидел у жарко пылавшего костра и раздражался, что его до сих пор все еще не признали, его, властителя жизни и смерти, под взглядом которого бледнели храбрейшие из храбрых.
И он снова повторил, еще больше свирепея:
– Я аскер-баши! Я командующий войском.
Теперь уж конечно эти чумазые чабаны бросятся перед ним на колени, во всяком случае, почтительнейше воздадут ему хвалу. Но все по-прежнему смотрели равнодушно и вопросительно.
– Да, вы видите перед собой аскера-баши, великого аскера-баши, – громко, но не очень уверенно поддакнул Ибрагимбеку местный бай Тишабай-ходжа по прозвищу «Семь глоток».
– Я, – все так же грозно начал было Ибрагимбек, обрадованный поддержкой, но почему-то сразу же осекся и закончил уже совсем не так уверенно: – правитель… наместник… э… пророка…
Тем временем он осторожно, так, чтобы никто не заметил, шарил у себя на боку пальцами. Правее… ниже… левее… выше… Холодный пот прошиб его. Пальцы еще лихорадочнее забегали по пояснице. Где пояс? Где маузер?
И только тут он вспомнил, что и пояс и маузер он сам отстегнул и отложил в сторону, когда снимал свои намокшие кожаные штаны, чтобы просушить их на огне, и остался в одних исподних.
Не спуская глаз с сидевших перед ним пастухов, он стремительно нагнулся в сторону и протянул руку к поясу, вернее, к месту на кошме, где лежал его пояс, бархатный, с серебряными бляхами. Да, только что лежал, потому что сейчас его уже там не оказалось, Ибрагимбек отлично помнил, что положил его около себя, но рука нащупала только жесткую шерсть свалявшейся кошмы. Он не удержался и посмотрел в ту сторону. Действительно, ни пояса, ни маузера там не оказалось.
Растерянность охватила все его существо. Не страх. Нет, он чувствовал себя слишком сильным, слишком могущественным, чтобы бояться.
Только на этих днях он испробовал свою силу. Курултай духовенства все сделал по его, Ибрагимбека, одному слову. Его признали безропотно, ему подчинились и Касымбек, и Даниар, и бек дарвазский, и все другие. Почти все. Даже зять халифа в его руках.
Нет теперь человека более могущественного в Кухистане.
Свое могущество Ибрагимбек построил за счет ворованного и присвоенного. Зависть въелась в его душу, зависть всегда разъедала его ум, от зависти темнело в глазах и сердце колотилось в груди. Он бешено, до умопомрачения завидовал тем, кто сильнее его, тем, кто богаче его. И особенно он завидовал одному человеку – гиссарскому хакиму – за то, что он принадлежал к знатнейшему роду. Еще будучи юношей, не мог без ярости Ибрагимбек слышать рассказы о золотых и серебряных сокровищах, хранившихся в мешках и сундуках хакимских подвалов в Гиссаре. Первое, что сделал Ибрагимбек, когда после революции двадцатого года «ухватился руками за власть», он сверг гиссарского бека. Не обращая ни малейшего внимания на негодующие протесты и грозные предписания правительства Бухарской республики, он отправился в Гиссар. Ограбив и захватив все, что можно было только ограбить и захватить, вернулся к себе в степь, в горы, где ему дышалось легче. Он перестал интересоваться делами и вместе с тремя-четырьмя друзьями скитался по тугаям Сурхана и Кафирнигана, предаваясь самой сильной из своих страстей – охоте.
Сегодня ночь застала Ибрагимбека далеко от родного селения. Он так увлекся стрельбой по уткам, что даже не заметил, как солнце красным шаром запрыгало по потемневшим бабатагским вершинам, юркнуло в седловину и исчезло. Только перестав видеть мушку двустволки, Ибрагимбек сообразил, что время позднее. Кругом угрюмо гудели на злом ветру потемневшие стены камыша. Корявые, сучковатые стволы джиды мотались во все стороны. Спутники где-то запропастились. Как ни кричал Ибрагимбек, никого не дозвался. Сгибаясь под тяжестью настрелянных уток и фазанов, шлепая прямо по ржавым лужам, продираясь сквозь колючие заросли, он шел и орал:
– Эй, эй, Безносый! Эй, эй, куда ты провалился! Эй, эй!
Совсем стемнело. Что-то взвизгнуло, взвыло, захлопало крыльями. «Выпь!» Ибрагимбек, не целясь, нажал спусковые крючки. Грохнул дуплет. И снова тишина.
В темноте замерцал красный слабенький огонек. По нему Ибрагимбек выбрался к селению Курусай.
Дремля, он грелся у костра и сушил мокрые штаны и сапоги. Пастухи в своих изодранных, облезших шкурах топтались тут же и разглядывали с откровенным любопытством, но и без особых проявлений почтения неожиданного гостя.
Старейшины Курусая сидели, уткнувшись лицами в грудь. И быть может, именно потому бороды их казались короткими, жалкими и старейшины выглядели очень непредставительно. Они старались сохранить достоинство. Растерянные глаза их блуждали по площадке у мечети, где собирались они каждый день испокон веков для совета, а то и просто скоротать мирной беседой время сумерек – между вечерней молитвой и ужином. Никто не смотрел друг на друга. Как всегда в этот час, сюда, к мечети, несло разными, столь приятными в обычное время запахами очажного дыма и готовящейся в чугунных котлах пищи. Но сегодня никто не замечал запахов, которые служили сигналом расходиться по домам, и все продолжали печально сидеть, сгорбившись, поглаживая свои посохи и прикрывая от ветра открытые груди своими бородами. В темноте покачивался на старом карагаче страшный, застывший труп повешенного. Левее, у покосившейся деревянной колонны мечети, толпились обособленной группой горцы. Чернобородые, крепкоплечие, они из-под густых бровей глядели упорно и зло на старейшин. Двое или трое опирались на старинные мултуки с сошниками. И это, надо сказать, очень не нравилось Ибрагимбеку.
Под чинарой молодые парни грузили на ишаков большие полосатые мешки с пшеницей. Блеяли, сбившись в кучу, потревоженные не вовремя бараны и козы.
Едва придя в кишлак, Ибрагимбек немедля отдал приказ собрать «ушр» – налог на священную войну против большевиков.
Милиционера, попытавшегося протестовать, он приказал повесить и сам надел ему на шею петлю.
Теперь, сидя с важностью за принесенным ему кишлачным угощением, он нет-нет да и покрикивал: «Давай поживее!»
Но когда дело дошло до баранов, курусайцы запротестовали. Они утверждали, что люди Ибрагимбека уже наезжали на Курусай и увели две сотни голов для прокормления исламского воинства.
Ибрагимбек вспылил, пригрозил оружием.
– У меня тоже оружие, – сказал кто-то из охотников.
Встрепенувшись, Ибрагимбек поднял голову. Взгляд его стал злым и напряженным. Густые брови угрожающе зашевелились.
– Эй вы, там! Что такое? – прохрипел он. – Кто осмелился?
Ему стало холодно и жарко одновременно. Опасность зверем выползла из тьмы и заглянула ему в глаза: куда девался маузер? Он заметался и совсем тихо сказал искательным тоном:
– Великий эмир соизволил назначить нас аскером-баши, командующим. Правителем, так сказать…
– Пусть отец эмира подохнет еще тысячу раз, а сам эмир сядет задницей в котел с кипящим маслом, – сказал кто-то невидимый в темноте.
– Проклятый ублюдок волка и шакала!
– Сколько от голода из-за эмира людей у нас перемерло.
– Последнее забрал!
Среди женщин, сбившихся в кучу пониже, у сухого водоема, послышались рыдания, крики, причитания.
Шакир Сами – старейший из старейшин – вздрогнул. Он поднял голову, и борода, расправившись, заструилась по груди и сразу же придала ему величественный вид.
– Испокон веков, – заговорил он, обращаясь к народу, – стадо повинуется, а правители мусульман повелевают. Мы, жители горных селений, испокон веков платили налог великому эмиру, тени аллаха на земле. Великий эмир отъехал из нашего государства, но господин власти, озаряющий мир Ибрагимбек сказал, что назначен эмиром и прибыл к нам гостем. И он нам сказал: воинство мусульманское нуждается в хлебе и мясе. И мы, старейшины кишлака, решили: дать Ибрагимбеку для прокормления воинства мусульманского, что можем из наших достатков: пшеницы, ячменя, коз и баранов. Да будет так!
– Так не будет! – прозвенел совсем неожиданно женский голос.
Из толпы женщин вышла Жаннат.
– Так не будет! – повторила она.
Тишабай-ходжа затряс головой от негодования и взглянул молодой женщине в глаза.
– Ты, девчонка, не смей так говорить с нашим гостем. Ты слышала, что сказал наш старейшина Шакир Сами. Он сказал: «Господин Ибрагимбек приказывает, мы повинуемся».
– Гость… да, такой гость не скажет: «Я наелся», – крикнула Жаннат. – Такой гость скажет: «Почему барана для меня не зарезали».
Тишабай-ходжа хмыкнул от растерянности – столько в глазах Жаннат прочел он презрения и ярости.
– Йне! – удивился Ибрагимбек.
– Наша комсомолка! Паша Жаннат! – зашумели женщины. – Да будут твои глазки ясны! Скажи ты ему!
– Да, да, скажу, если у всех языки присохли к нёбу от страха.
И снова женщины запричитали, заохали.
Какая-то девчонка смеет противоречить самому грозному из грозных людей – всемогущему Ибрагимбеку. Что-то будет?!
Сам Шакир Сами тоже с удивлением смотрел на комсомолку и думал. Когда Жаннат приехала сюда из Душанбе, он просто не обращал на нее первое время внимания. Что ж, прислала советская власть девчонку просвещать молодых курусайцев, пусть просвещает, учит грамоте. В душе Шакир Сами уважал книги и грамоту. Принесенная молодой женщиной весть о том, что курултай бухарских большевиков решил раздать земли эмира, беков и вакуфов безземельным и малоземельным дехканам, очень удивляла, радовала и порождала уважение к большевикам. То, что Жаннат рассказывала о Ленине и революции, тоже было интересно. Но когда эта девчонка вдруг начала мутить народ против Тишабай-ходжи и призывала прогнать его и сделать, как она это называла, земельную реформу в Курусае, старейшина Шакир Сами задумался.
От века и от пророка шло, что мир делится на богатых и бедных, у одних много, а у других мало и что те, кто имеет мало, обязаны уважать тех, у кого много.
Высоко думал Шакир Сами о себе. «Мы – дехканин, – заявлял он и, повременив малость, повторял: – Мы – дехканин!», что звучало так, будто он говорил: «Мы – губернатор-хаким». Он гордился тем, что он земледелец, просто чванился этим. Чванливо он держался с курусайским баем Тишабаем по прозвищу «Семь глоток». К баю он приходил в чистой, тщательно прокатанной рубахе почти до колен, перепоясанной зеленым, видавшим виды бельбагом – поясным платком, садился без приглашения и разговаривал как равный с равным. «Он человек, и я человек, – думал Шакир Сами, – у него двадцать пар волов, у меня тоже волы. У него земля, у меня земля. Только и разница, что у меня одна глотка, а у него семь глоток. Но для одного живота одной глотки хватит».
Предок Шакира Сами, по преданию, поселился на солончаковой почве Курусая чуть ли не до Адама, во всяком случае, с пророком Нухом, покровителем земледелия, и с пророком Давудом он, этот предок, был на короткой ноге и частенько угощал их маставой – супом из кислого молока – в своей хижине, которая и построена бог весть когда. Тишабай «Семь глоток» не верил, конечно, в знакомство почтенного предка Шакира Сами с пророками, но терпеливо сносил чванливо-снисходительное отношение старика к себе, потому что Шакир Сами был весьма ему полезен. Курусайцы видели в Шакире Сами такого же, как и они, крестьянина, льнули к нему, обращались за советом и помощью. И вот тут-то, сам того не подозревая, Шакир Сами оказывался незаменимым помощником «Семи глоток».
Тишабай «Семь глоток» появился в Курусае не так давно. Первоначально он наезжал сюда из Гиссара в качестве «базарчи» верхом на лошади, сидя на тюках мануфактуры и хурджунах с мелкой галантереей. Каждую осень он закупал у дехкан пшеницу, выращенную на сухой богарной земле и очень ценившуюся хлебопеками Бухары. Вскоре «Семь глоток» стал наезжать в Курусай чаще и чаще и, хотя здешнюю воду он в душе называл тухлятиной и от палящих лучей солнца некуда было здесь укрыться, вдруг возымел страстное желание жить в этой «райской долине». Скоро торгаш построил себе домик с лавчонкой, в которой торговал цинделевскими ситчиками и полосатым красным тиком, столь любимым степняками. Он не торопился. Он тихо сидел в своей лавчонке, приглядывался. «Семь глоток» очень хорош был с господином закетчи – сборщиком налогов Усманом, принимал его у себя, постилал ему лучшие одеяла, кормил. Радушное широкое байское гостеприимство вскоре дало плоды. Вдруг оказалось, что «Семь глоток» стал землевладельцем. Давно уже он брал у курусайцев земельные участки в заклад под ссуды, да с такими процентами, что дехканину приходилась осенью за каждую взятую в долг теньгу отдавать все десять. И стоял тогда дехканин на поле, раскрыв от изумления рот, смотрел на родные горы и думал печальную думу: вроде как его земля и вроде не его. Пять-шесть лет миновало, а Тишабай уже отстроил около мечети большущий дом, с такой михманханой, какой не найти во всем Кухистане. Седьмой год выдался голодный. От засухи зерно даже не взошло, а курусайцы, подтянув живот «к позвоночнику», лежали в своих саклях, ожидая голодной смерти. Выждав время, когда кишлак огласился воплями плакальщиц по первым покойникам, «Семь глоток» объявил: «Всякий может прийти ко мне. Во имя аллаха он найдет у меня в амбаре хлеба столько, сколько нужно, чтобы прожить до нового урожая». К нему шли, опираясь на посох, ползли на четвереньках и благодарили со слезами. Но, выдавая пшеницу, бай наклонял к уху дехканина свою бледную расплывшуюся физиономию и тихо говорил: «Бог видит, что я тебе помог. Но за землю ты будешь платить?» И если едва державшийся на тонких, как веточки, ногах человек говорил «да», он получал зерно, если же качал отрицательно головой, он мог спокойно ждать, когда мрачный, с леденящим дыханием Азраил пресечет жизнь его и его детей. Получилось так, что земли тех, кто остался жив после голодовки, да и тех, кто умер, оказались собственностью Тишабая «Семи глоток».
С тех пор Тишабай «Семь глоток» стал владельцем и полновластным хозяином кишлака Курусай. Проглотил бы скоро бай и Шакира Сами. Не помогли бы старейшине и его почтенные предки, но тут доносились до Курусая вести о революции и народной власти. Шакир Сами снова стал очень полезным для бая человеком. Льстил ему «Семь глоток»: «Вы человек здешний, вы человек уважаемый, посоветуйте мне в том-то и в том-то».
И Шакир Сами усаживался поудобнее, мял в своей ручище маленькую пиалу и важно начинал:
– Поистине предки наши не глупее нас были…
Вот и сейчас Тишабай-ходжа по привычке ждал слова старейшины Шакира Сами. Ошалевший было от неожиданности, от властного «не будет», Ибрагимбек молчал: таким неправдоподобным и невероятным показалось ему появление молодой женщины. Небо обрушилось на землю, земля стала дыбом! Женщина, девчонка, осмелилась влезть в его разговор, его, могущественного сардара! Что такое? Или наступил день страшного суда?..
– Ты… ты, – ткнув пальцем в сторону Жаннат, смог только просипеть он.
– Один шах, а он был эмиром бухарским, – чрезвычайно непочтительно перебила Ибрагимбека Жаннат с задором и даже весело, хоть душа у нее ушла в пятки, – нашел кабана и возвеличил его, увенчал ему голову золотой короной, надел на него золототканый камзол, опоясал толстое его брюхо саблей в самоцветных ножнах. «Теперь ты правитель!» – сказал шах. Пошел кабан править народом, да проходил он мимо лужи, не выдержал и лег по привычке в грязь. Сколько ни украшай свинью, все же грязь ее в чистоту не обратится. Кабан был кабаном, останется кабаном.
– Не смей! – прохрипел Ибрагимбек. – Каждое слово обернется для тебя тысячью мучений.
– Э, да он еще угрожает, – взвизгнула женщина из толпы.
– Ты скажи, почему опять налогов стало больше? – выкрикнула другая.
– За что повесил Шо-Исмаила, нашего милиционера?
– Бандиты забирают весь хлеб до зернышка.
– Твои головорезы забирают баранов и не платят за них!
– Детишки с голоду пухнут!
– Вор вором и останется!
– Конокрад! Палач!
– Кабан!
С протянутыми руками, с искаженными лицами, разинутыми в крике ртами, с растрепанными волосами кишлачницы ворвались на площадку, оттеснили в сторону старейшин и все грознее наступали на сидевшего у костра Ибрагимбека.
Он встал, сел, снова встал. Глаза его бегали. Исподлобья он разглядывал беснующихся дехканок и молча стоявших мужчин. И вдруг ему показалось одно лицо знакомым.
Он узнал своего ясаула.
– Эй, Самыг! Что ты здесь делаешь?
– Да вот в гости приехал, к Тишабаю. Родственник мой…
– А ну, давай разгони псов. Быстро!
От прежнего страха у Ибрагимбека ничего не осталось. Он снова приказывал:
– Гони их!
Ясаул Самыг, здоровенный низколобый детина, неловко топая, выбрался из-за костра и, заслонив Ибрагимбека своей широкой спиной, заорал:
– А ну, убирайтесь!
Он помялся на месте, обернулся, посмотрел на Ибрагимбека и снова крикнул, замахнувшись на женщин:
– Хватит!
Женщины подались назад. Пастухи молчали. Никто не решался вмешаться.
Душа Жаннат замирала от ужаса, но со смелостью отчаяния она закричала:
– Слушайте меня!
И ее горящее прекрасное лицо придвинулось к лицу Самыга. Он даже зажмурился.
– Очень хорошо, – быстро продолжала молодая женщина, обращаясь к охотникам, стоявшим в стороне. – Эй вы, храбрецы… Братья наши, рабочие и дехкане, свергли тирана эмира, добились свободы, а вы снова гнете голову к земле… У вас в руках ружья, идите отдайте их вору, а шеи подставьте под нож. Очень хорошо! Прежде чем из вас выпустят по ведру крови, скажите его превосходительству-людоеду: «Идите, ваше вонючее степенство, к нам, в наши дома. Забирайте хлеб, забирайте и детишек, коз… забирайте сушеный урюк… Ничего, пусть воины господина командующего набивают себе брюхо. Наши дети привыкли голодать. Ничего, если наши сыновья подохнут во славу аллаха». Идите, идите и поклонитесь.
Только теперь Шакир Сами опомнился:
– Уйди, женщина! Мудрые решили – так и будет.
Ибрагимбек все смотрел на Жаннат, широко открыв рот, и издавал странные клокочущие звуки.
Вся дрожа от напряжения и подступающей к сердцу слабости, Жаннат повернулась спиной к старейшинам и просто сказала:
– Сестры, когда у мужчин слабеют руки, дело женщины – спасать жизнь своих детей. Раз у них, у мужчин, мозги высохли от страха, мы скажем свое слово.
В глазах ее плясали языки огня.
– Я послана к вам из Бухары, – сказала она тихо, но повелительно, – меня послала партия большевиков. Я заявляю: налог может назначать только народная, советская власть. А кто советская власть у вас? Я советская власть. Я запрещаю платить какому-то вору-людоеду военный налог, запрещаю давать хоть один грош, хоть одно зерно, хоть одну соломинку с вашей земли.
– Э… э… э, – закряхтел ясаул Самыг.
Его удивило не столько то, что заговорила женщина, сколько ее молодость. Весь расплывшись, он подошел, тяжело шаркая кожаными каушами по земле, вплотную к Жаннат и насмешливо протянул:
– Смотрите… э-э… какая… жирная перепелочка тут «Пит-питак! Пит-пилит…»
Пурпуром залило шею и лицо Жаннат. Она резко обернулась и лицом к лицу встретилась с Самыгом.
– Цсе-цсе! Какие глазки, какие щечки!.. Ого, какая тут в кишлаке приятная власть… Хо-хо!
Смех подхватил Ибрагимбек. Схватившись за живот, он хохотал во все горло.
На глазах Жаннат выступили слезы. Старцы перешептывались. Охотники и пастухи стояли насупившись. Женщины молчали.
Ясаул Самыг перестал смеяться. Он повернулся к Ибрагимбеку и прижал руку к сердцу:
– Мой бек, какие ваши приказания?
– А теперь, – важно сказал Ибрагимбек, – свяжи руки зачинщикам. Они пойдут за мной в Кок-Таш, как только взойдет луна. Посмотрим, может быть, мы утишим свой гнев и позволим дуракам заслужить милость. Эй, пастухи, выгоняй на тропу овец. А ты, советская власть, – обернулся он к точно окаменевшей молодой женщине, – пойдешь тоже со мной, и я подумаю, что с тобой сделать… Самыг, а ну!
Самыг грубо схватил Жаннат. Несколько секунд она барахталась в его лапах, вырвалась и, вся красная от гнева и смущения, отскочила.
– Неужели вы подчинитесь? – крикнула она. – Вы, мужчины?
Но горцы покорно складывали свое допотопное оружие на землю, стараясь не встречаться друг с другом взглядами. Они чувствовали страх и стыд. Сердце Жаннат колотилось так, что она прижала руки к груди.
– Стыдитесь, вас много, а их только двое! – крикнула она.
– Э, девчонка, тронь их пальцем, – проворчал один из охотников, – завтра их две сотни набежит. В нашем селении даже мышонка живого не оставят.
– Опомнитесь. Вы идете на верную смерть! – продолжала она, задыхаясь.
Завыли, застонали женщины, дети заплакали.
– Не мешай, красавица, – сказал Самыг. Он снял ремень и принялся закручивать Жаннат руки за спину. – Смотри, какие ручки, а? Ай-яй-яй!
– Вы, храбрецы! – крикнула Жаннат, вырываясь.
Ее душило отвращение. От Самыга несло верблюжьей шерстью и кислятиной.
Что именно случилось потом, присутствующие сразу разглядеть не сумели. В толпе горцев началась возня и послышались недовольные возгласы Женщины запричитали еще громче и бросились к мужчинам. А посреди площадки Самыг боролся с Жаннат, хрипя.
– Какая сила. Э, Ибрагимбек, ты выиграл все равно, чет или нечет… Девка она крепкотелая…
Ударил вдруг выстрел, и вспышка вырвала из темноты удивленное лицо Самыга и горящие глаза Жаннат.
Охнула толпа и замолкла.
Прозвучал громкий голос Жаннат;
– Дайте свету…
Пока нашли смоляную ветку арчи, пока зажигали ее, все горцы стояли не двигаясь. И когда пламя наконец вспыхнуло и желтый, то разгоравшийся ярко, то притухавший свет озарил ветхие колонны мечети, глухие стены хижин, камни на дороге, то все оказалось в таком же положении, как и до выстрела.
Молча стояли женщины, тихо всхлипывали кутавшиеся в тряпье детишки. Замерли над шевелящейся в темноте отарой овец чабаны. Как грузили на ишаков полосатые мешки с зерном, так и остались стоять молодые, обнаженные по пояс палваны. Безмолвными тенями потустороннего мира неподвижно сидели старейшины-мудрецы, и бороды их тихо топорщились на ветру, рвавшем пламя факела.
Тишину нарушил чей-то голос:
– Э, борода Самыга покраснела от собственной крови.
И все с ужасом посмотрели на середину площадки, где у ног молодой женщины недвижно лежал великан Самыг. И каждый из горцев при виде этой картины вспоминал героические предания о мужественных жестоких девах гор, спускавшихся в легендарные времена с ледяных вершин сокрушать врагов таджикского народа. Все смотрели на Жаннат, ужасались ее поступку и восторгались ее мужеством. Но хорошо, что ветер горных вершин трепал факел, вырывая из арчовой ветки больше дыма да искр, чем пламени, и судорожная ужасная дрожь в руках Жаннат скрадывалась столь же судорожным колебанием света, а то жители кишлака едва ли вздумали бы восторгаться ее мужеством.
Слабость сковала руки, ноги Жаннат, слезы текли по ее щекам. Отчаянно она цеплялась пальцами за рукоятку отвратительного страшного оружия. Не помня даже как, она выхватила у Самыга оружие и выстрелила. Но она хитрила сама с собой. Она еще при свете костра разглядела у ясаула за поясом револьвер. Да, да, убила. Сейчас она меньше всего думала, что он был ее враг, зверь, насильник. Сердце, вся душа сжималась от мысли, что он вот тут лежит на земле и она почти касается его трупа ногой. Никакие силы в мире не заставили бы ее взглянуть на него. Вот почему со стороны казалось, что она так гордо закинула свое хорошенькое личико вверх.
«Только не смотреть, только не взглянуть, – думала она. – Я умру».
Дикий крик привел ее в себя. Орал Ибрагимбек:
– Взять ее! Взять потаскушку. Она убила лучшего моего ясаула. Взять!
Он стоял у потухшего костра, размахивая руками, и вдруг толкнул Шакира Сами:
– Иди вяжи ее.
– Э, нет, – заговорил старейшина, – мне уж много лет. Я родился в год скорпиона, когда вода в Кафирингане доходила до вершин холмов. Эту девчонку обижу – разве мне хорошо будет? Себе на жизнь, на пропитание добываю своими руками, пока в них сила есть. Скоро сила пропадет, кто тогда даст мне хлеба поесть, воды попить? Советская власть – сильная власть. Ты, Ибрагим, тут столько молотил языком, столько пустых, сухих слов сказал. Надоело. Уходи отсюда, Ибрагим, уходи, вор. Народ от тебя кровью блюет. Смог бы ты, налог и с молока материнских грудей брал бы, кабан!
– С тебя сниму шкуру сам… собственноручно, с живого… Набью соломой!..
– Не пугай… Твой ишак уже завяз в глине… Не боюсь… Мы тебя не боимся.
Толпа сделала шаг-два вперед.
Теперь Ибрагимбек увидел, что Самыг был не единственный из его нукеров в этом кишлаке. При свете факела он вдруг узнал десятка два своих самых боевых, самых храбрых джигитов, сбежавших от него недавно. Они прятались в тени и смотрели на него очень пристально и странно…
– Вяжите девку! – взвизгнул он. – Отдаю вам ее на забаву. Чего вы уставились?
Но тотчас же спохватился, что показывает слабость, и прикрикнул:
– Ага, вот вы какие! Ну теперь болтаться вам, мятежникам, на виселице.
– А кого вешают на виселице, а? Таков обычай обманчивого мира – то вверх, то вниз, а? – проговорил старейшина Шакир Сами, подступив к Ибрагимбеку. – Сегодня ты сжигаешь мир, а завтра – ты горсть пепла.
Медленно попятился Ибрагимбек, шаря блудливо глазами вокруг себя.
Он не нашелся ничего ответить, за него ответили хором нукеры:
– Разве мы воры? Нет. Ибрагим вор!
– На виселицу, на виселицу вора!
Нукеры и пастухи надвигались. Главнокомандующий весь сжался, напрягся. Он со страхом, почти умоляюще смотрел на кулаки, сжимавшие тяжелые дубины, на дула направленных на него мултуков. Рубашка, взмокшая от пота, прилипла к телу, руки, ноги налились свинцом. Губы шевелились.
– Что вы? – бормотал он умоляюще. – Постойте. Дайте сказать.
Но ненависть курусайцев к конокраду, запрятанная где-то далеко внутри, вырвалась наружу. Когда Ибрагимбек появился в ауле, жившие здесь беглые нукеры растерялись. Они не допускали, что осторожный, хитрый, как сто тысяч хитрецов, Ибрагим, царь всех воров, мог оказаться в тугаях один. Они не верили глазам своим. Они ждали с минуты на минуту, что вот-вот появятся помощники Ибрагима. Конокрад умел нагонять страху. Но когда оказалось, что он все-таки один, нукеров охватило возбуждение. Они почти не сговаривались. Один из них украл пояс с маузером, другой оттащил сапоги и одежду Ибрагима в сторону от костра, третий обегал все дома и юрты за подмогой. Когда же погиб ясаул Самыг, все точно обезумели…
Сжимая в руках дубинки, палки и камни, они подходили очень медленно к Ибрагимбеку. Они все еще страшились его.
Еще шаг толпы, еще… Ибрагимбек по-собачьи взвизгнул.
Дубины, палки взметнулись в воздухе. Первым ударил Шакир Сами. Вопль понесся над аулом.
И в тот же момент что-то ухнуло. Ибрагимбек прыгнул через костер во тьму. На несколько сажен взметнулись искры, слепя глаза, и стало сразу темно. Взрыв воплей отдался эхом в горах. С криками «Держи! Ушел!» толпа пастухов бросилась в погоню.
На площадке у мечети стало совсем тихо, тлели во тьме, точно огоньки далекого, далекого города, угли раскиданного костра, ветерок разносил чудесный бодрящий запах арчовой смолы и дыма.
Спотыкаясь, Жаннат отступила от ужасного темного тела, распростертого на земле. «А все-таки спасибо доктору, научил меня стрелять». Эта простая мысль вдруг уняла дрожь в теле, вернула способность спокойно рассуждать. Чувство торжества поднялось в молодой женщине.
Бандит! Как он вел себя в кишлаке… хозяином, начальником, ханом. Как она могла жалеть о своем поступке, когда перед мечетью висит окоченевший труп Шо-Исмаила, сельского милиционера. Нет, она правильно поступила. Спасибо доктору за науку.
Запыхавшиеся, усталые, возвращались пастухи.
– Ушел! Лошадь украл, ускакал! – переговаривались они. – Наши ловят его…
– Братья и сестры! – крикнула Жаннат, когда снова запылал перед мечетью костер. – Вот он, изверг, лежит!
Она машинально ткнула револьвером в сторону, где лежал труп Самыга, и, хоть сердце ее опять дрогнуло, продолжала бодро и звонко:
– Дело сделано! Или мы в страхе опустим голову, погибнем в мучениях, или мы будем бороться, как призвал Ленин, и будем жить. Эй вы… идите в ущелье и сторожите дорогу. Мурад и Мирсаид, садитесь на коней и поезжайте в Душанбе к Красной Армии, расскажите, что у нас. Просите помощь. А вы все делайте так, как я скажу.
Сознательно ли, инстинктивно ли, но Жаннат не дала ни возможности, ни времени горцам раздумывать. Она распоряжалась властно, решительно. Возможно, именно то, что она приказала закопать труп Самыга, как падаль, без молитвы, подействовало на всех особенно сильно. Не дожидаясь рассвета, горцы перегородили ручей камнями, выкопали яму на обнажившемся дне и завалили многопудовыми валунами, а затем пустили воду.
А пока закапывали басмача, Жаннат при свете смоляных факелов проводила около виселицы траурный митинг, под вопли и стопы плакальщиц. Ее маленькая, но горячая речь о погибшем за всех них милиционере Шо-Исмаиле заставила сердца биться гневом, потому что Шо-Исмаил был курусайцем, а во всяком таком заброшенном в глухом ущелье селении все близки друг другу, все кровные родичи. И простые, избитые слова, риторические обороты, обыкновеннейшие, но страстно произнесенные лозунги из газет нашли путь к сердцам присутствующих и разбудили мстительные, воинственные чувства. Надолго или нет, но мужественный поступок слабой женщины, произнесенная ею речь при таинственном и торжественном свете факелов сняли с душ и сердец тяжесть страха.
Однако ночь событий, как ее прозвали горцы, не закончилась. Вопль «Мой сын! Мой сын!» снова поднял на ноги весь кишлак. Один из пастухов нес по освещенным предрассветным небом улочкам на руках трупик грудного ребенка. Пастух плакал и рыдал, как женщина.
– Злодей убил жену, убил сыночка… – кричал пастух.
Возвратясь после митинга домой, он обнаружил свою молодую жену заколотой ножом, а сына задушенным в люльке.
– Злодей Ибрагим! Это он! – рычала толпа.
Новые похороны состоялись тихим зимним утром.
Горцы дали торжественную клятву отомстить и стрелять в басмачей, если они придут в их ущелье, бросать в них с горы камни, убивать их дубинками, резать ножами, никогда больше не лизать пыль их следов.
Ибрагимбек бежал. Его так и не нашли.
Рассчитал он хитро. Ловко увернувшись из-под дубины Шакира Сами, он прыгнул босыми ногами в костер, мгновенно разметал его, расшвырял ошеломленных нукеров и кинулся полуголый в спасительную темноту. Грузный, огромный, он бежал очень быстро и ловко. Так бегал он в свое время, спасаясь от дехкан, у которых он крал лошадей. Он мчался по колючкам, комьям глины, петляя между юртами и хижинами, успевая внимательно прислушиваться к воплям и топоту ног.








