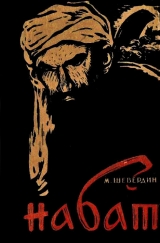
Текст книги "Набат. Книга первая: Паутина"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Морозенко ходил по комнате, долго и путано рассказывал.
– Слышали, – наконец перебил его Гриневич. – Запугали мальчика. Приказ подписал: разоружайтесь-де, спасайся кто может. Эх ты, реки переплывал, а в ночном горшке захлебнулся…
С досадой натянул на упрямый лоб фуражку и вышел, хлопнув дверью.
Несколько секунд смотрел Морозенко на все еще сотрясающуюся после удара дверь, потом обхватил голову руками и повалился на стол. Все ушли. Беспомощно борясь с темнотой, потрескивал огонек светильника. Холодом тянуло по ногам.
Глава двадцать девятая
Юнус
Птице со сломанным крылом и комок глины кажется камнем.
Низами Самарканда
Выехав из ворот Шейх Джалял, Пантелеймон Кондратьевич почти тотчас же поравнялся с высоким дехканином в красной выцветшей чалме, шагавшим по обочине дороги. Рядом два ишака месили грязь своими копытами. Командир так бы и проехал мимо, если б дехканин его не окликнул:
– Эй, друг!
Пантелеймону Кондратьевичу улыбалось бронзовое лицо Юнуса. Он загорел, черная бородка его раскудрявилась. Из-под ветхого халата выглядывал высокий воротничок солдатской гимнастерки.
Хоть и торопился Пантелеймон Кондратьевич, но поспешил слезть с коня и обнялся с Юнусом.
Он и впрямь обрадовался Юнусу, а особенно тому, что тот поправился и поздоровел. Они расцеловались. Похлопали друг друга по плечам и по спине, чем привели в восторг мальчишек, почтительно взиравших на командира Красной Армии.
– А что ты, брат Юнус, здесь делаешь? – спросил Пантелеймон Кондратьевич.
– Видишь, – Юнус заулыбался, показывая свои ослепительные зубы, и кивнул в сторону ишаков, – к земле я вернулся. В Чорминаре землю копаю, хочу морковку, лук сеять, в город возить, продавать. С того времени внутри что-то болит. Надо же жить. Вот разбогатеть решил. Жениться хочу. Немного денег накоплю, найду девушку Дильаром, ту, которую в песках видел. Здесь она у меня… – он приложил руку к сердцу. – Забыть не могу.
– Да ну?! – скептически усмехнулся Пантелеймон Кондратьевич. – Неужто угомонился? Да, не скоро ты так разбогатеешь. Халат-то у тебя совсем пополз… по швам разлезается.
– Ничего. Стараюсь. Скоро весна – овощи продам. И сейчас ничего, работаю; своих ишаков нагружаю утром землею от старых дувалов, в город еду, по улице погоняю, кричу: «Эй, кому глины, кому глины места отдохновения засыпать. Эй! Эй!» Ну, многим нужно. И я засыпаю ямы, а взамен землю, с навозом перемешанную, вывожу к себе в поле. Вот и сейчас удобрения везу. Дело дехканское, не очень чистое, но нужное. Никому не мешаю, живу тихо.
Он снова улыбнулся, и блеск зубов озарил все его моложавое лицо, но улыбка его почудилась Пантелеймону Кондратьевичу и злой, и ехидной в одно и то же время. Они медленно двинулись по дороге. Ведя коня на поводу, Пантелеймон Кондратьевич шел по обочине, стараясь не запачкать сапоги.
– Знаешь, командир, – заговорил снова Юнус, – я из дома ушел, когда мне исполнилось девять лет. Отец у меня умер, а дядя сказал: «Э, у меня и так нечем кормить своих двенадцать ртов. Разве мне хватит зимой ячменя на двадцать ртов? Зякетчи забирает три четверти и у того, кто имеет детей, и у того, кто не имеет. Мы с женой и так уже называем рождающихся ребят „Тохта“ („Стой“), „Ульсун“ („Умри“), а они все рождаются. А тут еще ты свалился на голову». Дядя долго не думал, а продал меня за пятирублевый золотой баю Каюму Токсабе. Бай меня поставил перед собой и давай мне вертеть голову. Я заплакал от боли, а он сказал: «Ты мой раб. Хочу – оторву голову, хочу – оставлю на шее. Дело мое. Иди!» Бай заставил меня гонять лошадь в маслобойке. Света дневного я не видел, все ходил и ходил под землей вокруг колоды с хлопковыми семенами. Когда в доме устраивали пир, Каюм Токсаба вытаскивал меня за шиворот из ямы и снова вертел мне голову до боли. «Иди к воротам, – говорил он, – как увидишь, кто подъехал, беги, скажи мне. Да быстро беги, щенок, не то поломаю тебе кости и съем! Я людоед!» Я так боялся Каюма Токсабы, что кричал при виде его: «А-а-а!» Теперь я боюсь кое-кого другого. Мне ночью спится господин Рауф Нукрат, так что я опять кричу: «А-а-а!» Мать и то все спрашивает: «Что ты все во сне кричишь, сынок?» Тогда-то я убежал от Каюма Токсабы, а теперь куда убежишь? Теперь я больной, покалеченный, все это знают. Вот и живу… тихо, никого не трогаю. Пусть меня тоже не трогают, хэ-хэ.
И он снова зло усмехнулся.
– Да вот и мое имение, – оживился он.
Рукой показал Юнус на маленький сбитый аккуратно из глины домик шагах в двухстах от большой дороги.
Пантелеймон Кондратьевич не смог отказаться и заехал к Юнусу.
На заброшенном пустыре Юнус разбил маленькую усадьбу, выкопал пруд, воткнул по углам таловые колья, которые, как он знал, за год дадут обильную поросль. Рядом с домиком он вскопал и удобрил три-четыре танапа земли под огород и бахчу.
– У меня даже виноград есть. Здесь когда-то в старину, наверное, люди жили. От их трудов уцелели восемь-девять лоз. Теперь я дехканин, землевладелец настоящий, даже налог плачу.
– Как? Налог? С тебя?
– Да, – усмехнулся Юнус, – не успел я очаг в новом доме разжечь и матушку сюда привезти, а ко мне уже от назирата финансов человек пожаловал. И кто бы вы подумали? Старый кровосос зякетчи Хуснутдин – эмирский налогосборщик. Хотели мы его с соседями камнями прогнать, собаками потравить, да нет. Нельзя. Хуснутдин нам сейчас же бумажку – мандат, что он служит Бухарской республике. Ну и дела! А платить налоги приходится. Зинданом, собака, грозит.
Пантелеймон Кондратьевич только поморщился. Что правительство Бухарской республики привлекало на службу многих эмирских чиновников, было ему отлично известно. Но не смог Пантелеймон Кондратьевич удержаться от возмущения, когда Юнус сказал ему, что зякетчи Хуснутдин собирает какой-то налог на священную войну.
– И это в версте от ворот Бухары. Настоящая контрреволюция, – продолжал Юнус. – И кто вылез на свет из земли? Тот, кто всегда жить никому не давал. Небо в половинку, земля в осьмушку при эмире были! Не до конца мы революцию сделали. Эмир-то далеко, а всякие эмирские сволочи отовсюду повылазили, понабежали. Опять свои пасти разинули. Зубами готовы вцепиться. Я уже о Хуснутдине написал заявление, только не знаю.
– За твоего зякетчи Хуснутдина я сам возьмусь, – мрачно сказал Пантелеймон Кондратьевич. – Только скажи, брат, неужто спасовал ты, а?
Хотя Юнус, конечно, и не знал слова «спасовал», он почуял укор и упрек и, серьезно смотря перед собою, проговорил:
– Друг, Юнус-солдат воевал и на Аральском море, и в Актюбинске, и в Каахка, и в Андижане. Много лет воевал ради того, чтобы рабочий человек легко дышал, а Юнусу-солдату за это господин Нукрат только ребра ломал, тело живьем жарил, а? Говорили мне умные люди: не суй палец в нору скорпиона.
– Значит, кончено?
– Да. Юнус-солдат много стрелял, много в снегу сидел, много на солнце потел, окопы копал. Теперь Юнус-солдат хочет спокойно сидеть вечерком, смотреть, как солнце прячется за большой минарет. Теперь Юнус хочет лежать около хауза. Найду свою Дильаром… кареокую, смуглую… Знаешь, командир, в сказке: беленькая – в шесть персидских туманов ценится, розовенькая – в шестьдесят шесть, а смуглянка – в шестьсот шестьдесят шесть.
И вдруг он запел старую песню на слова поэта Хафиза:
Роза на груди, чаша в руке,
И возлюбленная, отвечающая моим желаниям!
В такой день властелин мира
Только раб.
– Не верю! – воскликнул Пантелеймон Кондратьевич. – Не верю… По глазам вижу, что говоришь одно, а думаешь другое.
Но Юнус тянул свое:
– Сына хочу иметь, вот такого маленького, чтобы ручками бороду дергал, «папа» говорил.
– Посмотри мне в глаза, – вдруг сказал Пантелеймон Кондратьевич. – Эх ты, еще коммунист называешься. Нарвался на какую-то сволочь, контру… пострадал от него и… «хватит с меня», залез по уши в дерьмо и сопит носом. Солнечными закатами любуешься. Посмотри, говорю я.
Он долго-долго смотрел в глаза Юнуса. В них прыгали бешеные огоньки. Да и все та же ехидная ухмылка никак не подходила К смыслу слов о покое, отдыхе.
– Э, – хрипло проговорил Пантелеймон Кондратьевич. – Юнус-солдат, Юнус-большевик не может спасовать. Юнус-солдат не может обидеться на советскую власть. Разве Юнус обидится на Ленина?.
– Ленин, – проговорил, чуть задохнувшись, Юнус. – Ленин, он был со мной, когда меня сволочь Нукрат пытал, мясо мне рвал, душу ломал.
Он сморщился и приложил ладонь к глазам.
– Ленин меня держал. Это он мне силу давал… еще… не могу сказать… не знаю, как сказать. Не умею сказать…
Тряхнув сердито головой, Пантелеймон Кондратьевич проговорил:
– Эх, Юнус-солдат, жизнь сложная штука. Это не гладкая дорога, хитер враг, умен враг, и на то мы большевики, чтобы разбираться, мучиться, бороться и… не сдаваться.
– Не сдаваться, – подхватил Юнус, – правильно. Ленин не сдается, Красная Армия не сдается, Юнус не сдается. Да здравствует Красная Армия… Юнус-красноармеец! Да здравствует Юнус! Не Юнус сидит в грязи. Подлость плавает в грязи, Нукрат сидит в грязи…
Он говорил громко. Он почти кричал:
– Юнус не сдался! Юнус еще будет биться как лев! Мы будем еще биться: стрелять в нукратов.
И он вскочил, потрясая кулаками:
– Нет, рано высунул голову из дерьма Нукрат. Еще крепкая рука держит винтовку. Разрушим стены, мешающие новой жизни. Вечно будут жить Советы. Если теперь прозеваем свое счастье, погибнем бесславно, без имени. Не упускай времени, Юнус! Встань, разгони предателей, бей дубиной, иди пешком, скачи на лошади, рази, набери камней за пазуху… бей предателей. Не упускай времени, Юнус, близок день служения народу…
Речь Юнуса была бессвязной. Он забыл, где он. Он забыл, что перед ним сидит Пантелеймон Кондратьевич. Все пережитое, все сокровенные думы его вырвались наружу, и он кричал…
Старушка Паризот высунулась в дверь с чайником в руке и спряталась.
Юнус замолк. Несколько секунд он озирался. Встретившись взглядом с командиром, он смущенно улыбнулся и сел.
– Не могу… – пробормотал он, – не могу спокойно говорить, извините…
– Я, брат, так и думал, – улыбнулся Пантелеймон Кондратьевич. – Очень хорошо… Есть порох в пороховнице, вижу… был ты молодец… Молодец и есть.
Юнус застеснялся. Он бросился в хижину и притащил поднос с лепешками, чайник, пиалушки.
– Давайте чай пить, – бормотал он.
– Да, а ты не знаешь, что делает Файзи?
При имени Файзи из груди Юнуса вырвался горестный вздох.
– Файзи? – сказал он печально. – Старый друг Файзи? Я не знаю, где он. Никто не знает, помер или куда ушел.
– Мы его нашли.
– Где? Он живой, Файзи! – обрадовался Юнус.
– Живой… его нашел комполка Гриневич. А ты хорошо знал Файзи?
– Он мой брат, больше чем брат. Он – я, я – он. У нас одна душа. Э, командир, братья ссорятся. А Файзи и я… Да что и говорить. Мы тогда работали кожемяками в мастерской бая Хаджи Акбара.
И Юнус рассказал Пантелеймону Кондратьевичу о минувших днях.
Когда в Бухару дошла весть об Октябрьской революции, рабочие, бедняки, ремесленники начали готовить восстание. Во двор Файзи тайком пробирались кожемяки, рабочие железнодорожных мастерских, грузчики с хлопкоочистительного завода, водоносы, батраки из пригородных кишлаков. Здесь у Файзи иногда заседал подпольный комитет большевиков. Сюда к Файзи несли раздобытые с величайшим трудом винтовки, охотничьи ружья, патроны.
– Мы никогда не выходили после собраний на улицу из дома Файзи через ворота, – продолжал Юнус. – В темноте собирались сначала в глубоком дворике, чтобы не услышали соседи, а особенно бай Хаджи Акбар – хозяин.
Стараясь не шуметь, не шептать, заговорщики ползком пробирались через скрытый пролом в ограде на кладбище Туркджанди. Под ногами хрустела сухая колючка, точно хрупкие кости. Слабые духом с трепетом шептали молитвы и заклинания, ожидая, что вот-вот мертвецы появятся из могил. Но мертвецы спали под тяжелыми камнями, и им дела не было до живых.
Еще с 1918 года, со времен колесовского похода, революционеры прятали на кладбище листовки и оружие. Гробницы здесь испокон веков строили из-за невозможной тесноты в несколько ярусов, покойникам даже не рыли могилы, а складывали склепы из кирпича. Всюду образовались ямы, подземные поры, которые служили отличными тайниками. Суеверные эмирские миршабы боялись совать сюда свой нос.
– В конце концов все-таки именно из-за Хаджи Акбара у нас все и провалилось, – рассказывал Юнус. – Людей похватали, казнили. Я успел убежать в Каган и поступить в красные солдаты. А Файзи остался в Бухаре в подполье.
– Хаджи Акбар? Это не тот джадид, который еще недавно по Бухаре ходил?.. Каракулем торгует, Толстый, прыщавый… Владелец караван-сарая?
– Павлиний караван-сарай его.
– А, черт!
Вспомнились Пантелеймону Кондратьевичу его приключения в товарном поезде, но он не стал рассказывать Юнусу, как случайно спас Хаджи Акбара.
– А ты что еще о нем знаешь?.. О Хаджи Акбаре?
Юнус стал припоминать…
Жил в Бухаре некий Самад. Выползал он из-под сырых сводов своего дома, точно из норы. Даже пот на его лице казался каплями воды, выжатыми из трещин между прозеленевшими кирпичами. Да и вся физиономия его прозеленела, и черный кавказский бешмет его имел вид заплесневевший и пропыленный, как будто пролежал десятки лет в сундуке. Синяя грубая чалма из домотканой маты грязным пуком с торчащими махрами в несколько слоев обматывала голову. Длинные, цвета ржавого железа усы тощими жгутиками ниспадали на подбородок, теряясь неожиданно в зеленоватой бороде, словно сорванной с чужого лица и небрежно приклеенной. Самад хихикал, подмигивал панибратски, пытался шутить, но шутки у него получались тяжелые, грубые. Все отлично понимали, чем занимался Самад и его сынок, Хаджи Акбар, на чем он «построил» свое богатство. А те, кто ближе был знаком с Самадом, спешили, когда он появлялся, отсесть в сторонку, лишь бы не прикасаться к его одежде. Ибо именно в одежде заключалась тайна жизни Самада. При появлении его и почтеннейшего отпрыска на людях у многих вырывался возглас отвращения: «О господь всесильный, опять явился кафан-угрысы и его щенок»; награждая коммерсанта прозвищем «кафан-угрысы», то есть «вором саванов», горожане равняли его с наиболее презираемыми, наиболее падшими людишками, которые по ночам пробирались на кладбище и под покровом ночной тьмы раскапывали свежие могилы и грабили мертвецов.
Самад держал в эмирском зиндане подряд на одежду казненных. Он покупал за гроши у палачей окровавленные халаты, бельбаги, белье, шапки, сапоги, кауши и увозил в свою мастерскую. Там два подмастерья смывали кровь и грязь с одежды, подшивали, латали. Затем обновленные одежды «горя и слез» появлялись в лавке Самада, что у купола меняльщиков в центре Бухары. Ни один бухарец не заглядывал сюда, полный отвращения и ужаса. Но приезжие из кишлаков и степи, не зная происхождения этих вещей, охотно покупали их по дешевке.
Самад богател, потому что даже сам кази-калан из высоких религиозных соображений, а может быть, просто из брезгливости не позволял облагать налогом запятнанный кровью товар Самада и Хаджи Акбара.
После назначения Самада казием в город Байсун Хаджи Акбар во всеуслышание объявил о том, что отказывается от отцовского дела, но втайне продолжал держать подряд. Об этом узнали, и прозвище «вор саванов» крепко прилипло к нему.
В восемнадцатом году Хаджи Акбар в кругу друзей открыто объявил себя членом младобухарской партии. Чаще и чаще он выступал с речами против деспотии, тирании эмира.
– Его смелые, вольные слова обманули нас, – рассказывал Юнус. – Он прислал нам деньги, большие деньги, чтобы мы купили оружие. И многие из нас тогда сказали: «Он наш человек». Эх, если найдешь у коровы гриву, так и у кобылы окажутся рога. Простодушные, доверчивые мы были еще тогда. Хорошо, что Файзи не позволил привести к нам Хаджи Акбара, запретил показывать ему дорогу в наш тайник. Но Хаджи Акбар знал, что мы есть, знал, что мы готовим восстание, но не знал, кто мы такие, не знал имен революционеров. Он долго старался пролезть к нам, пробраться на заседание комитета. Настоящий пройдоха выжмет сок из камня. И хоть мало Хаджи Акбар знал, не по его ли вине погибло много людей – и настоящих революционеров, и ни в чем не повинных ремесленников и рабочих?
– Наверно, – проговорил Пантелеймон Кондратьевич, – потому этого «революционера» не тронул эмир в восемнадцатом году, когда головы многих джадидов полетели. Почтенный Хаджи Акбар, видать, опытный провокатор. Здорово получилось у меня с ним.
– А что? – спросил Юнус.
– Длинная история… Как-нибудь расскажу, – недовольно пробормотал Пантелеймон Кондратьевич. – Но вот что, друг, нам очень не хватает тебя. Ищем мы таких, как ты, – сказал Пантелеймон Кондратьевич. – Ну, прощай. Жду тебя завтра…
Командир давно уехал, а Юнус все так и стоял, как встал, прощаясь с ним.
Из домика вышла Паризот. Из-под руки она посмотрела в ту же сторону, куда смотрел сын.
– Ты пойдешь к нему, сынок? – спросила она.
– Да, – вздрогнул Юнус.
– Не ходи, сынок.
– Надо пойти.
– Не ходи, сынок. Кувшин глиняный, сколько бы он ни выдерживал удары, все равно сломается.
– Командир меня зовет, и я пойду.
Глава тридцатая
Пекарь эмира бухарского
Убить змею, а оставить змееныша?!..
Потушить огонь, а оставить горящий уголь?!
Турды
– Петр Иванович, есть один разговор.
Значительность тона, каким Алаярбек Даниарбек обратился к доктору, заставила его насторожиться. Обычно Алаярбек Даниарбек без всяких предисловий говорил, что хотел и сколько хотел, отнюдь не беспокоясь, нравится это или не нравится собеседнику.
– Давайте, что у вас там?
Отодвинувшись от стола, Петр Иванович приготовился слушать.
– Помогать надо.
– Кому? Чем? – удивился доктор.
– Тут я одного человека лечил, а он здоровья не находит.
– Вы, Алаярбек Даниарбек, лечите? Это, недопустимо.
– Я тоже ему говорил: «Я не доктор, хозяин мой доктор». А он заупрямился: «Не надо мне кяфира доктора, уруса, ты, Алаярбек Даниарбек, мусульманин. Ты умный. Ты рядом живешь с ученым хакимом, набрался мудрости, лечи». Я лечил: хиной лечил, порошками лечил, а он вроде помирает.
Покачав сокрушенно головой, Алаярбек Даниарбек просительно уставился на доктора.
– Да где же он, ваш… пациент?
Петр Иванович уже быстро собирался. Натягивая на плечи шинель, он сказал:
– Ну, веди!..
И когда уже они торопливо шагали по улице, попросил:
– Рассказывай!
– Отчаянная он голова, настоящий революционер, слава аллаху, никого не боялся, даже самому эмиру правду в глаза говорил.
– И эмир терпел?
– Конечно. Его все знали – Измаил Нанвой, пекарь, такой черный, худой, и глаза, как у камышового кота, дикие, выпекал в своей хлебопекарне лепешки для эмирского дворца. Никто не мог лучше выпекать лепешки, чем Измаил Нанвой. Четыре больших тандыра день и ночь изрыгали жар из своего нутра, десять тестомесов, первых бухарских силачей, не разгибая спины месили тесто сорока сортов, десять нонпазов – хлебопеков прилепляли лепешки в раскаленный зев тандыра, и вырастали горы хлеба, подобные холму, на котором стоит бухарская цитадель – арк, и десять раз десять носильщиков в корзинах разносили его по домам вельмож. Двадцать тысяч, тридцать тысяч вкусных, горячих лепешек выпекал Измаил Нанвой каждодневно, и богатство его росло, и сундуки наполнялись деньгами, а ичкари его – крутобедрыми красавицами. А он, Измаил, оставался все такой же черный, и глаза его горели так же, как и в те дни, когда он пришел в Бухару неведомо откуда с дубинкой в руке и с веревкой на плече. Разбогател Измаил Нанвой, и стала его чалма цепляться за небесный свод. Но блоха отпрыгнет, а вошь под ноготь попадает. Раз задолжал Измаилу сам бухарский сипахсалар – командующий. Год не платил, два не платил. Совсем аллаха забыл. Взял свою дубинку Измаил Нанвой, пошел на дом к сипахсалару, загнал его на глазах у всех слуг в нужник да избил так, что тот до смерти не мог разогнуть спину. Схватили по приказу эмира Измаила Нанвоя и в назидание всем дали ему полтораста палок да еще с ворот арка на землю кинули, чтобы шею сломал. Но крепкая шея у Измаила Нанвоя. Уполз он на четвереньках, залечил рапы, только с тех пор не стал хлебом заниматься. «Теперь, говорит, я понюхал запах крови!» Разбойником сделался. Как только ему чиновник или вельможа эмирский попадал в руки, говорят, бросал в яму и месил бревном, как тесто…
Оказывается, Алаярбек Даниарбек познакомился с Измаилом Нанвоем на почве… набожности.
Алаярбек Даниарбек соблюдал все религиозные обряды, выполнял все связанные с намазами поклоны, коленопреклонения, телодвижения. Перед намазом он высвобождал кончик чалмы и опускал на плечо, дабы ангел не подумал, что он хвастается перед престолом аллаха своей ученостью. (Он носил чалму с заправленным в складки ее кончиком, как то подобает человеку грамотному.) Но, выполняя скрупулезно все мелочные правила, Алаярбек Даниарбек не знал и не понимал смысла молитв, которые произносил его язык и губы, ничего не чувствовал, кроме страха, как бы не нарушить распорядка намаза, особенно если он молился на глазах у невежественных, неграмотных людей.
– Вот Измаил Нанвой слышал меня и проникся уважением к моим знаниям, – болтал Алаярбек Даниарбек, пока они шли по ночным улицам к больному. – Когда Измаил бывает в Бухаре, он всегда охотно беседует со мной о пророке, о святых… Только…
– Что – только?
– Беда в том, что Измаил Нанвой вернулся в прошлый раз из торговой поездки больным. После революции он перестал разбойничать и стал аттаром, торгует с Афганистаном и Кашгаром амброй, духами и благовониями. Говорил я ему: «Не ездите, Измаил-ака, полечитесь!» Но он уехал, говорил: «Много дела! Много дела!» И вот вернулся совсем немощный и послал за мной. Я был у Измаила Нанвоя. Он совсем чуть дышит. Надо ему помогать… Надо его лечить.
Им пришлось пройти почти через всю Бухару. Через маленькую калиточку и крошечный дворик Алаярбек Даниарбек ввел доктора в когда-то богатую михманхану.
На одеялах лежал старик.
Одного взгляда доктору было достаточно, чтобы убедиться, что больной находится при последнем издыхании.
– Кого ты привел, – хрипло простонал Измаил Нанвой. – Проклятый, уходи!
Он не желал слушать никаких уговоров Алаярбека Даниарбека.
– Я хочу спокойно умереть, – стонал Измаил.
– Умереть вы всегда успеете! – сказал невозмутимо Петр Иванович и принялся выстукивать и выслушивать беснующегося старика. – Крупозное воспаление легких!
Доктор выписал лекарства и потребовал, чтобы в комнате, где лежал больной, все время горели в мангале угли, чтобы хоть немного поддержать подходящую температуру.
– Уходи, кяфир! Шпионить пришел, выслеживать! Убирайся! Я не стану пить твоих проклятых снадобий, замешанных на поганом жире свиньи. Я прикажу распахнуть пошире двери, дабы и признаков твоего духа не осталось. Иди!
Так он и запомнился доктору: ненавидящим, непримиримым, бешено изрыгающим проклятия.
– Чего он там говорил про шпионов? – сказал вслух Петр Иванович. – Кто он такой?
– Не знаю, – пробормотал Алаярбек Даниарбек.
Но недоумевал доктор недолго.
Когда они вернулись в Павлиний караван-сарай, доктор заметил какую-то странную суету. В воротах стояли две оседланные лошади, из комнаты Хаджи Акбара выглянула черномазая физиономия и исчезла. Караван-сарайные слуги топтались тут же и смущенно поглядывали на доктора.
– Что тут происходит?..
Вопрос замер у доктора на губах, когда он вошел в свой так называемый кабинет.
Прыщавый хозяин Павлиньего караван-сарая, Хаджи Акбар, сидел около письменного стола на корточках и разбирал валявшиеся в живописном беспорядке на полу бумаги доктора. Кровь хлынула в лицо Хаджи Акбара. Кряхтя, он медленно с трудом начал вставать и от усилий поднять свой жирный живот побагровел еще больше.
– Мы… я… то есть, – шлепали его губы. – Я, то есть мы… подобрать хотели… почтенные бумаги… беспорядок.
Доктор только пожал плечами:
– Шарите? Впрочем, ассалом алейкум, господин Хаджи Акбар… Что-то давно я вас не видел.
Выскочив вперед, Алаярбек Даниарбек решительно отодвинул плечом Прыщавого и мгновенно собрал бумаги.
– Что вы потеряли, Хаджи Акбар, у меня? – продолжал Петр Иванович. – Не могу ли вам помочь?
– Я, мы… ничего… мы… Принесу сейчас чаю…
Бочком, бочком Хаджи Акбар проскользнул мимо Петра Ивановича. У двери он остановился.
– Достопочтенный доктор, – наконец обрел снова он дар речи, – вы изволите лечить господина Измаила Нанвоя… Так сказать… не передавал ли господин Измаил Нанвой вам в некотором роде важной… очень важной бумаги… Значительной бумаги… э… э…
Под пристальным взглядом Петра Ивановича прыщи на лице Хаджи Акбара темнели, светлели, снова темнели; язык отказывался служить, Хаджи Акбар все пятился и пятился.
– Вон!..
Точно выстрел, прозвучало короткое слово, и Хаджи Акбар, распахнув дверь своим могучим задом, исчез.
Заперев дверь на задвижку, доктор повернулся. Теперь наступила очередь краснеть Алаярбеку Даниарбеку. По тому, как беспомощно шевелились оттопыренные маслянистые его губы, как он прятал свои нагловатые глаза и как руки его шарили по поясному платку, доктор сразу же понял, что он причастен к подозрительному визиту Прыщавого.
– Дайте сюда!
– Ч-ч-что?
– Бумагу.
– К-к-какую бумагу? – Алаярбек Даниарбек начинал заикаться только в тех случаях, когда чувствовал за собой вину.
– Измаила Нанвоя. Не знаю только, когда вы ее успели у него взять.
– Но я должен ее передать назиру Рауфу Нукрату.
– Сколько вам дал Измаил Нанвой?
– Клянусь…
– Не клянитесь.
– Клянусь… он доверил… он сказал: «Я тебе верю, Алаярбек Даниарбек. Ты человек благочестивый, поистине верующий. Кто так совершает намазы и омовения, кто является знатоком писания, тот не может быть проклятым кяфиром». Измаил взял с меня клятву, страшную клятву и отдал мне бумагу отнести ее назиру…
– Дайте сюда бумагу.
Глаза Алаярбека Даниарбека забегали, губы зашевелились. Он вздохнул и пробормотал:
– Пусть я стану клятвопреступником. – И пальцы его медленно принялись развязывать бельбаг.
Так же медленно он извлек свернутый в трубочку пергамент, но не отдал в руки доктору, а, еще раз тяжело вздохнув, положил на письменный стол и отступил, отряхивая ладони одна о другую: дескать, умываю руки под давлением обстоятельств. Губы его шептали молитву.
– Тысячу раз я вам говорил, Алаярбек Даниарбек, что я доктор, тысячу раз заявлял, что не желаю ввязываться ни в какие турецкие тайны этих джадидов, а вы…
– Что я, Петр Иванович? – жалобно промычал Алаярбек Даниарбек. – Измаил Нанвой – хороший человек, знаток ислама, он при смерти, благочестивый мусульманин… Я обещал…
Доктор перебил:
– Возьмите эту бумажонку.
Руки у Алаярбека Даниарбека тряслись, когда он поднял свиток со стола.
– Взяли?! Оседлайте Белка!
– Зачем? – удивился Алаярбек Даниарбек.
– Не разговаривайте. Отвезите эту проклятую бумажку тому, кому она предназначена.
– Назиру Рауфу Нукрату? – В голосе Алаярбека Даниарбека послышалось волнение.
– К черту, к дьяволу, к тому, кому ее вез этот сумасшедший старик Измаил, как его…
– Ну нет, нельзя.
Свиток опять оказался на столе.
– Долго я с вами буду канителиться? – угрожающе протянул доктор.
– Нельзя. Там такое написано, о!
– И вы смели засунуть нос?
– Там, – страшным шепотом заговорил Алаярбек Даниарбек, повернувшись к доктору, – там опасные слова.
– Отвратительно! Сами вы впутались, дорогой Алаярбек Даниарбек, и хотите меня впутать. Понятно вам? Я врач, не следователь, не сыщик, а врач… вра-а-ч.
Не подымая головы, Алаярбек Даниарбек пробормотал:
– Посмотри, Петр Иванович, что там написано! Ох, что там написано! Хотел я сразу, как меня просил хороший человек Измаил Нанвой, отнести эту… плохую бумажонку назиру Нукрату. Я и поспешил. Иду, а мне демон любопытства шепчет: «Разверни, сними печать, загляни!» Хотел снять печать, руки трясутся. Нельзя. Святой человек просил на смертном ложе, а я… Нет, пошел дальше. А тот джин любопытства гудит в ухо; «Алаярбек Даниарбек, до конца дней будешь мучиться: что там написано?» Любопытство – то же вожделение. Не удовлетворишь – умрешь в мучениях. А тут как раз чайхана самаркандца Зиядуллы Тарбузи, прозвище у него такое. Старый друг, свояк вроде. Ну, зашел к нему. То да се, и рассказал о своих мучениях. Он и говорит: «Неужели вы доверите содержание бумаги первому встречному?» Он свояк, друг, он брат моей жены. Ну вот, прочитали мы бумагу и чуть не умерли. «Меня нет! Я умер! И ты уже умер. Беги, брось эту вонючую бумагу в нужник…»
– Чтоб вас черти взяли! – рассвирепел всегда спокойный доктор. – Давайте бумагу, а сами встаньте у двери.
В руках у Петра Ивановича оказалось письмо, подписанное самим Усманом Ходжаевым.
Он писал вожаку бухарских джадидов Махдуму из-за границы.
В письме подробно излагались недавние события в Душанбе.
«Все шло хорошо, – говорилось в письме, – Энвер прибыл в Душанбе. Даниар уже приступил к разоружению большевиков, и вдруг… все дело поломал какой-то сумасшедший командир Гриневич. Большевистские солдаты оказали сопротивление. Ибрагим, угрожая, заявил: „Сейчас у меня союз с большевиками, и я с их помощью перережу проклятых вероотступников джадидов. Порежу джадидов, а потом прикончу большевиков“. „Нож дошел до кости“, и пришлось нам – Энверу, Али Ризе, Даниару и всем – покинуть Душанбе». Ныне, судя по письму, сам Усман Ходжаев пребывал за границей, в некоем очень уважаемом и знаменитом городе и «трудился не покладая рук над возвеличением идеалов свободы, готовя совместно с уважаемым и достойным человеком Саибом Шамуном удар нечестивым большевикам Бухары и Самарканда, в чем принимают самое решительное участие весьма почтенные люди из джадидов».
Усман Ходжаев сообщал, что «Измаил Нанвой – человек храбрый и преданный нашему делу – расскажет, когда Саиб Шамун прибудет в Самарканд для действий и какую помощь необходимо оказать самаркандцам, кующим мечи и навастривающим стрелы с тем, чтобы к приезду Саиба Шамуна все было наготове».
Усман Ходжаев устанавливал связи с англичанами и эмиром и предлагал через Махдума свое посредничество председателю совета назиров.
Письмо содержало множество имен, фактов. Усман Ходжаев много путал, перемежая свои мысли благочестивыми отступлениями, ссылками на коран, но из письма явствовало, что многие из работников Бухарской народной республики, и в том числе некоторые назиры, участвовали в подготовке мятежа. Усман Ходжаев обнаглел до того, что все имена писал совершенно открыто.
Бумага жгла руки Петру Ивановичу, и он все больше мрачнел.
– Наделали вы дел, друг Алаярбек Даниарбек.
Но Алаярбек Даниарбек по теплым ноткам в голосе доктора понял, что он совсем не сердится, а, напротив, очень доволен.
– Ничего себе документик. Седлайте лошадей.








