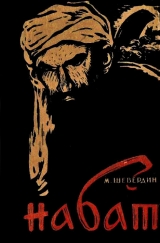
Текст книги "Набат. Книга первая: Паутина"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Глава девятнадцатая
Поезд идет на юг
Сдерживай язык, не то зубы поломаешь.
Туркменская пословица
Сильно швыряло и трясло. Резкий ветер врывался то с одной, то с другой стороны и назойливо забирался ледяными струйками за ворот халата. Пыль и песок набивались в рот, нос, глаза. Космы шерсти белой папахи трепетали на ветру. Несло терпким запахом железа и мазута.
Но трудно требовать больших удобств, когда путешествуешь на тормозной площадке товарного вагона.
Надо признать, что пассажир в папахе, сидевший нахохлившись на полу, скрестив ноги по-турецки, меньше всего думал жаловаться или как-нибудь выражать недовольство. Напротив, темные внимательные глаза его оживленно и даже весело взирали на мир. Он с явным удовольствием вслушивался в монотонный стук колес и изредка поглядывал на розовые от последних лучей заката, медленно проплывающие мимо плоские увалы. Дым и копоть временами заносило на площадку, и на лице путешественника появлялась страдальческая гримаса.
Сумерки сгущались. В тумане промелькнуло белое пятно – не то озеро, не то солончак – и странные холмы, похожие на пирамиды с усеченными верхушками.
Донесся протяжный гудок паровоза, второй, третий…
Уже в полной темноте, громыхая на стрелках, товарный поезд медленно вполз на небольшую станцию. Лязгнули буфера, вагоны жалобно заскрипели и остановились.
Пассажир не шевельнулся. Возможно, что он чувствовал себя очень утомленным.
И действительно, человек проделал немалый путь.
Вечером он подъехал на худом, изможденном, но красивом коне к маленькой станции, затерявшейся в степи к югу от Бухарского оазиса. Недалеко к западу, откуда прибыл путник, лежат пески, а за ними великая река Аму-Дарья.
В те бурные, беспокойные дни в поезда садились странные, неожиданные люди: свирепые бородачи в живописных восточных одеяниях, но с ясным добродушным взглядом младенца; типичные разбойники, вооруженные до зубов, оказывающиеся на самом деле мирными пастухами; длиннолицые карнапчульские арабы; величественные чалмоносцы – шейхи, едущие на поклонение каким-то неведомым священным источникам Шахрисябза. Великие события 1920 года привели в движение глубокие толщи населения Бухарского эмирата. На огромных пространствах все бурлило, кипело…
Одинокий всадник осадил коня у невзрачного станционного здания. Внешность путника бросалась в глаза: одетый по-туркменски, он носил высокую текинскую папаху ослепительно белой шерсти, красный шелковый халат, лаковые сапоги на высоких каблуках. На ременном поясе висел в серебряных ножнах длинный нож – кинжал.
Лицо путешественника, дочерна загорелое, оживлялось поблескиванием белков глаз и иссиня-черной полоской по-туркменски подбритой бородки.
Туркмены редко появлялись в этих краях. До революции чаще всего сюда заскакивали бесшабашные калтаманы из бурдалыкских тугаев. И потому человек в туркменском одеянии вызвал несколько косых взглядов. Толпившиеся на перроне пастухи-каракулеводы предпочли отойти в сторону, когда туркмен, привязав коня к чахлому деревцу, вышел на перрон и решительно поднялся по ступенькам на площадку товарного вагона.
Странный поступок незнакомца, бросившего лошадь, вызвал подозрение у двух стоявших на перроне военных. Один из них, в котором не без труда можно было узнать Пантелеймона Кондратьевича – так он почернел и осунулся, заметил:
– Туркмен коня бросил? Непонятно!
Обменявшись парой незначительных фраз, командиры продолжали свою прогулку, но вскоре, отвлеченные появлением группы мулл и ишанов в ярких полосатых халатах и белых чалмах, забыли о странном путнике, решившем ехать в товарном поезде. Впрочем, в ту эпоху такого рода способ передвижения был весьма обычен, так как пассажирские поезда ходили очень редко и нерегулярно.
Совсем уже стемнело, когда поезд двинулся дальше, он останавливался чуть ли не на каждой версте. Железнодорожная линия, только недавно восстановленная, еще не была приведена в порядок.
На первой станции поезд стоял очень долго. В темноте блуждали огоньки фонарей. Где-то рядом с шумом дышал паром паровоз. Издалека доносился тонкий голос, фальцетом тянувший почти на одной ноте старую песню о молодом чабане, ставшем жертвой черных очей своей возлюбленной.
– Салом, таксыр! – прозвучал в темноте сипловатый голос.
Пассажир в туркменской папахе резко повернулся. На краю площадки выросла темная бесформенная фигура.
– Салом, здоровье да сопутствует вам! – продолжал незнакомец. – Хорошо поет человек, а?
Пассажир в папахе молчал.
– Хорошая песня живит душу, а человек становится подобным цветку. Знаете загадку: конь бежит – водой плюется, без узды везет – несется. Что такое?
В ответ послышалось только недовольное ворчание.
– Ну, ну, детский разговор, – успокоительно засипел новый пассажир. – Да, на этом сатанинском коне… На шипящем, подобно самовару, и стучащем тысячью подков мы едем…
Пассажир в папахе ворчливо забормотал:
– Конь, какой конь? Почему люди так любят волочить язык по пути пустословия? К чему твое любопытство?
– А ну-ка посторонись, ты, молодой.
Поезд снова мчался по степи сквозь тьму.
Стараясь перекричать лязг и грохот, новый пассажир снова засипел:.
– Куда едешь?
– Куда я еду, сам знаю, – довольно невежливо прокричал человек в папахе.
– Однако отец твой… те… те… не подумал вовремя, чтобы сын его вырос воспитанным юношей. А я слышу, что ты не какой-нибудь степняк-туркмен, у тебя говор бухарский.
– Воспитанный, невоспитанный. Рот болтуна, клянусь, решетом не накроешь. Степняк. Бухарец. Какое тебе дело, ты, умник?
Говорил туркмен тоном, не терпящим возражений, но Сиплый не унимался:
– Эта проклятая машина, именуемая поездом, едет в Карши, значит, ты едешь в Карши! А зачем… те… те… едешь в Карши? А?
Но тут свет незаметно взошедшей луны упал на площадку вагона, и Сиплый вскрикнул:
– Те… те! Да ты вооружен?.. Те… те…
На этот глупый вопрос туркмен странно хмыкнул и вдруг в ярости зарычал:
– А тебе что, проклятый?
– Я… те… те… я ничего, – засипел новый пассажир, отодвигаясь к краю площадки, – только я хочу сказать… те… те… Знаешь, в Карши… те… те… полно военных. Увидят товарищи твое оружие… твою баранью шкуру на башке, сразу скажут: «Он калтаман»… те… те… и пап тебя… лучше тебе слезть где-нибудь раньше. Эй!
Последний возглас был вызван тем, что туркмен вскочил и прислонился в угрожающей позе к стенке вагона. Теряя самообладание, Сиплый завопил:
– Не смей! Высокий начальник войск большевиков – мой друг.
– Проклятый! – надвинулся человек в папахе. – А ну, выкладывай на ладонь всю дрянь, что у тебя в душе. Ты заодно с ними? – Теперь в голосе его слышались одновременно и страх и злоба. – Вот что ты делаешь в степи!
Вагон яростно швыряло и раскачивало на поворотах. Поезд шел под уклон все быстрее. Паровоз ревел почти непрерывно и заглушал слова.
– А сказали мудрые, – снова заговорил туркмен, – «человек от цветов становится нежным и мягким, а от камней – твердым и жестоким». Клянусь, ты от меня не уйдешь! Это верно так же, как то, что меня зовут Иргаш…
– Иргаш! Так тебя зовут Иргаш… те… те… Иргаш, ты едешь… те… те… в Карши? Там эшелоны. Тебе поручил комитет.
– Тихо! – предупредил человек в папахе и протянул угрожающе: – Курице, если она много кричит, отрывают голову…
– Остановись! – засипел новый пассажир, повиснув на поручнях над стремительно убегающим железнодорожным полотном. – Остановись! Говорю, я тебя знаю… Я тебя знаю… Ты…
– Что ты знаешь?.. Ты много знаешь. Ты, собака, большевистский шпион. Ага, тебя послали за мной шпионить. Так получай.
Он прыгнул на Сиплого и схватил обеими руками его за горло.
Отчаянный, нечеловеческий вой перекрыл шум колес.
Вагон швырнуло, и оба борющихся грохнулись на насыпь.
Почти одновременно прогремел выстрел, и из проходившего над их головами вагона выпрыгнула тень.
– Встать! – прозвучал голос Пантелеймона Кондратьевича. – Стрелять буду!
Все остальное произошло гораздо быстрее, чем можно рассказать. Один из дерущихся вскочил, ударил плечом Пантелеймона Кондратьевича в грудь, взвизгнул и, уцепившись за поручни вагона, исчез. Точно его и не было.
В мозгу Пантелеймона Кондратьевича запечатлелись освещенные луной резкие черты лица, белая папаха.
Сразу наступила почти полная тишина, нарушаемая лишь затихающим ритмичным стуком колес. Холодно поблескивали в темноте стальные полоски рельс, над которыми вдали горел красный огонь хвостового вагона. Тихо гудели телеграфные провода.
Выбежав на железнодорожное полотно, Пантелеймон Кондратьевич поднял к небу маузер и дал три выстрела – сигнал к остановке поезда. Но то ли машинист не слышал, то ли поездная бригада не поняла сигнала. Поезд даже не замедлил хода. Красный огонек делался все меньше и меньше.
– Тьфу, ну и чертовщина! – вслух сказал Пантелеймон Кондратьевич. – И понадобилось мне прыгать.
Он смотрел, как потухает вдали красная искорка, и беспощадно ругал себя за опрометчивость. Ему никак нельзя было отставать от поезда. В Каршах его ждало сверхважное дело.
Сегодня Пантелеймон Кондратьевич испытал уже не менее удивительное приключение. На рассвете в сопровождении конников он проезжал по улице полуразрушенного песчаными бурями и нищетой степного кишлака, лежащего верстах в двадцати от железной дороги. Внезапно из ворот сравнительно большого дома с криком «Спасите!» выбежала молодая женщина, в которой Пантелеймон Кондратьевич с удивлением признал комсомолку Жаннат. Ни слова не говоря, он вынул ногу из стремени, дал его Жаннат и помог ей сесть позади себя на лошадиный круп. Из путаных слов молодой женщины он узнал, что случилось. В заброшенном соседнем дворе обнаружили еще не остывший, залитый кровью труп зверски зарезанного Ташмухамедова. Дело это казалось Пантелеймону Кондратьевичу настолько серьезным, что он решил расследовать его лично. Но когда он приехал на маленькую станцию и узнал из разговоров по прямому проводу об эшелонах со снарядами и о знамениях «страшного суда», то сразу же принял решение ехать в Карши.
Поручив комэску Сухорученко доставить Жаннат в Бухару, он сам воспользовался первым шедшим на юг составом.
Пантелеймон Кондратьевич рассчитывал в середине ночи быть на месте. Увидев сцепившиеся тела, летящие под откос, он не стал рассуждать, а бросился, как ему казалось, спасать от смертельной опасности человека.
Застонав, человек шевельнулся.
– Эк тебя угораздило. Кто это тебя?
– Калтаман, настоящий калтаман! Мы, почтенный человек… те… те… а он калтаман, грабитель. Он животное, ох, чуть не убил!
– Э, да это Хаджи Акбар, старый знакомый. Эк тебя угораздило.
Голова Хаджи Акбара разрывалась на части. Рот был еще полон песка, но он уже сообразил, что с Пантелеймоном Кондратьевичем лучше говорить поменьше. Он не стал называть имени Иргаша. Кто его знает, этого уруса командира? Нет, уж лучше помолчать.
Версия о калтамане вполне походила на правду. Пантелеймон Кондратьевич видел незнакомца туркмена на станции. На песке поблескивал длинный туркменский нож, потерянный Иргашем в схватке.
– Он не ранил тебя? – спросил командир.
– Ох, совсем убил, собака! Век вам благодарен буду, товарищ командир. Жизнь мне спасли.
Кряхтя, Хаджи Акбар поднялся с помощью Пантелеймона Кондратьевича, встал на ноги и принялся счищать с одежды песок.
– Ладно, благодарности потом. Не могу же я с тобой тут всю ночь лясы точить. Ноги-то целы?
Охая и стеная, Хаджи Акбар сделал несколько шагов.
– Ну, ноги в порядке, – обрадовался Пантелеймон Кондратьевич, – пошли. Станция где-то близко. Может, поезд нагоним…
И хоть поезда в те дни ходили так что порой пешеходы могли их перегнать, но Хаджи Акбар совсем охромел, а Пантелеймон Кондратьевич никак не решался бросить его одного в степи.
Когда они добрались до станции, поезд уже ушел…
Глава двадцатая
Охотничья прогулка
Забрался на верблюда – сколько ни сгибайся, не спрячешься.
Юсуф Самарканд
Змея прямо не ползет.
Баба-Тахир-и-Лур
Холодно, пронизывающе сыро зимой в Бухаре. Файзи поплотней запахивает на груди дерюжный халат и шагает быстрее, чтобы хоть немного согреться. В узких щелях-улочках после захода солнца не видно ни души. Ведь совсем еще недавно, попадись только запоздалый прохожий в лапы стражников-миршабов на улице в Бухаре с наступлением темноты, – неприятностей не оберешься. Хорошо, если только кожа пониже спины посаднит несколько дней, а то как бы чего похуже не случилось. Века было так, а вековые порядки въедаются в жизнь людей, как грязь в старую одежду.
Далеко идти Файзи! Да тут еще из-за каждого угла кидается злым псом пронизывающий ветер. Порванные кауши не защищают босых ног от мороза, руки стынут.
Поздно он ушел от русского командира, не следовало засиживаться. Хороший человек этот русский командир. Не обиделся ничуть, что Файзи не давал так долго о себе знать. Душа-человек. Стать бы пылью на подошвах такого хорошего человека.
Холодно. Дуновение северного ветра неприятно, отвратительно. Пальцы одеревенели и ломят. Из глаз текут слезы.
Сейчас начнется кашель. Файзи собирает все силы, напрягает все мышцы, чтобы предупредить приступ кашля.
– Кхе, кхе, – откашливается он. Вот сейчас… Но кашель не начинается.
В чем дело? Удивительно. Первый раз его обманули все такие знакомые предвестники. Он неловко щупает грудь, бьет кулаком.
«А, – вспоминает он, – лекарство». Действует лекарство, которое ему дал русский доктор, сидевший у командира. Порошки, белые порошки. Какое чудо! Сколько он, Файзи, принимал волшебных пилюль господина табиба Абду Карима Хиобони, главного знахаря самого эмира бухарского, будь он проклят! Сколько переплатил он полновесных, кругленьких николаевских рублей за пилюли «чокида», изготовленные, по словам табиба, в таинственной Индии – на родине всех лекарственных снадобий, – и все без толку. Так кашель и не проходил. И не только не проходил – делался с каждым днем злее, хуже, разрывал грудь.
Какой холодный ветер, плохой ветер! Холод уж проник до самых костей. Согреться бы. На каждом булыжнике, на каждом комке смерзшейся грязи жгучая боль пронизывает ступни ног, нет сил терпеть.
Под третьим базарным куполом Файзи замедляет шаг и озирается. Нет ли здесь караульщиков? У них всегда есть жаровни с углями – с раскаленными, пылающими угольками. Так приятно протянуть руки над жаровней и ощутить крепкий жар, пошевелить отогревающимися пальцами.
Нет. Ни одного караульщика не видно. Холод всех загнал в темные норы.
Здесь, под тяжелыми сводами третьего купола, есть чайхана. Но и в ней темно, безмолвно. Потухший фонарь поскрипывает на столбе. Зимой чайханы закрываются вскоре после захода солнца.
Медленно переставляя застывшие ноги, Файзи идет мимо чайханы и вдруг останавливается. Из дверных щелей на доски помоста падают веселенькие желтые полоски света.
Да, да! Он совсем забыл. Ведь это не просто чайхана. Здесь господин Абу Карим Хиобони до революции торговал чудодейственными пилюлями…
Что говорил командир? Хорошо говорил: о жизни, свободе, борьбе. Большие дела предстоят, много благородных дел. Но почему снова так сжалось сердце Файзи? Опять черная пелена заволакивает мозг. Сын Файзи бьется под тяжестью земли, сын Файзи силится открыть глаза – и в глаза ему набивается песок, сын Файзи хочет вздохнуть – а рот полон земли. Бьется в мучительных судорогах удушья. Рустам! Рустам!
– А… а… а!..
Кто-то стонет так жалобно.
Он стонет. Отец Рустама, отец, не сумевший уберечь своего любимого сына от мук. Он, отец, бросивший сына на смерть, ужасную смерть…
Толкнув дверку, Файзи входит в чайхану. Сразу же в лицо пахнуло теплом и сладким, тошнотворным запахом опия. Здесь совсем не так светло и весело, как казалось с улицы. Теплятся угольками крохотные язычки двух или трех светильников, стоящих прямо на липком черном полу. В глубине, точно в пещере, красным огоньком коптит крохотная лампочка с разбитым и кое-как заклеенным газетной бумагой стеклом. Чуть различимы глиняные возвышения с грудами тряпья, в которых только по белесым пятнам лиц можно распознать людей. Поблескивает прозеленевший медный самовар. Свешиваются с черных балок потолка космы паутины, плавают в темно-фиолетовом дыму.
В помещении стоит тишина, нарушаемая монотонным бормотанием, кто-то плачет и стонет.
Никто не обернулся на скрип двери, никто ничего не спросил. Файзи постоял у порога, наслаждаясь охватившим его теплом.
Из полуоткрытой двери, ведшей в соседнее помещение, падал свет и доносились голоса. Файзи заглянул туда. Там какие-то люди возлежали на паласах вокруг небольшого возвышения, на котором изгибалась танцовщица. Вся она звенела и трещала ожерельями и украшениями из серебряных монет и побрякушек, на голой груди ее и щиколотках бесстыдно обнаженных ног мерцали дешевые украшения. Лицо, набеленное и накрашенное, кривилось в призывной улыбке. Посетители, глядя на размалеванную красавицу, возбуждали себя возгласами «дост!».
В углу сидел, сложив ноги по-турецки, с обрюзгшим от бессонных ночей лицом сам Абду Карим Хиобони.
Поразительно! Искра интереса вспыхивает в мозгу Файзи. Непонятно. Абду Карим Хиобони, придворный лекарь эмира, оказывается, в Бухаре. А ведь все говорили, что господин Хиобони не то бежал после революции, захватив свое золото, боясь гнева народа, не то его за всякие неблаговидные дела посадили и тюрьму. А смотрите, он преспокойно сидит и с хозяйским видом озирает свое заведение. А про Хиобони говорили разное. Ведь это у него вскоре после штурма Бухары накрыли заговорщиков, замысливших свергнуть молодую народную власть, ведь у него нашли оружие. Тогда даже прошел слух, что Хиобони будто бы расстреляли. В голове у Файзи все перепуталось.
– Что ж не заходите? – проговорил Абду Карим Хиобони, почти сразу заметив заглядывающего в комнату Файзи. – О, и вы к нам пожаловать соизволили, господин революционер… хэ-хэ… Заходите. Покурить райского снадобья захотелось?
– Нет. Я здесь посижу. Погреюсь.
– Понимаю, понимаю… Не при деньгах… Хэ-хэ… воевали… Раны за большевиков получали, а они вас, господин революционер, отблагодарили. Сыном пожертвовали, а теперь по улицам в драных штанах ходите… С вас, хэ-хэ, революционера, денег не возьму!
– Не надо… – с отвращением сказал Файзи. Но одна мысль неотступно сверлила его мозг, и он спросил Абду Карима Хиобони: – А вы, оказывается, в Бухаре?
– Хэ… хэ… а почему мне не в Бухаре жить… Хорошая власть сейчас, очень хорошая… для меня… Кому плохая, а мне хорошая. – Не дождавшись ответа или поощрения, он продолжал болтать: – Поймите, при эмире – пусть он живет счастливо – то налоги с нас за опиум брали, то поборы и взятки брали, то палками лупили, то головы рубили. Говорили, пророк, да славится его имя, не позволял правоверным получать удовольствие. О аллах, какое дело пророку до опиума! Все только себе в мошну хотели насовать побольше… Теперь – велик аллах и его пророк! – сам господин Рауф Нукрат смотрит на наши дела вот так. – И он распялил пальцы и прикрыл ими глаза. – Понимаете! Ну-ну, курите, дорогой революционер мой!
Многозначительно почмокав губами, Абду Карим Хиобони скрылся за дерюжной занавеской. Из-за нее доносились приглушенные голоса и щелкание. Там играли в кости.
Прислужник зажег небольшой светильник, положил на палас найчу, комочек опия и ушел к себе в угол.
Но Файзи не шевельнулся. Он смотрел перед собой, и что-то похожее на тошноту начинало подниматься в груди.
Ладони, шея, лицо стали липкими. Отвращение вызывало в нем бренчание ожерелий, и тяжелое дыхание накрашенной красавицы, и возгласы курильщиков.
Но странно, он не встал, не ушел.
Он сидел и смотрел пустыми глазами на найчу, на огонек светильника и напряженно прислушивался. Показалось ему или нет? Кто-то произнес несколько слов, помянул имя зятя халифа правоверных.
Взглядом он старался проникнуть сквозь липкие клочья дыма, медленно колебавшегося в воздухе и принимавшего то зеленоватый, то сиреневый оттенок. Вдоль плохо оштукатуренных, дышащих промозглой прелью стен сидели и полулежали в засаленных ватных халатах терьякеши. В первый момент в полумраке они казались все на одно лицо; но нет, тут сидели и смуглые кареглазые бухарцы, и горбоносые, с тонкими лицами туркмены, и круглолицые скуластые каракалпаки, и с пронзительным взглядом белуджи, и даже неведомо откуда попавший сюда китаец. По временам они прикладывались к ходившему вкруговую обыкновенному тыквенному, захватанному грязными руками чилиму.
Временами колеблющееся пламя лампочки – жестяной коробки с трубочкой, из которой торчал чадящий фитилек, – озаряло изможденное лицо курильщика. Лампочка была накрыта стеклянным колпаком с отверстием наверху для выхода жара. Курильщик, жадно бормоча, дрожащими пальцами заправил черный шарик опия в круглое отверстие в полом грушевидном наконечнике найчи – длинной, грубо вырезанной из дерева трубки.
Он поднес найчу к отверстию в стеклянном колпаке под струю жара. Откашлявшись, начал тянуть.
И все посетители задергались, болезненно заохали. Жмурясь и раздувая ноздри, они втягивали воздух, отчаянно стараясь не упустить ни капельки, ни крошечки дыма. Ведь многие из сидящих здесь, увы, не имели денег, чтобы купить себе опиумный шарик, сулящий божественные наслаждения. Он на вес золота. Они все подались вперед, издавая сдавленные звуки и умоляюще поглядывая на – курильщика. А вдруг он не станет докуривать шарик до конца.
– Скорее, скорее! – шепчут они.
Нет, они думают только об одном. Никто из них не мог произнести тех слов. Никому из них и дела нет до Энвера.
Курильщик расчетлив. Он медленно, неторопливо курит. Курение опиума – тяжелое дело. Оно требует напряжения всех физических сил, напряжения всех нервов. Оно требует к тому же больших денег. Опиекурильщик не оставит в трубке и крошки опиума, даже на медный чох.
Трубка-найча вываливается из ослабевших, разжавшихся пальцев. Ее мгновенно подхватывает самый жалкий, самый нищий и, весь трепеща, сует мундштук в свой беззубый рот.
– Отдай! – властно выхватывает трубку Абду Карим Хиобони и протягивает ее стоящему на очереди курильщику.
Файзи все прислушивается, но он почетный гость, его усадили отдельно. Перед ним поставили отдельный светильник… Он на виду. Если он не закурит, это может показаться подозрительным.
Несколько раз рука его тянулась к опиуму. Но снова и снова он отдергивал ее.
Словно что-то толкнуло Файзи. Ага, вот этот голос, вот эти слова. Он отодвинул от себя найчу. Огонек светильника потух.
– Сам зять халифа меня ждет, – прозвучал голос рядом. – Я больше не играю.
Пробираясь среди лежащих и сидящих опиекурильщиков, мимо Файзи проходили два человека. Разглядеть их лица в сумраке и туманных испарениях Файзи не мог. Очевидно, это были игроки в кости – кумарбозы, которые собирались в маленькой каморке позади чайханы.
– Ну, сыграем, – ныл, канючил один из проходивших. – Дай отыграться!
– Отстань… Не могу. – Человек остановился рядом с Файзи. – Понимаешь, болван, на рассвете мы уезжаем, приказ господина назира Нукрата. Сам зять халифа меня ждет, о! Понял? Сам зять халифа!
Они стояли в двух шагах и громко препирались.
– Зять халифа, ты понял? Он, ха-ха, – пьяно рассмеялся первый, – он на охоту едет. На охоту… ха-ха. Пусть большевики думают… Тсс! Только не болтай… Страшная тайна! На охоту. Знаю, какая такая охота. Он едет на войну с неверными. О, головы гяуров покатятся, точно арбузы… прыг… прыг. Хо-хо! Не веришь? Только мне сказали… мне доверили… Коты ждут у мышиной норки… Каршинской норки… Хэ-хэ… Не веришь… Так я и есть одна мышка! Не похоже? Хо-хо! Зубастая мышка.
Они ушли, громко разговаривая. Невольно Файзи напряг слух. «В сарае Поястона кони заседланы, все готово…» – расслышал он совершенно отчетливо. Файзи машинально потер лоб. Ведь караван-сарай Поястона не у Каршинских, а рядом с Самаркандскими воротами.
Испарина покрыла все тело Файзи. Он сидел и думал:
«Встать, пойти к русскому командиру… Ведь он тоже говорил об Энвере… Что он говорил об Энвере другому командиру? Хорошо, ну я пойду, а что я расскажу? Передам пустые слова двух игроков? Кто они, я не знаю».
Файзи сидел в сыром полумраке и думал, думал…
Громко споря, игроки шли по ночным улицам Бухары. Вскоре они добрались до караван-сарая Поястона близ Самаркандских ворот.
Ночные караульщики высунули из укрытий свои головы, завертели трещотками, забили в доски и прокричали истошными голосами:
– Вторая стража! Вторая стража!
Взвыли, залаяли потревоженные собаки, и все снова погрузилось в тишину. Игроки нырнули в узкий сводчатый проход и очутились на ярко освещенном дворе. Посреди него жарко горел гигантский костер. На большой террасе с колоннами стояла группа вооруженных людей и оживленно беседовала.
Из внутренних помещений вышел, кутаясь в волчью шубу, Энвербей.
На блестящих лаковых сапогах его звенели шпоры. Усы, как обычно, торчали стрелками.
Увидев назира Рауфа Нукрата, Энвербей взял его за пуговицу пальто и спросил:
– В Фергану, Самарканд, Хиву эмиссаров послали?
– Да, они уехали.
Но внимание Энвербея привлек человек в распахнутой лисьей шубе, торопливой походкой вошедший во двор с улицы. В сильном возбуждении он искал кого-то глазами и вдруг, увидев Рауфа Нукрата, бросился к нему.
– Нам наши люди донесли, – заговорил он, – начальник Особого отдела уехал товарным поездом со станции Караул-Базар на юг… Его нет в Бухаре.
– Что бы это значило? – проговорил медленно Нукрат.
Нервничая, Энвербей спросил:
– Что случилось?
– Большевики что-то подозревают, – сказал с тревогой Нукрат. – Так удачно нам удалось навести Гриневича на ложный след. Час назад он со своим полком по железной дороге выехал в Зиаддин воевать с Абду Кагаром. Но до отъезда он наделал дел. Милиция снята с охраны у всех ворот, и поставлены караулы частей особого назначения из наших мусульман-бухарцев, но беда в том, что все они большевики…
– Но, но мы едем на охоту. Правительство мы предупредили, – в голосе Энвербея слышалось раздражение.
– Позвольте, ваша милость, сказать мне, – вмешался человек в лисьей шубе. – Они, я имею в виду большевиков, подозревают. Они сомневаются. Зачем Энвербей берет с собой столько людей, говорят. Почему уже в каршинскую степь уехала вся милиция, говорят. Какая такая охота, говорят.
– Товба!
– Придется все отложить до завтра, я решительно остаюсь, – выдвинулся из-за столба невысокий розоволицый человек, в котором нетрудно было узнать самого председателя совета назиров. Голос у него дрожал.
– Что! Что? – резко крикнул Энвербей, и теперь все поняли, что он тоже крайне взволнован и растерян.
– Эй, идите сюда! – крикнул военный назир Арипов, заметив только что пришедших двух игроков. – Ну, что вы видели на улице? Чекистов не видели?
– Н-нет… пусто…
– Кто дежурит по городу? А? Ну, что вы на меня уставились, болваны?!. Я спрашиваю, как зовут большевика, командира, который сегодня дежурным? Ну?
Но они не знали и только вбирали свои большие круглые головы в плечи, когда Арипов пытался ткнуть им кулаком в лицо.
– Дежурит комендант. Так, – заглянул Рауф Нукрат в бумажку, – дежурит комэск Сухо… Сухорученко… – Он запнулся, произнося эту длинную фамилию, потом не без ехидства добавил: – Кто, как не вы, господин военный назир, должен знать это?
Пожав плечами, Арипов стал смотреть в сторону, а Нукрат продолжал, уже обращаясь к Энвербею:
– Наше счастье, что дежурит этот Сухо… Сухорученко. Он известен как пьяница, дубина… Нам покровительствуют силы рая и ада. Бог споспешествует нам, – торжественно заявил Нукрат. – Сейчас вы, господин зять халифа, беспрепятственно покинете благородную Бухару и сможете… хэ… хэ… предаваться охотничьим развлечениям. Весь ваш эскорт направляется к Каршинским воротам, а вы… гм-гм… доверьтесь мне.
Он суетливо сбежал вниз по лестнице и смешался с толпой вооруженных людей.
С треском, грохотом распахнулись тяжелые, окованные железом ворота. Холодная пустынная улица озарилась красным светом. Вздымая пыль, рассыпая факельные искры, десятки всадников поскакали через город к Каршинским воротам. Звон копыт, ржание, возгласы будили окрестные улицы. Наиболее любопытные горожане вылезали из-под теплых одеял и, зевая, забирались на плоские крыши, посмотреть, кто там едет с таким шумом и треском? Сторожа били в доски, крутили трещотки. Тысячи собачьих голосов слились в сплошной вой.
Командир эскадрона Трофим Сухорученко не спал. Только что, проводив Гриневича, он прискакал из Кагана и собирался побаловаться чайком.
– Ага, начинается, – сказал он доктору, зашедшему к нему на огонек. – Видал, Петр Иванович! Сукин сын, собрался смываться. Ну, не выйдет чаек, отставить.
Он быстро нацепил ремень с кобурой и выскочил во двор. Доктор слышал слова команды, стук копыт.
Поколебавшись с минуту, Петр Иванович оделся потеплее и вышел. Шумел, завывал ветер. На портале медресе прыгали красные блики.
Под темным холодным небом шум и отсветы факелов двигались над городом в южном направлении. Белесые, местами порозовевшие от огней облака очень низко, над самыми минаретами мчались с неправдоподобной быстротой.
Застегнувшись на все пуговицы, доктор подставил лицо резкому хлещущему ветру и пошел по кочковатой промерзшей улице в сторону Лябихауза. Ему не спалось, его мучило любопытство. Все-таки Энвербей личность известная, все-таки он вершил судьбами стран и народов. Каков он с виду?
Трофим Сухорученко прискакал к Каршинским воротам как раз вовремя. Чоновцы крепко стояли на своем:
– Есть приказ. Никого не выпускать!
– Вы что? С ума сошли! – кричал кто-то. – Гость бухарского правительства господин Энвербей отбывает на охоту. Приказываю открыть ворота.
Все начали кричать разом. Кони теснили людей. Факелы шипели и разбрасывали искры. Ветер выл в ветхой крыше ворот, в окошечках двух башен.
Решительно Сухорученко дал шпоры коню и бурей врезался в толпу всадников.
– Кто здесь старшой? – загремел он. – Давай старшого!
– Аллах милостив, – задыхаясь от морозного ветра, закричал, гарцуя на копе, военный назир Арипов. – Это вы, товарищ командир? Что случилось? Безобразие! Почему не выпускают нас?
– А куда вы собрались? – грубо перебил его Сухорученко.
– Приказываю пропустить! Немедленно… Я военный назир. Разве вас не предупредили?
– Предупредить-то предупредили, но здесь вас целый эскадрон. Эй, куда ты, глиста в обмороке! Назад! – Этот непочтительный окрик был обращен к милиционеру, воспользовавшемуся суматохой. Он подобрался к воротам и пытался отодвинуть засов.
Арипов помотал головой, точно он оглох от богатырского баса Сухорученко, и настойчиво продолжал:
– Приказ правительства! Разве вы не знаете о приказе правительства?
Продолжая спорить, Сухорученко искал глазами в кавалькаде «этого авантюриста и подлеца», как сам мысленно называл Энвера. Но порывы ветра разметывали пламя факелов, тушили их, дым стлался по земле, мешаясь с пылью и взметнутым мусором, всадники и спешившиеся люди крутились, толкались, то наваливаясь на чоновцев и ворота, то откатываясь перед штыками всей плотной массой назад в темноту. Лошади ржали и грызлись.








