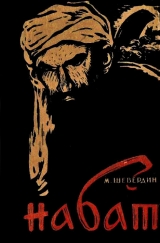
Текст книги "Набат. Книга первая: Паутина"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
Проследив взглядом глубокие следы на песке, Дильаром обнаружила овчарку на гребне бархана, там, где она появилась первый раз.
Вырисовываясь темным пятном на бирюзово-голубом небе, овчарка лаяла громко, деловито и радостно.
«Она лает потому, что нашла меня. Какая… умница».
И почти тотчас до слуха Дильаром донесся голос: «Эй!.. Эй!.. Басс!.. Эй!..»
Голос человека.
А вдруг собака убежит на призыв, и она, Дильаром, здесь останется… И ее найдут, как ту – жену… про которую ей рассказывали давно… в детстве. Она убежала от постылого мужа… и ее нашли в песках сухую… высушенную…
И вторая… ужасно глупая пришла мысль… Ведь кричит мужчина, а она… растерзанная, почти нагая. В муках жажды она рвала и раздирала на себе одежду. И вот только сейчас она не могла даже пошевельнуться, а теперь откуда силы взялись: сухими, негнущимися пальцами она начала застегивать пуговицы камзола.
Потом, по-видимому, образовался провал в памяти.
Божественное ощущение влаги на губах вернуло Дильаром к жизни.
– Еще… еще… – словно откуда-то со стороны слышала Дильаром собственный стон.
– Потихонечку, – сказал голос.
Она открыла глаза. Ей стало стыдно своей слабости.
Человек в смушковой шапке со звездой, поддерживая ее голову, по капле вливал из фляжки воду ей в рот. Звезду, с красными блестящими лучами, с вмятиной посередине, Дильаром хорошо разглядела.
Человек улыбнулся под короткими, щетинкой, усами, снова произнес очень внятно:
– Потихоньку, полегоньку.
Девушка резко села. Несколько капель воды мгновенно возвращают жизнь и силы умирающим от жажды.
– Нехорошо…
– Что вы сказали? – спросил человек в папахе.
Только теперь Дильаром разглядела его. Он очень высок ростом, белки карих глаз белеют на мужественном, дочерна выдубленном солнцем, песком, ветром и солью лице. Одет он в выцветшую рубаху хаки, подпоясанную потертым солдатским ремнем.
Все на нем было отнюдь не новое, но поразительно аккуратное, опрятное. И держался он подтянуто, по-военному.
– Кто вы?
– Юнус, но меня в полку зовут Юнус Винтовка.
– Почему? – невольно улыбнулась Дильаром. – Как это человека можно назвать винтовкой? Нелепость.
– Когда я стреляю… всегда попадаю. Ну, вот меня и прозвали… Винтовка.
– О, а я думала…
Цепляясь за его руку, Дильаром встала. В ногах она ощущала слабость.
– А я думал, – проговорил Юнус, – что это за старая женщина ходит по степи, а вот вы улыбнулись… оказывается, молодая.
И он, как бы поражаясь своей несообразительности, покачал головой.
– Вы сможете идти? Помочь?
– Не надо, – сердито сказала Дильаром. – Не надо. Я сама, я не старуха. Куда идти?
Она поплелась по песку. Дело пошло гораздо лучше, чем даже она думала. Каждый шаг вселял в ее тело новые силы. Через пять минут она уверенно поднялась на бархан. Шедший рядом Юнус удовлетворенно буркнул:
– Вижу, вы не старуха…
Он взглянул на нее и поразился происшедшей в ней перемене.
Когда Юнус, привлеченный лаем собаки, увидел Дильаром на песке, его поразил мертвенный вид ее лица со сморщенной серой кожей, обтягивающей скулы, ввалившимися черными глазами, сухими ниточками губ. А сейчас несколько глотков воды вернули коже нежность молодости, и на щеках чуть зарозовел румянец.
– Аллах всемогущий, – пробормотал про себя Юнус, – злые джины песка и зноя едва не погубили чудесную пери.
Он не обиделся, когда вдруг Дильаром накинула на голову камзол и закрылась от него. «Значит, эта девушка стыдлива… значит, она хорошая, порядочная девушка…»
Дильаром чувствовала себя слабой, беспомощной и с теплой – благодарностью смотрела на шагавшего впереди нее Юнуса. Он шел размашистой походкой, но и ему было нелегко: когда Юнус окликал своего пса, чтобы тот не убегал слишком далеко, голос его звучал сипло.
Вдруг Юнус обернулся и сказал:
– Что вы отстаете? Идем поскорее.
Дильаром удивленно спросила:
– Почему вы так говорите, обидно?
Он усмехнулся:
– Только что помирали, а сейчас в зеркальце гляделись.
– Ну и что же?
Действительно, Дильаром уже успела заглянуть в зеркальце и поправила растрепавшиеся волосы, ибо она знала, что падающие на лоб космы отнюдь не идут девушке, даже если она красива.
Но Юнусу стало совестно:
– Я не так сказал… Извините… Старый солдат что старый верблюд – брюзглив.
Они поднялись на бархан.
– Ну, Басс, – проговорил, чуть задыхаясь, Юнус, – пришли.
Он потрепал загривок собаки и свистнул. Басс радостно взвизгнул и мгновенно исчез. Только лай его доносился все тише, удаляясь.
Юнус повернулся к Дильаром. Слово «пришли» произвело на нее совершенно неожиданное действие. Слабость разлилась по ее телу. Она чуть не упала.
«Значит, я умирала в двух шагах от людей, от воды», – негодуя на себя, думала она.
Шатаясь, стояла Дильаром под гребнем бархана и прятала глаза от пристального взгляда Юнуса.
– Да помогите же вы мне, наконец!
В ее повелительном тоне прозвучало столько злости, что Юнус пожал плечами и протянул руку.
– Да мы же пришли. Вот кошар…
Отдышавшись, Дильаром осмотрелась.
Перед ней расстилался обширный такыр, плоский, ровный, как стол. Метрах в трехстах от бархана, где они стояли, высились глиняные устои колодца. Можно было отчетливо разглядеть деревянную вертушку, волосяной аркан, кожаное ведро. Поодаль стояла черная юрта, к которой, радостно лая, катился темным комочком Басс. Рядом с юртой Дильаром увидела арбу, лошадей…
Когда сидишь около дымного костра, в огне которого потрескивают сучья джузгуна и саксаула, а в котелке аппетитно журчит и шипит кавардак, то никак не хочется думать об ужасах пустыни, о неминуемой гибели, подстерегающей в барханах заблудившегося человека, о страшных названиях урочищ пустыни, вроде «Пойдешь, не вернешься», «Погибель человека», «Путник пропал». Можно снять ичиги, дать ветру ласкать усталые натруженные ноги и слушать охи и ахи матери и отца.
Изредка взгляд Дильаром искал среди сидевших у соседнего костра солдата Юнуса. И почему-то ее волновал приятно звучавший в темноте ночи низкий голос, певший старую как мир песню:
С той поры, как я увидел два твоих чудесных глаза,
В моем сердце не осталось терпения и покоя.
Звуки песни гнали сон от глаз. И Дильаром краснела, хоть было очень темно и никто не мог видеть ее смущения, никто не мог слышать, как бьется ее сердце.
И почему так побледнел в ее сердце образ любимого, оставшегося в страшной Бухаре? Неужели во всем виноват голос, певший в ночи?
Но наступило утро, и кончилась бессонная ночь. Юнус стоял и смотрел грустными глазами на арбу, в которой уезжала Дильаром. Он не слушал и не слышал последних слов старого ткача, так благодарившего за спасение своей дочери. Хоть бы позволили взглянуть на ее лицо. Но Дильаром уехала, а он так и не увидел больше ее лица…
Уже почти потухли угли в очаге, а в открытую дверь заглядывало посеревшее небо, когда Юнус закончил свой рассказ. И все это время Паризот сидела молча, не спуская глаз с лица сына.
И когда Юнус замолк, Паризот только тяжело вздохнула.
– Оставь и думать. Выбрось эту… эту Дильаром из головы, – сказала мать. – Она уехала туда, куда и араб не забрасывал копье.
Юнус ничего не ответил, но, уже лежа под одеялом, он вдруг проговорил:
– Ожидание… мысль… мечта мучительнее огня. У нее глаза гурии рая. Она из рода гурий… я знаю. Немыслимо красиво лицо ее. – Он хотел сказать: «И тело белое, и руки нежные, и грудь полная.» Но он постеснялся говорить такое при матери.
– Сынок, не думай о ней. Страшно мне. Уж не джинья ли она? Наверное, джинья… фея огня. Ты же нашел ее в раскаленном песке, горячем как огонь.
– Как она прекрасна!.. Она как агат, вышедший из рук искуснейшего гранильщика драгоценных камней. Дильаром. Дильаром! О если бы вы видели ее, мама!
Он говорил точно одержимый. Старушка забормотала молитву, охраняющую от злых духов, и с ужасом прислушивалась к отрывистым восклицаниям, похожим на вопли.
– Дильаром… любимая… я найду тебя. Я под землей найду тебя, я на седьмом небе найду тебя.
Комната погрузилась в тишину. Чуть потрескивали угольки в очаге. И мать и сын – каждый думал свою думу. Мать все больше настраивалась против Дильаром, которая в ее представлении делалась злой, сварливой, как и подобает злой пери огня. Юнус мечтал о красавице, которую он видел больше года назад и не мог забыть.
И когда ум и тело его погружались в бездну сна, губы шептали двустишие забытого поэта: «В безнадежности надежда, конец черной ночи светел…»
Глава шестая
Ночной гость
…Я дервиш, я нищий, но свою войлочную шапку не сменю на драгоценный царский венец…
Баба Тахир аль Хамзани (935—1010)
Нельзя сказать, чтобы доктор был избалован климатом и природой Туркестана. Сорок пять градусов в тени летом и тридцать ниже нуля зимой, комары и москиты, малярия и тропическая лихорадка, изнуряющая жажда и жижа соленых болот, вечный снег перевалов и раскаленные пески пустынь, грязь и вонь, скорпионы и кобры – ничто не могло удивить доктора. Да, он давно отвык удивляться и во время своих скитаний по горам и пустыням всегда оставался спокоен, равнодушен к лишениям, потому что никогда не рассчитывал на какие-то удобства. Если ему удавалось спать не на попоне и не с седлом под головой вместо подушки, а на настоящем ватном одеяле, с ястуком в изголовье, он это уже считал верхом комфорта. Сколько истины в мудрых словах поэта Саади: «Тот узнает цену благополучию, кто испытал беду».
Иной раз, укладываясь спать прямо на песок и окружая себя волосяным арканом, чтобы под одеяло не забралась какая-нибудь нечисть вроде скорпиона или фаланги, он любил рассуждать вслух, примерно в таком духе:
– После небезызвестного сражения под Кушкой в палатках английских инструкторов-офицеров нашли пружинные матрацы, переносные раскладные ванны и клозетную бумагу. Культура! Но там же нашли бичи из гиппопотамьей кожи, очень изящные никелированные наручники, защелкивающиеся автоматически, и целые чемоданы с порнографией. М-да, цивилизация!
Обычно единственный в таких обстоятельствах слушатель Алаярбек Даниарбек задавал вопрос:
– А что такое, домулла, «порнография»?
– Много будете знать, скоро состаритесь, – ворчливо усмехался доктор, тщетно заворачиваясь в брезентовый плащ, служивший подчас ему и матрацем, и одеялом, и подушкой одновременно.
Будучи воспитанным в традициях восточной вежливости, Алаярбек Даниарбек не решался приставать к доктору с расспросами, но слово «порнография» он запомнил хорошо, хоть и воспринял его довольно своеобразно. Частенько поражал он, в случае ссоры или скандала, своих противников оглушительным и весьма звучным ругательством: «Эх ты… порнография!»
Нередко это ругательство обрушивалось и на своенравного беленького конька, прозванного Белок. Белок обладал даже не белой, а нежно-розовой мастью. Шерсть его быстро серела от пыли, к ней приставала легко грязь, к тому же конь любил валяться на земле или тереться о глиняные дувалы. Вот уже тут Алаярбек Даниарбек впадал в настоящую ярость и прибегал к своей излюбленной «порнографии».
Сегодня доктор особенно долго ворчал, укладываясь спать. Место ночлега оказалось на редкость неудачным. Почва была сырая, от речки несло вонью болота а гнилой рыбой. Неведомо из какой огненной печи вырвавшийся ветер сыпал и сыпал в глаза, уши, ноздри, рог острые песчинки. Озаренные трепетным огоньком костра, теснились вокруг стены камыша. Острые мечеобразные листья его раскачивались, скрежеща. Нисколько не считаясь с ветром, кусались комары, умудряясь впиваться в самые нежные места: шею, глаза.
Всегда невозмутимый Алаярбек Даниарбек не мог скрыть тревогу.
Ему явно не нравился и мучительный, дувший упорно уже много часов гармсиль, и плохо горевший костер, и безлюдные болотистые тугаи, и сама Черная речка.
Здесь брод совсем мелкий. От огня костра дно кирпично-красное, и видны отчетливо каждая галька, каждая нить водорослей. Блестки трепещут на поверхности почти темной воды. Ее совсем мало. Медленно течет она слабосильными струями среди пластов грязи, местами жидкой, а местами густой, с круглыми дырками от копыт скота и лошадей, забиравшихся в месиво из ила, сгнившего камыша и навоза по самое брюхо, чтобы только поскорее утолить жажду.
Алаярбека Даниарбека тревожило все вокруг. И больше всего ему не нравилось безлюдье.
Снова и снова Алаярбек Даниарбек шел к лошадям, жевавшим молодые побеги камыша, снова и снова вглядывался в темную прогалину, уходившую куда-то на юг. Но ничего не видел, ничего не слышал. Все так же не было видно ни зги, все так же металлически скрежетал камыш.
Вернувшись к костру, Даниарбек сел и устремил взгляд на багровые язычки, метавшиеся с шипением по смолистым веткам. Доктор лежал по другую, подветренную сторону костра, чтобы дым отгонял комаров и мошек. Оба молчали.
Низкий, испещренный морщинами лоб Алаярбека Даниарбека под ослепительно белой маленькой чалмой казался еще уже из-за приподнявшихся в недоумении широких с сединкой бровей.
Полуприкрытые глаза беспокойно бегали в отблесках костра, негритянские пухлые губы, недовольно-выпяченные над круглой, очень аккуратной бородкой, чуть шевелились. Алаярбек Даниарбек имел привычку думать, если так можно выразиться, шепотом.
«О чем он может сейчас думать? – размышлял доктор. – О чем думает этот человек с древним, как его древняя страна, взглядом. Во всем его облике, в каждой черте его лица, в каждой детали его одежды все от тысячелетий. Вот так стригли бородку и усы люди Мавераннахра, судя по гератским миниатюрам пятнадцатого века Бехзада. Точь-в-точь они так же повязывали чалму, точь-в-точь такие же носили камзолы, перепоясывались такими же – поясными платками, и даже круг их жизненных интересов имел много сходного.
Неистребимый инстинкт жить, завоевывать землю, наслаждаться, страдать, производить себе подобных, чтобы они жили, наслаждались, боролись, страдали… и так из века в век.
Ф-фу, какая отвлеченная философия…»
А мысли скакнули в сторону.
«Алаярбек Даниарбек добродушен по виду со своими наивно оттопыренными губами и круглой уютной бородкой, а хитер. Да, хитер, а быть может, коварен. Но что его держит около меня? Жадность? Он давно мог бы найти что-нибудь получше, работу какую-нибудь, особенно в наши беспокойные дни. Привязанность? Едва ли он любит меня. Не раз приходилось выговаривать ему за лень, промахи, чванство, грубость в обращении с людьми. На выговоры не обижался. Изрекал благодушно: „Ни одно дело без ломания и исправления не получается“.
Что же заставляет этого человека бросать на многие месяцы дом, семью, скитаться по пустыням, малохоженым тропам и перевалам, терпеть лишения, подвергаться опасностям? И зачем? Чтобы служить верой и правдой мне, чужому для него и по взглядам, и по убеждениям, и по обычаям человеку? Жажда впечатлений, жажда новизны? Страсть исследователя? Зов кочевых предков? Может быть…»
Доктор мысленно пожал плечами и только тут нечаянно сделал открытие, что у костра их не двое с Алаярбеком Даниарбеком, а… трое.
Да, теперь он рассмотрел сквозь дым и пламя, что почти рядом с Алаярбеком Даниарбеком по ту сторону костра сидит человек.
Прежде чем рассмотреть его, доктор инстинктивно проверил, нет ли еще людей, не выглядывает ли еще кто-нибудь из камыша.
Он заметил, что глаза-сливы Алаярбека Даниарбека лишь пытливо изучают незнакомца.
А пришелец спокойно, под испытующими взглядами доктора и Алаярбека Даниарбека подложил несколько сучьев в дымивший костер, и так ловко, что пламя вспыхнуло и озарило всю его фигуру, рваную верблюжью чуху, голую, всю в курчавых волосах грудь, смоляную с серебряными нитями бороду.
Большая темно-красная довольно-таки грязная чалма, надвинутая на лоб, не могла скрыть бешеного огня в глазах незнакомца, спрятавшихся под густыми бровями. Короткий сильный нос, крепкие скулы, решительно поджатые губы, маленький, но крутой подбородок и в особенности курчавые длинные волосы делали лицо приметным. Оно запоминалось не потому, что черты его были необыкновенны. Лицо человека нельзя было забыть, потому что глаза его, глаза чистосердечного человека, не могли лгать. Мрачный, испытующий взгляд их заставлял ежиться. Своим взглядом незнакомец мог заставить покориться любого человека.
– Хм, хм, – начал Алаярбек Даниарбек, обращаясь к доктору, – одно из великолепных достоинств горожан – воспитание их в правилах вежливости, чего не всегда могут достичь обитатели пустынь (здесь последовало легкое покашливание)… и болот, общаясь… хм… хм… со всякими скотами.
Ночной гость зашевелился, и на его лице отразилось раздражение.
– Мы… мы… – высокомерно начал он, – нашли нужным посмотреть… убедиться… – Он презрительно умолк с видом человека, который снизошел к ничтожным смертным, но не желает продолжать разговор.
Тогда Алаярбек Даниарбек приложил изящнейшим жестом руку к груди, склонился в полупоклоне, точно он находился не в тугаях среди болот, а на собрании почтенных стариков.
– Да будет благословение аллахово над головой вашей, – вкрадчиво заговорил он. – О наш почтеннейший гость, цвет пастушьего сословия, умнейший и вежливейший из знатных обитателей камышовых зарослей. Да не откажите нам в милости пожаловать сюда и прикоснуться вашими достоуважаемыми ягодицами земли у нашего жалкого костра. Не соблаговолите ли вы…
– Что с тобой? – глухо прозвучал голос пришельца. – Ты что, объелся ишачьих мозгов, что ли?
Поморщившись, доктор заметил резко:
– Алаярбек Даниарбек!
– Что угодно?
– Спросите, что ему надо, и объясните, что подошло время, когда все честные люди спят.
Сказал всю эту фразу доктор нарочно громко и по-узбекски. Тогда ночной гость, не дав Даниарбеку открыть рот, быстро проговорил:
– Господин, мы встречаемся на мгновение и расстаемся навеки. Откуда я пришел, туда дорогу уже занесло пылью и песком.
Он покачал головой и замолк.
– Я же говорил, что у него изъян в воспитании, – проворчал Алаярбек Даниарбек.
Ночной гость снова заговорил:
– Мы очень просим… У нас телесный недуг… Мы видим, вы русский… нет ли у вас для больного… у русских всегда имеются… всегда… эти лекарственные порошки.
Ночной гость очень неправильно произносил узбекские слова, и, вслушиваясь в его разговор, доктор подумал, что вернее всего он Гянджи некий тюрк. В своих скитаниях во время последней войны доктору пришлось побывать во многих местностях Закавказья.
– Что с вами? – приподнявшись на локте, сказал доктор. Он очень устал, ему хотелось полежать спокойно, но профессиональная привычка взяла свое.
– Лихорадка, – стонущим голосом протянул гость, – мучит лихорадка и днем и ночью у пастушьих костров, трясет, ломает, о аллах, наши старые кости. Нам бы порошков лекарственных… белых, горьких.
Доктор встал и вынул стетоскоп.
– М-да, – бормотал он, мешая узбекские и русские слова. – Дышите… так, глубже, еще дышите. Скиньте чуху. Так, так. Тэк-с, тэк-с. Легкие точно у быка. Впрочем, тоны сердца… гм-гм… акцент второго тона, а pulmonalis э… систологический шум. Что с вами?
Возглас был вызван тем, что грудь ночного гостя под стетоскопом судорожно вздрогнула.
– Не может быть! – резко сказал ночной гость. – Какой систологический шум… аорта?!
Долгая минута понадобилась доктору, чтобы до его сознания дошел смысл слов незнакомца.
– Что вы сказали?.. Вы знаете, что такое систологический шум?.. Аорту? Э, батенька! – Не выпуская из вытянутых рук мускулистые предплечья больного, доктор стал вглядываться в его лицо, черты которого искажались колеблющимися бликами от огненных языков костра.
Но гость легко высвободился, натянул чуху на голые плечи и почти грубо сказал:
– Оставьте… сердце у меня здоровое.
– Вы не то, чем кажетесь.
– Могущественные шахи и ничтожные нищие – странное сословие, они никого не слушают и никому не подчиняются.
– Степь бесприютна, а вы больны.
– Оставьте… У вас есть хина? Хинини муриатикум?
– Есть.
– Тогда дайте сколько можете.
Пока доктор рылся в полевой сумке, незнакомец быстро сказал что-то Даниарбеку и поднялся.
Потом, взяв лекарства, медленно и значительно проговорил:
– Я дервиш! Я не заслуживаю ада и недостоин рая. Один аллах всемогущий знает, из чего он замесил мою глину. Подобен я безбожнику нищему и развратной блуднице. Не осталось у меня ни веры, ни наслаждения, ни надежды.
Он шагнул от костра.
– Вы великодушны… Великодушие свойство мудрых.
Багровая в отсветах пламени камышовая стена раздвинулась, и ночной гость исчез.
– Как будто его и не было, – промолвил доктор, устраиваясь поудобнее на своем жестком ложе. – Странный пастух… Знает про аорту… про хинини муриатикум.
Уже засыпая, он спросил:
– Вы его встречали?
– Нет.
– Что же он, я слышал, вам насчет Самарканда и вашего Багишамаля говорил?
Алаярбек Даниарбек ползком подобрался к доктору и, тревожно озираясь, тихо забормотал:
– Он не пастух. Он дервиш – человек тайны… Про него давно говорят в Самарканде и Бухаре, его ищут. Он скрывается. Он мне задал вопрос: не знаю ли я, когда прибудет в Туркестан зять халифа, не слышал ли я в городе. Я сказал: «Не знаю». Тогда он рассердился и выругал меня, а мне сказал: «Твой ад и твой рай всегда в тебе самом, зачем же ты ищешь их вне себя, друг? Смирись, друг!» Страшно ругал… Уедем поскорей…
– Ну нет! – зевнул доктор. – Плохо вы дервишей знаете. Теперь за эти десять порошков наш дервиш всем, кто к нам полезет, горло перервет…
Костер уже почти потух, а доктор все еще думал. Стало прохладно, и комары угомонились. Фыркали и громко хрустели молодыми побегами камыша кони, хором квакали лягушки, звенели цикады.
Не без иронии доктор говорил себе:
«Нищий дервиш требует хинини муриатикум… рассуждает о пороке сердца.
Восток! Какие только встречи не бывают! Среди болот, камышей, комаров… на задворках Туркестана, кого только не встретишь?! Рваная чуха – маскарад, конечно. Рубаха на нем тонкая, из добротного шелка. Тело мускулистое, но холеное, руки без мозолей. Черты лица… осанка… Горд, как сатана. Басмач? Не похоже. Кто же он? Ждет зятя халифа… Энвера… Мы еще ничего толком не слышали, а он слышал… Странно».
Но вслух он сказал только:
– Алаярбек Даниарбек, не прозевайте коней.
И заснул.








