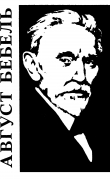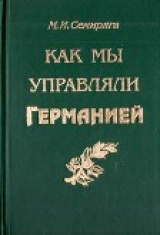
Текст книги "Как мы управляли Германией"
Автор книги: Михаил Семиряга
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Как заявил в одном из интервью генерал Дубровский, секвестрированные или конфискованные предприятия Саксонии переданы в ведение управления земли. «Дело немцев – использовать их на благо народа. Разумеется, мы надеемся, что эти предприятия, это имущество не будут вновь переданы военным преступникам и руководителям фашистской партии. На этом примере мы сможем убедиться, насколько немецкое население способно самостоятельно решать важные проблемы в демократическом духе»[144]144
За антифашистскую демократическую Германию. С.483
[Закрыть].
Успех референдума в Саксонии создал благоприятные условия для принятия аналогичных законоположений сперва в Тюрингии (24 июня 1946 г.), а затем и во всех других землях: провинции Саксонии (30 июля 1946 г.), в провинции Бранденбург (5 августа), в Мекленбурге (16 августа 1946 г.). В Берлине закон был принят 27 марта 1947 года, но вступил в силу в его восточной части только 8 апреля 1949, после раскола Берлина.
Таким образом, народным голосованием в Саксонии, а также решениями ландтагов других земель в собственность народа было передано восемь процентов всех цензовых промышленных предприятий советской зоны оккупации, производивших около 40 процентов всей промышленной продукции зоны.
В подготовительный период и в ходе самого референдума не все шло гладко. Но борьба противников референдума особенно обострилась после референдума, когда они перешли в наступление. Развернулась кампания против руководящих сил демократического обновления. Реакция стала прибегать к преступной подпольной борьбе – поджогам и саботажу. «С поджогами фашизм пришел к власти в Германии, – говорилось по этому поводу в воззвании блока антифашистских партий Саксонии, – в пожарах и развалинах войны он похоронен. Фашизм надеется с помощью поджогов начать свое воскрешение». Органы и войска МВД СССР, дислоцированные в Саксонии, боролись с этими фашистскими проявлениями.
Правы те авторы, которые утверждают, что отчуждение предприятий монополистов в пользу народа нельзя было решить лишь административными мерами такой «внешней силы» как СВАГ, без активного участия освобожденной от фашизма решающей «внутренней силы» немецкого народа. Но некоторые из исследователей, в том числе и бывшие сотрудники СВАГ, неправы в своей недооценке роли органов СВАГ в проведении этого мероприятия, имевшего далеко идущие как экономические, так и политические последствия. Прежде всего сотрудники СВАГ решительными мерами, включая и административные, пресекали всякие попытки противников отчуждения на его подготовительном этапе задержать процесс и вернуть предприятия их бывшим владельцам. СВАГ дезавуировала стремление противников реформы обосновать правовую несостоятельность подобной меры. С этой целью была развернута пропагандистская кампания в печати, в том числе и в органе СВАГ газете «Тэглихе рундшау» в пользу отчуждения.
В прессе и на радио с участием сотрудников СВАГ и функционеров СЕПГ излагался разработанный СЕПГ план экономического развития зоны на второе полугодие 1948 года и двухлетний план на период 1949 – 1950-х годов. Пропагандировался советский опыт стахановского движения. Так, на немецкой почве было организовано «движение активистов», инициатива которого в октябре 1948 года была приписана шахтеру из г. Эльсниц А. Хеннеке. Но методы этого «движения» были скопированы со стахановского «движения» в СССР. Результаты его были те же: поскольку оно было инспирировано сверху и не стало массовым, то и не могло серьезно повлиять на повышение производительности труда и на общий рост производства.
Инициатору движения немецких передовиков – шахтеров в декабре 1948 года было организовано письмо советского новатора в угольной промышленности А.Стаханова, в котором он призвал немецких горняков следовать его примеру, поскольку они трудятся на благо народа. «Иначе обстоит дело в Рурской области, – писал Стаханов. – Там нет такого движения, и я убежден, что его и не может там быть… Горняки трудятся, следовательно, не на благо трудящихся, и они, естественно, не заинтересованы в повышении производительности труда». В ответном письме А. Хеннеке пообещал, что немецкому рабочему классу удастся добиться такого же развития хозяйства, «которое в свое время… было достигнуто в Вашей стране».
После референдума правительство земли Саксония в декабре 1946 года обещало, что частная собственность будет охраняться законом, что свободная инициатива занятых в экономике людей получит полную свободу и планирование не будет ей препятствовать. Тем не менее все же утверждалось, что «экономическая политика основывается на идее детального планирования всех экономических процессов в земле…». Сомнительно, чтобы такая политика могла содействовать инициативе работников и чтобы она охраняла частную собственность. Жесткое планирование, которое считалось краеугольным камнем в экономической политике и государственном руководстве хозяйством в советской оккупационной зоне, являлось типичным примером того, как СВАГ проводила политику в этой области, противоречившую букве и духу Потсдамских решений. Оно было также шагом по пути к насаждению в Германии социалистических принципов хозяйствования.
Прошло несколько лет, и детальное планирование стало мощным деструктивным экономическим фактором в ГДР. В 1978 году в официальной истории СЕПГ будет признано, что «образование народного сектора означало возникновение в наиболее важной сфере экономики общественной собственности на средства производства как важнейшего элемента социалистических производственных отношений»[145]145
История Социалистической единой партии Германии. Очерк. М., 1980. С.145
[Закрыть].
Итоги экономических преобразований в советской зоне не могли не оказать известного влияния и на обстановку в западных зонах. В частности, американские власти в середине июля 1946 года передали секвестрированное у военных преступников имущество общей стоимостью в 7 млрд. марок немецким органам.
Меры, осуществленные на востоке Германии, могли иметь и другие серьезные политические и социально-экономические последствия, что сильно беспокоило буржуазные партии и немецких государственных деятелей в Западной Германии. В своих воспоминаниях первый канцлер ФРГ К. Аденауэр писал: «Если бы Потсдамские решения действительно были выполнены в западных зонах, то три западные оккупационные зоны, то есть вся Германия, стала бы коммунистической»[146]146
Цит. по: Ежегодник германской истории. 1980, М., 1982, С.36
[Закрыть].
* * *
Несмотря на резко выраженный индустриальный характер экономики Германии в ней сохранялся средневековый характер распределения земельной собственности, порождавший земельный голод в деревне. Широкое распространение приобрела земельная аренда. Куцая земельная реформа, осуществленная в период Веймарской республики, не могла решить эту проблему.
Численность занятого в сельском хозяйстве населения постоянно сокращалась. Если в начале века она составляла 27,4 процента, то в 1939 году – только 18,2 процента от всего населения страны. Тем не менее собственное сельское хозяйство было основным источником продовольственного снабжения. Сельское хозяйство имело в основном интенсивный характер при сравнительно высокой урожайности (в 1938 г. около 20 ц. с га зерновых).
Что же касается распределения земельной собственности, то оно было крайне разнообразным. В 1937 году государству и провинциальным органам принадлежало 12,6 процента земли, общинам – 6,9, кооперативам – 0,2, церкви – 1,6, и частная собственность составляла 70,1 процента. Типичными группами землевладения были площади 20–50 га, составлявшие 22,3 процента всей земли, 10–20 га – 11,7 процента и 5-10 га —11,7 процента. Но существовало разительное различие по отдельным землям. Так, например, в Мекленбурге хозяйства в 200 га и более составляли 3–5 процентов всех землевладельцев, но они были основой хозяйства этой земли[147]147
АВП РФ. ф.0457«г», оп.1, пор. 15, д.2, л.88
[Закрыть].
Вот несколько разительных примеров социальной несправедливости на селе, существовавшей тогда в Германии. В Бранденбурге граф фон Брюльцу Пфёртен владел около 21.940 га земли, в провинции Саксонии князю Штольберг-Вернигероде принадлежало около 22.000 га, в Тюрингии князь Ройс-младший имел 10.800 га земли и т. д. В целом 16 крупнейших помещиков – дворян в Германии владели 550.221 га земли[148]148
За антифашистскую демократическую Германию. Сборник документов. С.323
[Закрыть]. После разгрома фашизма на отчужденных землях были поселены тысячи новых крестьян[149]149
Там же. С.324
[Закрыть].
На протяжении 1945–1946 гг. при активном участии КПГ – СЕПГ и при поддержке СВАГ в советской зоне оккупации была проведена коренная аграрная реформа.
Решения о демократической земельной реформе были приняты президиумами управлений земель в начале сентября 1945 года. Они предусматривали безвозмездную конфискацию земель всех крупных землевладельцев, имевших более 100 га земли, а также военных преступников и активных сторонников нацистского режима.
В ходе подготовки и проведения этой реформы обнаружилось, что политические партии советской зоны относятся к ней неоднозначно, и каждая из них выдвигала аргументы, имевшие под собой определенные веские обоснования. Как доносил Г.М. Маленкову и Н.А. Булганину начальник Главного политического управления Красной Армии генерал И.С. Шикин, по имевшейся информации из Берлина, коммунисты были инициаторами проведения аграрной реформы в нынешнем виде. Социал-демократы предлагали помещичьи владения не делить, а обрабатывать коллективно. Что же касается либералов и христианских демократов, то они опасались, что ликвидация крупных хозяйств понизит товарность сельскохозяйственной продукции. Поэтому они предлагали конфисковать земельные участки лишь активных нацистов и военных преступников[150]150
ЦАМО, ф.32, оп.65603, д.6, лл.32–35
[Закрыть]. Но в целом блок политических партий поддержал реформу. СВАГ не только санкционировала ее подготовку, но сотрудники сами активно участвовали в ее осуществлении.
На первом этапе в августе-октябре 1945 года Сельскохозяйственное управление СВАГ совместно с немецкими экспертами готовило законодательные акты по реформе. В первой половине сентября 1945 года законы о реформе были приняты во всех землях зоны.
Сформулированная в них мотивация реформы, состояла в следующем: реформа вызвана неотложной национальной экономической и социальной необходимостью. Она должна обеспечить ликвидацию феодально-юнкерского и крупного помещичьего землевладений, которые всегда были одним из главных источников подготовки агрессии и завоевательных войн Германии. Земельная реформа – это важнейшая предпосылка демократических преобразований и хозяйственного возрождения страны. Землевладение должно базироваться на крепких, здоровых продуктивных крестьянских хозяйствах, являющихся частной собственностью. В документах подчеркивалось, что полученную землю нельзя ни делить, ни продавать, закладывать или сдавать в аренду.
Уже в сентябре начали создаваться общинные комиссии, в которых были представлены все партии блока: КПГ – около 24 процентов, социал-демократов – свыше 17 процентов, ХДС и ЛДП имели 2 процента членов этих комиссий. В середине октября осуществлялся раздел конфискованных земель, он продолжался и в первом квартале 1946 года. Реформа проводилась в условиях острой борьбы. Ее противники пытались сорвать или хотя бы оттянуть ее проведение. Они запугивали крестьян возможностью новой мировой войны и приходом в зону союзников, которые, мол, снова восстановят помещичье землевладение. Пробравшись кое-где в состав комиссий, они различными извращениями закона стремились дискредитировать идею реформы.
Наиболее характерными извращениями были: – выступления против раздела леса, скота и инвентаря; – оставление скота по-прежнему в помещичьих имениях; – возвращение помещиков беспрепятственно в свои имения; – невыполнение решений о конфискации некоторых имений; – в некоторых случаях помещики не только не высылались, но и получали земли от своих же имений; – сельскохозяйственные рабочие земли не получали и оставались в имениях в своей прежней роли; – кое-где завышались нормы надела; – землю получали ближайшие родственники помещиков; – крестьяне конкретно не знали своих собственных участков и, как и прежде, работали коллективно; – имелись случаи дачи взяток членам комиссий.
В ходе реформы обнаружились левацкие перегибы со стороны некоторых коммунистов и социал-демократов, требовавших впоследствии образовать коллективные хозяйства. Эта идея была поддержана и некоторыми специалистами сельского хозяйства. Однако на совещании министров-президентов и вице-президентов земель, состоявшемся в Берлине 13–14 ноября 1945 года, Г.К. Жуков, как уже упоминалось выше, осудил подобные взгляды, назвал этих специалистов «чудаками, которых нацисты используют для нанесения удара по реформе», а слухи о «колхозах» расценил как провокацию[151]151
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, пор.7, п.2, лл.1 6–1 7,27
[Закрыть].
Руководство СВАГ возлагало на земельную реформу большие надежды, рассматривая ее как фактор, который укрепит социальную базу антифашистско-демократических преобразований на селе, а в последующем послужит делу социалистического переустройства села. На том, раннем этапе, она действительно сыграла свою позитивную роль. Но позднее немецкие коммунисты стали копировать опыт большевиков и создавать кооперативные хозяйства. Тем самым они фактически отказались от своего первоначального замысла земельной реформы, что негативно сказалось на всем экономическом и политическом развитии ГДР.
Особенность земельной реформы состояла в том, что ее надо было провести весьма срочно, из-за чего она и опередила образование таких важных политических органов как местное самоуправление на селе хотя должно было быть наоборот. Назначенные советскими офицерами еще в ходе боевых действий или вскоре после их завершения бургомистры нередко были случайными людьми, даже жителями других сел и поэтому не проявляли усердия при исполнении своих обязанностей, в том числе и при проведении земельной реформы. Часть крестьян с недоверием относилась к реформам. Они с опаской брали «чужую землю» и особенно сельскохозяйственный инвентарь. Открытые противники реформы грозили крестьянству голодом, если хозяйства богатых хозяев будут разорены. Но коммунисты выдвинули лозунг: «Нас накормят не юнкеры, а крестьяне».
Сотрудникам СВАГ было предложено активно включиться в проведение этой первой в советской оккупационной зоне важной политической и социально-экономической кампании и смелее передавать «советский опыт аграрных преобразований». Аграрная реформа должна была продемонстрировать политическую зрелость как немецких антифашистско-демократических партий, так и понимание советскими офицерами своего партийного и служебного долга и их способность осуществить этот долг на немецкой земле.
На первом этапе подготовки и осуществления земельной реформы часть местных комендантов считала ее сугубо немецким мероприятием и стремилась не вмешиваться. Однако отношение работников СВАГ к реформе резко изменилось после того, как Главноначальствующий СВАГ 25 декабря 1945 года издал приказ № 0121. В нем указывались приведенные выше извращения реформы, работникам Сельскохозяйственного управления СВАГ и местным военным комендантам предлагалось срочно провести сплошную проверку и устранить недостатки. Подобные меры с участием работников СВАГ проводились и в последующие годы[152]152
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, пор. 15, п.5, лл.243–246
[Закрыть].
Общие итоги земельной реформы таковы. Конфисковано и поступило в фонд земельной реформы 9.690 помещичьих имений с 2.717 тыс. га земли, то есть полпроцента к общему числу сельских хозяйств и 33 процента сельскохозяйственной площади советской зоны (по состоянию на 1 января 1946 г.). Кроме того, по решению военного совета Группы советских оккупационных войск в феврале 1946 года в распоряжение немецкого земельного фонда были переданы подсобные хозяйства воинских частей общей площадью 5 тыс. га.
Таким образом, по состоянию на 1 июля 1948 года конфисковано и передано в фонд реформы 13.505 землевладений с 3.203.461 га земли, то есть 39 процентов от всей сельскохозяйственной площади зоны[153]153
Там же, л.247–252
[Закрыть].
Из конфискованных земель 83 процента принадлежали помещикам, около трех процентов – военным преступникам и активным нацистам и 14 процентов – государству. Из полученных комиссиями 391,8 тысяч заявлений от желающих получить землю было удовлетворено 325.295 хозяйств, то есть более 83 процентов от подавших заявления. В частную собственность передано 67 процентов конфискованных земель. Наиболее массовую базу крестьян, получивших землю, составили сельскохозяйственные рабочие и безземельные (более 124 тысяч хозяйств). Они получили в среднем по семь га земли. На втором месте стояли мелкие арендаторы и малоземельные крестьяне (около 139 тысяч хозяйств), получившие от 1,1 до 3,7 га каждый. Переселенцы образовали 64,5 78 новых хозяйств, каждый из них получил в среднем по 8,8 га земли, и сельским общинам выделено 2.150 хозяйств[154]154
Там же, л.248–249
[Закрыть].
Советские оккупационные власти и местные немецкие органы сделали многое, чтобы воспрепятствовать возникновению пропасти между переселенцами и местными жителями, зарождению у переселенцев настроений безнадежности и пассивности, воспитанию у местного населения внутреннего убеждения в том, что переселенцы – это не своего рода чужеземные захватчики, а такие же жертвы войны, как и многие другие немцы.
Как в ходе реформы, так и после ее завершения имелись случаи, когда крестьяне по разным причинам добровольно возвращали свои участки или они отбирались по суду (в 1946-47 гг. – 14.552 хозяйства, в 1948 г. – 10.531 хозяйство и в 1949 г. – 6.207 хозяйств)[155]155
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, пор. 18, п.6, л.24
[Закрыть].
Через некоторое время, в июне 1949 года, Немецкая экономическая комиссия приняла решение все земельные участки, находившиеся вследствие земельной реформы в собственности местного самоуправления, объявить собственностью народа, и на базе этих участков образовать народные имения, которые составили Объединения народных имений.
Земельная реформа, имевшая, несомненно, большое политическое значение, и проводившаяся с участием органов СВАГ, при усердии и трудолюбии немецких крестьян содействовала некоторому экономическому развитию советской оккупационной зоны, а затем ГДР и поставила ее на первое место среди стран Восточной Европы. Сотни тысяч крестьян и переселенцев получили возможность работать на своей земле и обеспечить себе независимое существование. Собранный урожай и успешное завершение плана поставок позволили повысить нормы снабжения и отменить карточки групп VI и V. Но по развитию сельскохозяйственного производства ГДР все-таки существенно отставала от Федеративной Республики Германии, где аграрная реформа была менее радикальной и проводилась в меньших масштабах. Эта разница особенно заметно проявилась в последующие годы.
Глава пятая
Репарации: по «праву победителя» или по справедливости
В войнах последних двух столетий для компенсации своего материального ущерба противоборствующие стороны широко применяли различные формы материальной ответственности, налагавшиеся на побежденного. Древнейшим и на протяжении многих веков наиболее распространенным среди них был захват военных трофеев, то есть изъятие у противника брошенного им на поле боя или сданного при капитуляции его военного имущества. Это означало, что изъятие у побежденного государства или его населения любого другого имущества после прекращения боевых действий не может квалифицироваться как взятие трофеев. Такие действия противоречат букве и духу международного права, и для их обозначения существуют иные понятия, такие, например, как грабеж или мародерство.
Принципиально иной характер носила такая форма материальной ответственности государства-агрессора как репарации. В современном международном праве и, в частности, в такой ее отрасли, как право в период военного конфликта, репарации представляют собой форму справедливого материального возмещения ущерба, нанесенного стране-жертве, со стороны побежденного государства-агрессора.
В связи с огромными масштабами грабежа материальных и культурных ценностей, совершавшегося в оккупированных странах нацистской Германией и ее союзниками во второй мировой войне, широкое применение получила и такая форма справедливой ответственности со стороны агрессора как реституция. Она выражалась в виде возвращения (или возмещения) имущества, неправомерно изъятого государством-агрессором на территории другого государства, или переданного им третьей стороне. Все эти формы сделки при мирном урегулировании с Германией и ее союзниками объявлялись недействительными. Нарушение такого закона войны, как ограбление общественного или частного имущества в современном международном праве относится к категории военных преступлений.
Поскольку политическая и правовая оценка реституции ценностей, захваченных немецко-фашистскими оккупантами, будет рассматриваться особо в главе о политике в области культуры, в данной главе предпринимается попытка проанализировать формы и методы деятельности СВАГ и других специальных органов Советского Союза по изъятию из побежденной Германии лишь трофеев и репараций.
Трофейная служба в Красной Армии была создана, когда в ходе Великой Отечественной войны возникли для этого соответствующие условия, то есть когда немецкие войска отступали, оставляя после себя военные материалы и вооружение, а советские войска вели наступательные действия. Такие условия появились в ходе и после Московской битвы. В марте 1942 года при ГКО были созданы две правительственные комиссии: по сбору трофейного имущества и вооружения во главе с маршалом С.М. Буденным и по сбору черных и цветных металлов под руководством Н.М. Шверника. Тогда же в составе штаба Тыла Красной Армии было создано Управление по сбору и использованию трофейного имущества, вооружения и металлолома во главе с генералом Ф. Вахитовым[156]156
Кнышевский П.Н. Указ. соч. С. 18
[Закрыть]. Через год на место упраздненных комиссий был создан Трофейный комитет при ГКО под руководством маршала К.Е. Ворошилова. С апреля 1943 года были сформированы самостоятельные трофейные войска, которые насчитывали тогда 34 тысячи человек. В ходе войны результаты их работы были внушительными. На полях былых сражений они собрали 24.615 танков и САУ, 68 тысяч орудий, 30 тысяч минометов, 3 млн. винтовок, около 2 млрд патронов и 50 тысяч автомашин.
В феврале 1945 года произошла очередная реорганизация трофейной службы Красной Армии. Вместо упраздненного Трофейного комитета при военных советах фронтов появились постоянные трофейные комиссии, которыми по оперативным вопросам руководило Главное трофейное управление наркомата обороны.
Находившиеся на территории бывших вражеских стран советские трофейные войска уже не занимались сбором военных трофеев, поскольку война кончилась, а выполняли задачу собирать все, что плохо лежит, или считается бесхозным имуществом.
Лишь из одной Германии трофейные войска, по данным генерала Вахитова, отправили на родину следующее имущество: 21.834 вагона вещевого и обозно-хозяйственного имущества, 73.493 вагона стройматериалов и «квартирного имущества», в том числе 60.149 роялей, пианино, дизгармоний, 458.612 радиоприемников, 188.071 ковер, 941.605 предметов мебели, 264.441 настенных и настольных часов, 6.370 вагонов бумаги, 588 вагонов посуды, преимущественно фарфоровой. Было также отправлено 3.338.348 пар гражданской обуви, 1.203.169 пальто, 2.546.919 платьев, 4.618.631 штуку белья, 1.052.503 головных уборов, 154 вагона мехов, тканей и шерсти, а также 24 вагона музыкальных инструментов. В СССР было отправлено свыше 2 млн. голов рогатого скота и 206.025 лошадей. Почти половина трофейного продовольствия, захваченного в Германии, шла в оккупационные войска.
Что же касается такой формы материальной ответственности, налагавшейся на побежденного, как контрибуция, то до Версальского мирного договора 1919 года она считалась «нормальным правом победителя» вне зависимости от виновности или невиновности побежденного. Однако, по существу, это был замаскированный грабеж оккупированной страны, дань победителю независимо от понесенного им ущерба в войне. После второй мировой войны в ходе мирного урегулирования контрибуция как институт международного права союзниками по антигитлеровской коалиции не применялся.
В годы второй мировой войны Германия и ее союзники по фашистскому блоку на захваченных территориях СССР установили жесткий режим военной оккупации и экономического грабежа. Им удалось оккупировать советскую территорию, составлявшую около 1.800 тыс. кв. км., на которой накануне войны проживало более 80 млн. человек, то есть 45 процентов всего населения страны, производилось 33 процента валовой продукции промышленности, находилось 47 процентов посевных площадей, 45 процентов скота и 55 процентов железнодорожных путей страны. В зоне военных действий и под оккупацией оказалось 98 тыс. колхозов и 1.876 совхозов, 2.890 МТС[157]157
Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. С. 157–159
[Закрыть].
Советское верховное командование нередко само проявляло инициативу уничтожать все на путях отхода наших войск, чтобы оно не досталось врагу. Так, в приказе Ставки Верховного Главнокомандования № 0428 от 17 ноября 1941 года говорилось о необходимости «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог». На эту операцию бросалась авиация, мощная артиллерия, огнеметы, диверсионные группы Красной Армии и войск НКВД. На оккупированной территории немцы не разрушали церковные здания и имущество церкви, тогда как советская власть еще до войны уничтожила около 50 тысяч храмов, часовен и колоколен, изъяла сотни тысяч пудов церковной утвари, около 250 тысяч колоколов[158]158
Кнышевский П.Н. Указ. соч. С. 4–5
[Закрыть].
Обеспечение эффективного использования экономических ресурсов захваченных районов СССР, как и других оккупированных стран, было одной из основных функций всей системы оккупационных органов Германии.
Чрезвычайная государственная комиссия СССР по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников рассмотрела около четырех млн. актов об ущербе, причиненном советскому народу за время оккупации. Было установлено, что только прямой ущерб (потеря от прямого уничтожения имущества) составляет 679 млрд. рублей (в ценах 1941 г.)[159]159
Н. Вознесенский. Указ. соч. С. 161–162
[Закрыть]. А весь материальный ущерб, нанесенный Советскому Союзу в годы войны, составил 2.569 млрд. руб. Это означает, что страна потеряла треть своего национального богатства, а Белоруссия – свыше половины.
Исходя из этих данных, советское правительство в переговорах с другими союзниками настойчиво предлагало установить справедливое возмещение со стороны Германии того ущерба, который она нанесла оккупированным странам и особенно Советскому Союзу.
Репарации с Германии, по крайней мере для Советского Союза и большинства других стран, претендовавших на их получение, должны были служить достижению целей уничтожения военно-промышленного потенциала Германии и тем самым недопущения ошибки Версальского мирного договора, а также частичного возмещения материального ущерба, причиненного Германией странам антигитлеровской коалиции.
Эта двуединая задача была весьма сложной и по своей сути противоречивой. Поскольку военная промышленность составляла важную структурную часть германской экономики в целом, то ее разрушение не могло не повлиять на весь экономический потенциал страны. По этому поводу английская газета «Манчестер гардиан» в статье от 30 августа 1947 г. справедливо утверждала, что «разрушенная Германия является экономическим бедствием, сильная… – мировой угрозой».
Советские представители в ходе войны принимали активное участие в выработке союзнической репарационной политики. В Москве была учреждена Межсоюзническая комиссия по репарациям в составе представителей СССР, США и Великобритании. Английское правительство отказалось поддержать общую сумму репарации, определенную Советским Союзом, а США предложили вернуться к этому вопросу в процессе работы репарационной комиссии. В дальнейшем и США также не поддержали согласованной ранее справедливой суммы репарации для Советского Союза.
Тем не менее совместными усилиями союзников по антигитлеровской коалиции, несмотря на разную степень их заинтересованности в получении репараций, удалось выработать демократические принципы возмещения материального ущерба. Так, наиболее важными из этих принципов были три: во-первых, возмещение должно осуществляться не в полном объеме, а лишь частично; во-вторых, репарации будут изыматься не в денежной, а в натуральной форме. Этот принцип для Советского Союза имел особое значение, ибо он предполагал единовременное изъятие из национального богатства Германии в форме демонтажа предприятий, особенно в военной промышленности, заграничных активов и, что для СССР было крайне важным и срочным, уплату репараций из текущей продукции, а также использование германского труда; в-третьих, – репарации должны быть посильными для Германии, чтобы от них не слишком страдали трудящиеся и не вызывали новых политических и экономических потрясений.
Поскольку нанесенный в годы войны прямой ущерб Советскому Союзу составил 128 млрд. долларов, что соответствовало 679 млрд рублей, нереалистично было бы рассчитывать на его полное возмещение. Поэтому на конференции в Ялте было решено получить от Германии репарации в пользу жертв агрессии на сумму 20 млрд. долларов. Половина из них, то есть 10 млрд долларов, предназначалась Советскому Союзу и Польше[160]160
Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании /4-11 февраля 1945/. Сборник документов. М., 1984. С. 106–107
[Закрыть].
В Потсдаме принципы репарационной политики были вновь подтверждены и конкретизированы. Руководители трех держав решили в дополнение к репарациям из советской зоны оккупации передать Советскому Союзу дополнительно из западных зон 15 процентов пригодного к использованию и комплектного капитального оборудования в обмен на эквивалентную стоимость поставок из советской зоны в западные продовольствия, угля, цинка, поташа, древесины и нефтепродуктов. Далее в счет репарации без оплаты или возмещения СССР должен был получить десять процентов капитального оборудования, не являющегося необходимым для германской мирной промышленности. Репарационные поставки из западных зон должны были быть завершены в течение двух лет. При этом советское правительство отказалось от претензий на акции германских предприятий в западных зонах и на заграничные активы, а также на золото, захваченное союзными войсками в Германии. Что же касается относительно скромной суммы репарационных платежей в пользу СССР и Польши в десять млрд. долларов, то наши историки и экономисты до сих пор не могут выяснить, из какого же расчета исходил председатель Репарационной комиссии посол И.М. Майский, рекомендовавший Сталину эту сумму[161]161
Новая и новейшая история. 1994. № 3. С. 147
[Закрыть]. Сталин же предложил ее на конференции в Ялте. Ведь стоимость имевшихся в Германии более тысячи военных заводов многократно превышала эту сумму. С другой же стороны, разрушенный оккупантами один лишь советский Новокраматорский завод тяжелого машиностроения стоил сотни миллионов долларов. Достаточно еще напомнить, что 10 млрд. долларов – это 10 процентов госбюджета США за 1944-45 гг., или 1 с четвертью годового бюджета США в мирное время (1936–1938 гг.). Это далее 6-месячные расходы Великобритании на войну или 2 с половиной годового бюджета страны в 1936–1938 гг.[162]162
Кнышевский П.Н. Указ. соч. С.6
[Закрыть].