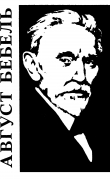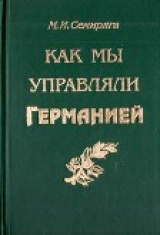
Текст книги "Как мы управляли Германией"
Автор книги: Михаил Семиряга
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Глава десятая
«Союзники – противники»
Не нуждается в доказательствах то положение, что согласованная в годы войны союзническая позиция по германскому вопросу могла бы быть успешно продолжена и в последние годы. Но только при условии, что сотрудничество и готовность к компромиссам оставались бы такими же, как в военное время.
Разумеется, нет основания идеализировать такое уникальное в истории военное объединение стран, как антигитлеровская коалиция – весьма различных по своему общественно-политическому строю государств – США и Англия, с одной стороны, и Советский Союз, с другой. И в Вашингтоне, и в Лондоне имелись влиятельные силы, считавшие эту коалицию «странным союзом» и стремившиеся использовать его в своих интересах в ущерб союзнику, на долю которого выпала главная тяжесть коалиционной войны. Сталин, со своей стороны, также считал эту коалицию временной и вынужденной мерой и не рассчитывал на ее долгожительство после победы над общим врагом. Как утверждается в некоторых исследованиях по истории советских спецслужб, уже «с конца второй мировой войны в НКВД/НКГБ/МГБ Соединенные Штаты стали именоваться не иначе, как «главный противник»[317]317
Кр. Эндрю и О. Гордиевский. Указ. соч. С.377
[Закрыть].
Начальник Главного разведуправления Красной Армии генерал-лейтенант Ильичев 24 апреля 1945 г. прислал начальнику Генерального штаба генералу армии А.И. Антонову тревожную докладную записку. Он сообщал, что руководитель военной миссии США в Москве генерал Дж. Р. Дин, будучи в Вашингтоне, высказал предложение о необходимости круто изменить американскую политику в отношении русских. Он обвинил советское руководство в том, что должностные лица в Москве искусственно создают всевозможные недоразумения, допускают оскорбления американцев, в частности, летчиков, совершивших вынужденные посадки, плохо обращаются с освобожденными американскими военнопленными.
Советские власти отказываются разрешить американским экспертам посещение Гдыни, где находятся захваченные советскими войсками новейшие типы немецких подлодок. Генерал Дин советует отменить очередной американский конвой в Мурманск. ГРУ стало известно, что глава английской военной миссии в Москве адмирал Арчер поддерживает предложение Дина.
В первый период оккупации Германии союзники по антигитлеровской коалиции стремились не только сформулировать единые цели в отношении побежденной Германии, но и учитывали опыт друг друга в создании эффективно действующих оккупационных органов власти в своих зонах.
Так, например, в американской, как и в советской зоне, высшая административная власть совмещалась с военным командованием и находилась в руках командиров соединений. Так, командующий армией был одновременно начальником военной администрации в районе дислокации его войск. Исходя из этого, американская зона была разделена на западный (7-я армия) и восточный (3-я армия) округа. Командующие 7-й армией генерал-лейтенант Джеффри Кейс и 3-й армией генерал-лейтенант Люциан Трэскотт были начальниками военных администраций соответствующих округов.
В первый период оккупации (до августа 1945 г.) этот принцип распространялся и на корпуса. Например, командир 23-го армейского корпуса США руководил военной администрацией Гросс-Гессена, командир 12-го армейского корпуса управлял Нижней Баварией и Верхним Пфальцем.
В июле-августе 1945 года территория американской зоны была разделена на три федеральные земли с немецкими земельными управлениями – Гросс-Гессен, Бавария и Вюртенберг-Баден. Соответственно были созданы и три управления военной администрации. При главнокомандующем американскими оккупационными войсками в Германии был создан специальный штаб военной администрации во главе с заместителем главкома по гражданским делам генерал-лейтенантом Л. Клеем.
В последующие месяцы происходила дальнейшая централизация немецкого самоуправления – из представителей трех земель был создан Совет федеральных земель. В переходный период командующие армиями сохраняли свою власть наряду с управлением военной администрации. С 1 января 1946 года такой дуализм был устранен и начальники управлений военной администрации подчинялись непосредственно главнокомандующему американскими войсками на Европейском театре генералу Дж. Т.Макнэрни[318]318
ЦАМО, ф.32, оп.3448 1 5, л. 18, л. 199–204
[Закрыть].
Союзники с начала 1946 года усилили политическую работу среди немецкого населения. Американская военная администрация широко использовала услуги тех немцев, которые недавно усердно служили Гитлеру. Вскоре она стала самым большим работодателем в Германии. Ее численность составляла 300 тысяч человек. Среди них было немало и нацистов, в том числе и функционеров[319]319
G.S. Wheeler. Op.cit. S.151
[Закрыть]. В британской зоне существовала аналогичная структура.
Как в списках немцев, на поддержку которых можно было рассчитывать, составленных еще в Москве, под первыми номерами стояли В.Пик и В.Ульбрихт, так и в американской «Белой книге для Германии» под номером один стоял Конрад Аденауэр. И он, как мог, оправдывал доверие не только американцев, но и англичан и французов.
Назначенный американцами обер-бургомистром Кельна К.Аденауэр рассказывал, что, когда он обратился к американскому командующему выделить для населения продовольствие из запасов американской армии, то такую «посильную помощь» он получил. «Человеческие отношения с американскими офицерами, с которыми мне пришлось работать, – писал в своих мемуарах Аденауэр, – были по-настоящему хорошими… Все американцы, с которыми мне пришлось иметь дело, были толковыми и понятливыми людьми, и мы быстро сработались».
21 июня 1945 года в соответствии с договоренностью американцы покинули Кельн, и их место заняли англичане. Аденауэр рассказывал, что он часто конфликтовал с ними, жаловался, что англичане плохо относились к немецкому населению. Антисоциалисту Аденауэру не понравилось, что после того как в июле 1945 года на выборах в Англии победили лейбористы, британские оккупационные власти установили контакт с немецкими социал-демократами и в своей политике опирались на них.
Начальник военной администрации Кельна майор Прайер заявил, что задача его администрации состоит в том, чтобы «перевоспитать» Германию. «…Остается фактом, – говорил он, – что на протяжении двенадцати лет Германия открыто поддерживала систематическое ограбление Европы и охотно участвовала в нем. За действия правительства страны в конце концов отвечает нация, которая длительное время терпит такое правительство. Чтобы пробудить и развить в немцах чувство такой демократической ответственности, я передаю сегодня кельнскому муниципальному совету обязанности и права, которыми он пользовался ранее по Веймарской конституции, при сохранении однако моей абсолютной власти как начальника военной администрации»[320]320
К. Аденауер. Воспоминания (1945–1953). Вып І. М., 1966, с.21
[Закрыть].
Структура французской военной администрации на июнь 1945 года была такова: под французским управлением находилась провинция Баден и юго-западная часть провинции Вюртенберг. Во главе военной администрации провинции стоял генерал-губернатор с аппаратом 25–30 человек. В городах и районных центрах французские власти имели по 5–8 офицеров с обслуживающим персоналом. Общее руководство аппаратом военной администрации осуществляла Центральная комиссия по делам Германии во главе с бригадным генералом Кельтцем при начальнике штаба полковнике Марти. В составе комиссии работали 200 офицеров. Она была создана в ноябре 1944 года и выполняла следующие функции: назначала обербургомистров и бургомистров из бывших немецких чиновников, утверждала состав служащих бургомистра; создавала вспомогательную полицию; издавала для немцев бюллетени и вела радиопередачи из Штутгарта; издавала постановления и приказы, регламентирующие жизнь населения; утверждала продовольственные нормы и контролировала снабжение населения; с помощью бургомистра осуществляла учёт населения; устанавливала охрану предприятий.
Рассказывая о невероятно трудных днях после капитуляции Германии, живший в то время в оккупированном французами г. Людвигсхафене будущий канцлер Германии Г. Коль вспоминал, что «это был период французской оккупации, который ныне невозможно себе представить. Это был период, когда Шарль де Голль ещё мечтал о том, чтобы Франция сохранила за собой левый берег Рейна»[321]321
В. Мазер. С.28
[Закрыть]. Среди французов в те первые послевоенные годы была в ходу злобная острота, которую позже любил повторять Вилли Брандт: «Мы так любим Германию, что рады тому, что она представлена не единственным числом».
В первые месяцы оккупации американские и советские оккупационные власти ёщё проявляли готовность находить взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам. Даже по такому, как необходимость создания единых германских административных органов. На встрече с генералом Соколовским 15 ноября 1945 года генерал Клей заявил, что США вместе с Великобританией и СССР готовы совместно решить этот вопрос. Но представитель Франции в Контрольном совете имеет особую точку зрения. Как записал в своём служебном дневнике генерал Соколовский, Клей «убеждён, что позиция Франции будет в свете этого настолько неблаговидной, что ей рано или поздно придётся присоединиться к общему решению».
Далее генерал Клей выдвинул неожиданно откровенное предложение создать центральные немецкие органы на двусторонней основе – американской и советской. «Это значило бы, – пояснил он, – что США не идут ни на какие проекты «западных блоков» и что сотрудничество между нашими двумя странами может быть плодотворным».
Остается открытым вопрос, не является ли это предложение развитием идеи о разделе сфер влияния между США и Советским Союзом после победы над Германией, идеи, которая вынашивалась в правящих кругах США ещё в годы войны. Так, с 20 по 24 июля 1944 года американский военный представитель генерал Дин предпринял поездку на 3-й Белорусский фронт. На приёме у командующего фронтом маршала А.М. Василевского он заявил: «США не имеют никаких политических или других устремлений на Балканах или в других странах, и после войны наши две страны должны быть сильными, каждая в своих областях – заранее обусловленных районах».
Можно привести немало фактов, свидетельствовавших о деловом сотрудничестве руководителей военных администраций западных держав и Советского Союза, особенно в первый период оккупационного режима. Так, ещё в ходе войны союзники не представляли себе точно, как должно быть организовано денежное обращение в побеждённой Германии и как поступить с валютой, захваченной немецкими властями в оккупированных странах. Между соответствующими органами СССР и США шёл полезный обмен мнениями. Например, 10 февраля 1944 года посольство США в Москве направило в НКИД письмо, в котором со ссылкой на письмо Молотову от 17 января 1944 года запрашивалось мнение советского правительства о денежных мероприятиях во время вступления и оккупации Германии. В письме сообщалось, что американцы намерены начать печатание немецких денег «Марка М» не позднее 14 февраля 1944 года. Посольство ставило вопрос, намерено ли советское правительство использовать предлагаемые деньги или оно имеет иные планы [322]322
АВП РФ, ф.129, оп.29, д.3, п.42, л.35
[Закрыть].
Каков был ответ из Москвы, автору выяснить не удалось.
По проблеме валюты имели место запросы и советского правительства, направленные в Вашингтон. Так, посольство СССР 24 июля 1945 года сообщило правительству США, что расследованием в Берлине установлено, что при эвакуации Варшавы немецкие власти вывезли 800 мешков в город Страсбург с советской валютой. По определению советского Госбанка, эта сумма составляла, примерно, 300 млн. рублей и выражалась просьба о содействии в ее возвращении Советскому Союзу[323]323
АВП РФ, ф.129, оп.30, п.47, д.47, л.29
[Закрыть].
История коалиционных войн в прошлом знает немало случаев, когда накануне победы над общим противником союзники по коалиции допускали такие авантюристические акции, которые сводили на нет их усилия в войне и спасали противника от неминуемого поражения. Влиятельные силы в Англии и США в последние недели второй мировой войны также были не прочь последовать этим историческим примерам и добиться достижения своих целей в ущерб интересам Советского Союза. Однако генерал Эйзенхауэр предотвращал подобные намерения и оставался верен духу союзнического долга. Он решительно отверг предложения немцев о подписании сепаратного соглашения о прекращении военных действий.
В ходе советского наступления на Берлин и союзных войск на западе Германии во второй половине апреля 1945 года со стороны некоторых представителей гитлеровской клики и верховного командования вермахта предпринимались неоднократные попытки договориться о сепаратной капитуляции только перед англо-американскими союзниками.
Одна из таких попыток была предпринята Гитлером через шведского банкира Ф. Бернадотта 24 апреля 1945 года. Это предложение через Стокгольм было немедленно направлено союзникам и 26 апреля президент Трумэн ответил следующее: «Немецкая капитуляция может быть принята при условии капитуляции на всех фронтах как с Соединенными Штатами, так и Великобританией и Советским Союзом. Если это условие будет принято, то немецкие войска на всех фронтах должны сдать оружие местному командованию союзников. Если где-то ещё будет продолжаться сопротивление, атаки союзников будут продолжаться до полной победы»[324]324
F.Bernadotte. Op. cit. S.87
[Закрыть]. Так, американские и английские военные миссии в Лондоне 26 апреля 1945 года сообщили советскому генштабу, Эйзенхауэр направляется немедленно на переговоры в Западную Голландию с немецким командованием, и он высказал просьбу, чтобы советские представители также присутствовали на этих переговорах[325]325
ЦАМО, oп. 158, д.7/5, л. 109
[Закрыть].
Военные миссии союзников сообщили начальнику советского генштаба генералу армии Антонову 9 мая 1945 года следующее: «Безоговорочная капитуляция Германии произошла в равной степени как перед Россией, так и перед союзными войсками, и всякое продолжение военных действий после условленного часа прекращения их означает враждебный акт одинаково, как против России, так и против союзников. Следовательно, если какие-либо крупные части германских войск предприняли бы такую попытку, они не рассматривались бы более как солдаты. Вы можете быть уверены, что при подобных обстоятельствах генерал Эйзенхауэр будет продолжать активно сотрудничать с Красной Армией в уничтожении таких воинских частей…».
В тот же день 9 мая 1945 года американская военная миссия в Москве сообщила советскому генштабу через генерала Славина, что «Эйзенхауэр желает, чтобы во Фленсбург были направлены также советские офицеры для контроля над верховным немецким командованием». Непонятно только, почему советское командование направило во Фленсбург группу генерала Трусова лишь вечером 17 мая, тогда как американская миссия генерала Рукса и английская во главе с бригадиром Фурдом прибыла во Фленсбург сразу же после капитуляции германских войск.
5 мая 1945 года генерал Антонов сообщил генералу Эйзенхауэру, что «советское командование, идя навстречу пожеланиям генерала Эйзенхауэра, изложенным в письме от 1 мая 1945 года, остановило продвижение своих войск к Нижней Эльбе, к востоку от линии Висмар, Шверин, Демитц. Мы надеемся, что генерал Эйзенхауэр, в свою очередь, учтет наши пожелания в отношении продвижения войск в Чехословакии»[326]326
ЦАМО, oп. 158, д.20, л.69–70
[Закрыть].
Американская военная миссия 10 мая 1945 года направила генералу Антонову письмо, в котором сообщила, что генерал Эйзенхауэр потребовал от немецкого верховного командования прекратить нарушение акта о капитуляции, не двигаться на запад и не сопротивляться Красной Армии, немедленно известить всех об условиях капитуляции. Он также предупредил немцев, что американские войска получили приказ блокировать все подступы к их линиям и изолировать немецкие войска с востока, и что немецкие войска будут переданы Красной Армии. Если Шернер и Веллер сдадутся американцам, они также будут переданы Советскому верховному командованию. Эйзенхауэр отметил, что действия немцев считает двуличными и сообщил, что он «приказал, чтобы Кейтель и Кессельринг, генералы Иодль и Варлимонт были немедленно удалены из верховного командования и арестованы»[327]327
ЦАМО, on. 158, д.7/6, л.128–129
[Закрыть].
В спокойной обстановке при взаимопонимании национальных интересов решались сложные вопросы и в рамках Контрольного совета и Координационного комитета, хотя и здесь не обходилось без разногласий и острых дискуссий. В тот же период западные власти с пониманием относились к усилиям советских представителей добиваться точного и полного выполнения в западных зонах обязательств по репарациям, реституциям в пользу Советского Союза и репатриации советских граждан. Со своей стороны оккупационные власти западных держав благодарили органы СВАГ за их поддержку в розыске могил погибших союзных военнослужащих в годы войны в Восточной Германии.
17 октября 1946 года французский главнокомандующий в Германии генерал П. Кениг обратился в СВАГ с просьбой разыскать и вернуть Франции вывезенный оккупантами исторический вагон № 24190, принадлежавший международной компании спальных вагонов, в котором в 1918 году был подписан акт о перемирии между Антантой и Германией. Просьба была выполнена, вагон был найден в Берлине, передан французским властям и водворен на прежнее место. Заместитель французского главнокомандующего в Германии генерал Нуаэре предложил наградить за розыск лейтенанта Васильева и подполковника Гуляева. Со своей стороны генерал Кениг возвратил Советскому Союзу шесть тысяч научных трудов, вывезенных немцами из Института металлов, расположенного в Харькове.
Был случай, когда разрешенная СВАГ к изданию немецкая газета «Нахт экспресс» опубликовала критическую в отношении американской военной администрации статью. Редакция была оштрафована СВАГ на солидную сумму и об этом было сообщено в прессе. Нормальному сотрудничеству военных администраций в разных зонах содействовала и полуофициальная договорённость между ними о невмешательстве в дела других зон. Но вскоре и эта договорённость обеими сторонами стала игнорироваться.
Начиная с первых же дней оккупации Германии и в последующие несколько лет западные союзники серьезно не рассчитывали на опасность прямой конфронтации с Советским Союзом по германскому вопросу. Подтверждением тому может служить постоянное сокращение их вооруженных сил, дислоцированных на территории Германии, как показано в таблице (по советским источникам)[328]328
АВП РФ, ф. Вышинского, оп. 12, п.40, д.23, лл. 139–142
[Закрыть]:


Таким образом, в целом на январь 1947 года в Германии оставалось дивизий и бригад – 20, личного состава – 525 тыс. чел., танков и САУ – 2 600, орудий – 2 500 и самолётов – 3 300.
На протяжении мая-июня 1945 г. американское командование перегруппировало находившиеся в Германии войска. 1-я и 9-я американские армии были выведены в оперативную глубину, а позднее переброшены в США (11 дивизий) и в бассейн Тихого океана для участия в войне против Японии.
Вместе с тем, в обзоре Бюро информации СВАГ «О политическом положении в Германии» от 3 ноября 1945 года выражалась озабоченность тем, что в первые недели июля этого года «после вступления англо-американских и французских войск в Берлин политическая обстановка в городе осложнилась. С первых же дней совместной оккупации обнаружилось различие принципов политики по отношению к оккупированной Германии». Далее в документах утверждалось, что союзники отрицательно отнеслись к возрождению политических партий и созданию органов самоуправления. Они были неудовлетворены персональным составом городского магистрата, назначенного советскими властями из демократических элементов, то есть преимущественно коммунистов. Союзники стремились усилить своё влияние среди населения города и ослабить советские позиции. Начало этой борьбы было ознаменовано англо-американским походом против созданного советской комендатурой магистрата и других органов городского самоуправления.
Уже 25 февраля 1946 года С.И. Тюльпанов докладывал в ЦК ВКП/б/, что в Берлине союзники развернули активную деятельность против объединения коммунистической и социал-демократической партий. Они энергично опекали одного из лидеров немецкой социал-демократии К. Шумахера, который 19 февраля 1946 года прибыл в Берлин, чтобы воспрепятствовать объединению двух рабочих партий.
Комиссия Главного политического управления Вооруженных сил СССР во главе с генерал-полковником И.С. Шикиным, проверявшая работу Управления пропаганды СВАГ в марте 1946 года, в качестве одного из существенных недостатков его деятельности отметила то, что Управление не организовало систематической контрпропаганды, то есть пропаганды по разоблачению политики западных держав. В документе отмечалось, что союзники в Берлине уже создали специальные пропагандистские центры: Управление информации США во главе с бывшим начальником отдела психологической войны военного министерства США генералом Макклюром. Такое же управление существовало в британской администрации во главе с опытным военным дипломатом генералом Бишопом и генералом Трэдуэллом. Существовала и французская служба информации под руководством бригадира Хофета[329]329
СВАГ. Управление пропаганды. С. 148–149
[Закрыть].
В недели и дни, непосредственно предшествовавшие объединению двух рабочих партий в апреле 1946 года, союзники и советские власти в Германии как-бы соревновались в том, кто примет больше запретов в отношении той партии, которой они не симпатизировали. Советское командование запрещало проводить среди социал-демократов какие-либо референдумы, предлагавшиеся противниками объединения и не санкционированные комендатурами, отменяло собрания и конференции социал-демократов, всячески поддерживало оргкомитеты по объединению. Дело доходило до арестов и задержаний противников объединения советскими спецслужбами.
Западные союзники, наоборот, утверждая, что объединение в Берлине и в советской зоне происходит насильно, без учёта мнения рядовых членов обеих партий, всячески тормозили его.
Несмотря на то, что на своих первых заседаниях в период между сентябрём и декабрём 1945 года Контрольный совет принял ряд согласованных решений, определявших социально– экономические структуры и пути дальнейшего развития Германии, реально политические тенденции в разных зонах развивались в прямо противоположном направлении. Этот процесс был вызван постоянно изменявшимся соотношением сил в мире и обострением противоречий между Советским Союзом и США, претендовавшими на установление своей гегемонии, как в Германии, так и во всей Европе.
Созданные в советской зоне оккупации центральные немецкие управления вызывали недовольство союзников, опасавшихся, что эти органы впоследствии могут стать базой для организации центрального правительства Германии. Однако, несколько месяцев спустя, руководители союзных администраций поняли, что таким путём будет трудно завоевать симпатии немцев. Было решено объявить «новый курс» по отношению к Германии, то есть разрешить деятельность политических партий и общественных организаций и более активно вторгаться во внутриполитические отношения в своих зонах и секторах Берлина.
Нет оснований утверждать, будто позиция советских представителей в КС всегда и по всем обсуждавшимся вопросам была конструктивной и последовательной. Так, сильный идеологический налёт чувствовался в непоследовательной позиции СВАГ в отношении установления по всей Германии свободного обмена информацией и демократическими идеями всеми средствами. Дела расходились со словами в позиции советской стороны по ряду аспектов образования центральных германских административных органов. С неоправданной настойчивостью советские представители требовали от западных властей решить проблему репатриации советских граждан (и даже не граждан) вопреки их желанию возвращаться на родину.
Но факты, тем не менее, подтверждают, что советская делегация часто ставила на обсуждение и решение серьёзные вопросы, вытекавшие из Потсдамских соглашений, но не получившие поддержки другой стороны. Так, по её инициативе ещё в ноябре 1945 года был поставлен вопрос о противоречившем Потсдамским договоренностям нахождении частей бывшего вермахта в британской зоне, не переведённых на положение военнопленных. В июне 194 6 года советский представитель безуспешно требовал от своих западных коллег выполнить директиву КС о разминировании и уничтожении немецких военных укреплений. Она полностью к этому времени была выполнена только в советской зоне.
Западные представители не могли ответить на вопросы советского делегата, почему своевременно не выполняются такие решения Московской сессии министров иностранных дел, как возврат в Германию к концу 1948 года всех немецких военнопленных, находившихся на территории союзных держав, как завершение в течение 1947 года земельной реформы, как запрещение в лагерях для перемещенных лиц пропаганды против союзных стран, как роспуск всех комитетов и центров, враждебных какой-либо союзной державе, как ускорение добровольной репатриации и др. Правда, некоторые из поставленных вопросов носили явно демагогический характер, ибо советские власти сами также не были заинтересованы в их положительном решении. А американский генерал Дж. Паттон так откровенно грубо предоставлял нацистам теплые места в государственном аппарате Баварии, что возмущенный генерал Эйзенхауэр даже отстранил его от обязанностей командующего[330]330
S.Tjulpanow. Op. cit. S.25
[Закрыть]. В сентябре 1947 года советский представитель заявил о незаконности соглашения об англо-американском контроле над Руром.
Из тех нарушений Потсдамских и других межсоюзнических решений, которые допускали английские, американские и французские власти в западных зонах Германии, руководство СВАГ делало далеко идущий вывод о том, что цели бывших западных союзников и СССР в Германии были диаметрально противоположными. Это обвинение справедливо лишь в том смысле, что, имея согласованные и справедливые по своей сути цели, Советский Союз на востоке Германии и западные союзники в своих зонах по-разному их реализовывали. Последующие события в Германии подтвердили, что в её западной части более успешно решались экономические проблемы, создавался демократический порядок и правовое государство, чего нельзя сказать о советской зоне оккупации.
Деловое сотрудничество союзников и его эволюцию в сторону конфронтации наиболее убедительно можно показать на примере деятельности высшего союзнического органа в Германии – Контрольного совета.
Первый период работы Союзной контрольной власти, то есть с момента её образования в июле 1945 года до принятия сепаратных решений западными державами по организации Бизонии в июле 1946 года, можно охарактеризовать, как период более или менее согласованной работы всех её органов. В этот первый год работы КС западные представители более или менее придерживались решений Потсдамской конференции, а также соглашения о контрольном механизме. Советская делегация в КС также проявляла готовность в случае необходимости идти на принятие компромиссных решений и реже говорила «нет», чем это происходило позднее.
В этот первый год своего существования КС действовал эффективно и решал очень серьезные политические, экономические и административные вопросы. Об этом свидетельствуют следующие факты. Из 193 вопросов, рассмотренных КС за весь трехлетний период его работы, 101 вопрос или 53 процента было рассмотрено в течение первого года деятельности. Из 883 вопросов, рассмотренных Координационным комитетом, 390 вопросов или 46 процентов было рассмотрено в течение первого года работы. Из 140 вопросов, одобренных или принятых к сведению КС, 85 вопросов или 61 процент было одобрено или принято к сведению в первый год работы. Из 546 вопросов, одобренных или принятых к сведению Координационным комитетом, 278 вопросов или 50 процентов было одобрено или принято к сведению в первый год работы.
Таким образом, из всех вопросов, рассмотренных Контрольным советом и Координационным комитетом в течение почти трех лет работы, половина была рассмотрена в первый период их деятельности. Важно при этом подчеркнуть, что многие из рассмотренных вопросов были разрешены положительно, по ним были приняты соответствующие законы, директивы и обращения[331]331
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, п.1, д.1, л.78–79
[Закрыть]. Но уже в этот период работы КС со стороны всех делегаций наблюдались попытки иногда в робкой форме обойти принятые решения, затормозить их принятие или вообще не выполнять их.
Второй период продолжался до 20 марта 1948 года. Он характеризовался нараставшей конфронтационностью в отношениях между западными державами и Советским Союзом. Иногда инициатором такой тактики, к сожалению, выступал Советский Союз. Напряженные отношения между членами Контрольного совета достигли апогея 20 марта 1948 года. Председательствовавший в этот день на заседании КС маршал Соколовский во исполнение указания высшего партийного и государственного руководства своей страны и сославшись на неготовность западных делегаций доложить о выполнении ими решений СМИД неожиданно закрыл заседание без указания даты следующего заседания. Расценив это решение маршала Соколовского как попытку вообще сорвать работу КС, западные представители разослали официальное извещение всем делегациям о том, что их представители не будут посещать заседания органов Союзной контрольной власти.
«Таким образом, – как расценила советская делегация позднее в одном из своих отчетных документов, – Союзная контрольная власть с 2 марта 1948 года фактически прекратила свою работу, хотя юридически она продолжала ещё существовать, поскольку никакого решения о её роспуске не было. После 20 марта 1948 года некоторое время продолжал функционировать только Союзный секретариат и Союзная комендатура Берлина и то часто формально, не принимая по существу никаких решений». В том же документе утверждалось, что «политика сепаратных действий американских, британских и французских представителей окончательно парализовала и сорвала работу Союзной контрольной власти»[332]332
Там же, л.76
[Закрыть].
Подобный вывод не в полной мере соответствует историческим фактам. Ведь именно председательствовавший в тот день советский представитель закрыл заседание КС без согласия с другими его членами.
Спустя несколько десятилетий при оценке этого факта нельзя отделаться от вопроса, было ли решение советского представителя в КС адекватным тому ущербу, который причинил интересам Советского Союза отказ западных держав разъяснить свою позицию на Лондонской сессии министров иностранных дел. Не было ли это решение вкладом Сталина в дальнейшее нагнетание ситуации вокруг германского вопроса и в конечном счете его вкладом в обострение международной напряженности? Следовало ли советским властям предпринимать этот ответственный шаг, чтобы через несколько месяцев в мае-июне 1949 года, на шестой сессии СМИД в Париже, проявлять инициативу в возобновлении деятельности Контрольного совета, в восстановлении межсоюзнической комендатуры в Берлине и образовании общегерманского Государственного совета только с экономическими функциями. Советское руководство не могло не предвидеть, что его инициатива будет обречена на провал. Общая политическая ситуация в Германии существенно осложнилась, а в западных зонах процесс образования сепаратного германского государства зашел слишком далеко, чтобы западные союзники могли сделать шаг назад до уровня Контрольного совета, осуществлявшего верховную власть в Германии. Они предложили образовать «верховную комиссию» с ограниченными полномочиями, что было объяснимо в той ситуации.