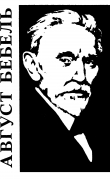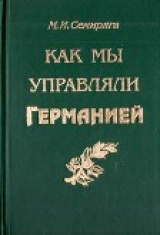
Текст книги "Как мы управляли Германией"
Автор книги: Михаил Семиряга
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
– патенты – 210,5 млн. долл.[203]203
РГАЭ, ф. 1562, оп.329, ед. хр.4597, д.517, л.54–55
[Закрыть].
Кроме промышленного оборудования и материалов в качестве трофеев и по репарациям из Германии в СССР к январю 1948 года было отправлено (в тыс. голов): лошадей – 554, крупного рогатого скота – 541, овец – 240 и свиней – 6.
Рассмотрев проблему реституции, комиссия Старовского уменьшила стоимость репарационных поставок из текущего производства на 31,2 млн. долларов за счет отнесения к реституции вывезенных из Германии зерна, скота, сахара и семян. Была создана специальная группа по определению общей суммы и основных видов претензий Советского Союза к Германии по реституциям, особенно в области художественных ценностей.
Два года спустя к 1 января 1950 года стоимость репарационных изъятий, определенная по методу комиссии Старовского, была существенно откорректирована как по стоимости некоторых видов, так и по общей сумме в 3 344,2 млн. долларов вместо 3 млрд. долларов в январе 1948 года.
На общую стоимость вывезенного оборудования к январю 1950 года повлияло то, что в соответствии с постановлением СМ СССР от 7 января 1949 года Германии были возвращены три прокатных стана, а по постановлению от 18 ноября 1949 года было возвращено еще 22 предприятия общей стоимостью около 20 млн. долларов, не считая советских капитальных вложений в эти предприятия.
Ряд немецких исследователей при подсчете репарационных платежей применяли иной метод и у них, естественно, получился иной итог, причем разница оказалась весьма существенной. Так, Г.Колер и И.Фишер считают, что общая сумма репарационных платежей Германии Советскому Союзу составляет не менее 16,3 млрд. долларов, а Р.Карлш дает как минимальную стоимость около 14 млрд. долларов.
После провозглашения ГДР советское руководство сочло политически целесообразным постепенно сокращать репарации из советской зоны. Тем более, что в ФРГ репарационные тяготы были меньшими и тоже постепенно сокращались. Такому решению предшествовала инициатива политбюро СЕПГ от 9 мая 1950 года с предложением Временному правительству ГДР обратиться к советскому правительству с просьбой «об уменьшении репарационных обязательств, установленных для Германии по соглашениям в Ялте и Потсдаме»[204]204
Отношения СССР с ГДР. Документы и материалы. М., 1974. С. 79–80
[Закрыть].
Через день такое ходатайство за подписью О. Гротеволя, естественно, было направлено И.В. Сталину, а еще через несколько дней, 15 мая 1950 года, глава советского правительства через министра иностранных дел А.Я. Вышинского передал О. Гротеволь письмо, в котором извещал, что по согласованию с Польшей соответствующее решение принято. Оставшаяся к выплате сумма репарационных платежей сокращалась на 50 процентов, то есть до 3 171 млн. долларов и ее выплата товарами была продлена на 15 лет, до 1965 года. Временное правительство, Временная народная палата и население ГДР расценили это решение как великодушный акт Советского Союза.
Правительства обоих государств подписали протокол о передаче в собственность германского народа 23 предприятий из советских акционерных обществ в Германии. Остававшиеся в собственности Советского Союза предприятия в соответствии с протоколом осуществляли свою деятельность по законам ГДР. В апреле 1952 года правительству ГДР были переданы еще 66 предприятий САО.
Наконец, в августе 1953 года Советский Союз принял решение с 1 января 1954 года вообще прекратить взимание германских репараций и призвал своих западных союзников по антигитлеровской коалиции последовать его примеру. Тогда же ГДР были переданы находившиеся на ее территории 33 крупных предприятия, принадлежавших Советскому Союзу, и сокращены расходы, связанные с пребыванием советских войск до 1 600 млн. марок, что составило пять процентов доходов государственного бюджета ГДР[205]205
Там же. С.302
[Закрыть]. Укажем для сравнения, что в 1949 году оккупационные расходы составляли 2 182 млн. марок, то есть 12 процентов от дохода государства. Уместно напомнить также и то, что в течение почти 50-летнего пребывания в Германии советских войск и в том числе почти шестилетней деятельности СВАГ и СКК в этой стране служили, жили и работали около 8,5 млн. наших соотечественников. Большой политический резонанс среди немецкого населения получило решение Советского Союза освободить всю Германию от выплаты государственных послевоенных долгов.
В результате вышеназванных решений Советского Союза потребность в существовании Управления репараций СССР в Германии и Управления советским имуществом отпала и с 1 января 1954 года они были расформированы.
Таким образом, после восьмилетнего существования на территории Восточной Германии (ГДР) советского управления и контроля как следствия капитуляции Германии, в августе 1954 года советское правительство приняло решение «отменить все приказы и распоряжения, которые были изданы Советской военной администрацией и Советской контрольной комиссией в Германии с 1945 по 1953 год по вопросам, касающимся политической, экономической и культурной жизни Германской Демократической Республики».
Какую же оценку советской репарационной программе в Германии, три десятилетия спустя после войны давал один из ее авторов – В.М. Молотов? – «После войны мы брали репарации, но это мелочь. Государство-то колоссальное у нас. Потом эти репарации были на старом оборудовании, само оборудование устарело. А другого выхода не было. Это некоторое небольшое облегчение тоже надо было использовать. Но опять-таки, вырывая себе кое-что, с чем надо было считаться? Мы же потихоньку создавали ГДР, нашу же Германию. Если бы мы вытащили оттуда все, как бы на нас народ ее смотрел? Западной Германии помогали американцы, англичане и французы. А мы ведь тащили у тех немцев, которые с нами хотели работать. Это надо было очень осторожно делать. Много мы тут не доработали. Но это тоже помогало. Надо было сказать, что немцы обновили свой фонд, перевели на новую технику, мы тогда у себя это сразу сделать не могли. Но некоторую часть оборудования отправили в Китай»[206]206
Сто сорок бесед с Молотовым. С.87
[Закрыть].
Приведенное признание Молотова вызывает, по крайней мере, три замечания. Во-первых, Молотов лукавил, заявляя, что репарации это – «мелочь». На самом же деле репарации не только содействовали восстановлению разрушенного хозяйства СССР, но и послужили толчком к техническому прогрессу в советской промышленности. Неправ Молотов и в своем утверждении, будто репарационное оборудование было устаревшим. В значительной своей части оно было на уровне того времени. Во-вторых, заслуживает внимания признание Молотова о том, что западные державы активно помогали восстановлению Западной Германии. Отказ США и Англии от своей доли репараций из Германии вполне объясним, и, в-третьих, не всем советским гражданам тогда было известно, что частью своих репараций Советский Союз делился с Китаем. А может быть и еще с какими-либо «братскими странами».
Чтобы усомниться в высказывании Молотова, пытавшегося явно недооценить значение репарационных поставок для народного хозяйства Советского Союза, достаточно вспомнить следующие данные. В 1940 году в нашей промышленности станочный парк составлял 710 тысяч единиц. В годы оккупации было расхищено и погибло 175 тысяч станков, остальные морально устарели и физически износились. Если кроме того учесть, что в 1943 году было изготовлено еще 14 тысяч станков, а в 1944 году запланировано изготовить 21 тысячу станков, то в 1945 году наш станочный парк, по расчетам доктора исторических наук А.Ваксера, не мог превышать 570–580 тысяч штук. Но в действительности же в этом году, как указывала наша официальная статистика, в советской промышленности насчитывалось 928 тысяч станков, то есть почти вдвое больше, чем предполагалось иметь, исходя из возможностей нашей станкостроительной промышленности и поставок союзников.
Подобная чудо-тенденция сохранялась и в последующие четыре-пять лет. В 1946–1950 гг. было выпущено отечественной промышленностью 290,7 тысяч станков и, несмотря на это, к началу 1951 года станочный парк СССР вдруг составил 1.507 тысяч штук[207]207
Аргументы и факты. 1994 г. № 20
[Закрыть]. За счет чего-же произошел столь стремительный рост? Приведенные данные показывают, что только отечественными мощностями достичь такого роста было невозможно. Остается допустить, что в этом сыграли свою роль репарации из побежденных стран и прежде всего из Германии.
В идеологических целях значение репарационных платежей из Германии для советского народного хозяйства преуменьшал не только Молотов, но и другие государственные деятели СССР. Так, председатель Госплана Н.Вознесенский официально заявил, что в соответствии с планом послевоенного восстановления и развития народного хозяйства территорий, подвергшихся оккупации, нам было необходимо произвести промышленной продукции в сравнении с уровнем этих районов в 1944 году в 5,5 раз, в том числе, выплавить стали более чем в 9 раз, добыть угля – в 4 раза, выработать электроэнергии более чем в 6 раз, грузооборот речного транспорта увеличить в 9 раз, полностью восстановить железнодорожную сеть и подвижный состав речного флота и всемерно увеличить производство паровозов, вагонов и судов[208]208
Н. Вознесенский. Указ. соч. С. 164–166
[Закрыть].
Как же намеревалось советское руководство в условиях разоренной страны осуществить эти грандиозные планы?
Оказывается, только собственными силами и героическим трудом советского народа. Вознесенский именно так и говорил: «Восстановление народного хозяйства СССР осуществляется на основе независимости социалистической экономики от капиталистических государств и монополий».
В одном из учебников по истории СССР для вузов приводится та же аргументация. Так, пуск первой турбины Днепрогэса был осуществлен 5 марта 1947 года, а в 1950 году работали уже на полную мощность все 9 турбин. Утверждалось далее, что к 1949 году были восстановлены машиностроительные предприятия Ленинграда, освоившие за пятилетку сотни новых изделий. В кратчайший срок были пущены заводы тяжелого машиностроения, изготовлявшие оборудование для металлургии и угольных шахт Украины. В 1950 году Украина давала продукции машиностроения в полтора раза больше, чем до войны. За годы пятилетки были восстановлены все электростанции, металлургические заводы и другие предприятия. Добавим от себя, что в четвертой, послевоенной пятилетке были восстановлены разрушенные и оснащены новейшим оборудованием сотни предприятий военной промышленности. К началу 1951 года задача восстановления предприятий была в основном решена. И этот поразительный феномен также объясняется только «всенародной помощью и высоким трудовым подъемом» советского народа[209]209
История СССР. Эпоха социализма. Под ред. Ю.С.Кукушкина, М., 1986. С.340
[Закрыть].
Но невольно напрашивается сомнение, достаточно ли для этого лишь названных действительно имевших место источников? Неужели для восстановления нашего народного хозяйства не имел значения союзнический ленд-лиз, по которому до сентября 1945 г. мы получали неоценимую помощь? Или, куда же девались целые заводы, ценнейшее промышленное оборудование и материалы, которые в сотнях тысяч вагонов могучей волной растекались по всему Советскому Союзу из Германии, Румынии, Венгрии и из других бывших вражеских стран?
Оказывается, было «мелочью» то, что мы только из одной Германии получили 96 демонтированных электростанций общей мощностью 4.050 тысяч квт, свыше миллиона единиц промышленного оборудования, в том числе 339,4 тысяч станков, 3.164 паровых котла общей мощностью 950 тысяч т пара в час, около 10 тысяч первичных двигателей (турбин и дизелей, соединенных с генераторами) общей мощностью 4.736 тысяч кВт, свыше 200 тысяч электромоторов, 976 передвижных электростанций, 9.340 силовых трансформаторов и много другого ценного оборудования.
При оценке значения оборудования и материалов, полученных только из Германии, небезынтересно посмотреть, какие же отрасли народного хозяйства СССР больше всего были заинтересованы в демонтаже этого оборудования. Оказывается, что среди советских потребителей немецкого промышленного оборудования из 33 промышленных министерств по весу и количеству единиц на первом месте стояла химическая промышленность, на втором – министерство электростанций, которое вывезло 120 объектов с 25 тысячами единиц оборудования. Затем следуют электропромышленность (101 предприятие), министерство сельскохозяйственного машиностроения (85 объектов), министерство вооружения (72 предприятия).
Обращает на себя внимание также список тех 30 непромышленных министерств, которые в своих интересах вывезли 16 процентов от количества всех демонтированных объектов, из них: вооруженные силы вывезли 202 предприятия, различные издательства – 64, министерства внутренних дел – 55 и здравоохранения – 26, высшие учебные заведения – 23, Академия наук – 16, министерство просвещения РСФСР – 11, ВЦСПС – 7, Госкомитет по делам искусств – 2 и по одному объекту вывезли Госкомитет по делам культуры, Комитет госбезопасности и ЦК ВКП(б).
Важно при этом иметь в виду, что многие министерства демонтировали не только предприятия своего профиля, но и предприятия, производившие сопутствующие товары, например, мебель, станки, типографии и другое оборудование. Например, министерство внутренних дел демонтировало несколько мебельных фабрик и типографий, склады вещимущества, кирпичные заводы, авторемонтные мастерские, шпагатную и крахмальную фабрики. Демонтированные молочно-сыроваренные и лесопильные заводы направлялись в систему ГУЛАГа в Воркуту, Печору и в другие районы расположения лагерей. Министерство госбезопасности отправило в Москву радиоузел из г. Бельциг (земля Бранденбург). Министерство высшего образования из Берлина в Москву отправило 1 500 единиц оборудования из городских книжных складов, а также 134 тысячи единиц лабораторного оборудования. То же министерство взяло из оружейных заводов Тюрингии кое-какое оборудование для Высшего училища им. Баумана, а также техническоё и лабораторное оборудование из высших технических школ Дрездена и Хемница для отправки в политехнические институты Москвы и Ленинграда[210]210
РГАЭ, там же, ед. хр.2155, д. 137 г, ч.ІІ, л.331
[Закрыть].
Комитет по делам искусств из пригорода Берлина Бабельсберга вывез фабрику грампластинок общим весом 406 тонн и в Потсдаме изъял около тысячи тонн (в 76 вагонах) музейных ценностей для Ленинграда. В распоряжение Комитета по делам искусств в Москву только из Берлина было отправлено имущества и музейных ценностей с 300 объектов общим весом 2.247 тысяч тонн в 197 вагонах. АН СССР демонтировала астрономическую обсерваторию университета им. Гумбольдта, оборудование из университета в Грейфсвальде, 80 тонн в 6 вагонах документов из рейхсархива, расположенного в Потсдаме. Из замковой библиотеки в г. Гота было изъято 328 тонн книг и в 23 вагонах отправлено в СССР. Администрация строившегося тогда в Москве Дворца Советов вывезла из Берлина большое количество различной мебели.
Этот список можно было бы продолжить, но и приведенных примеров достаточно, чтобы сделать вывод, что не все демонтированное оборудование и материалы принадлежали военно-промышленному комплексу побежденной Германии. Часть его послужила и восстановлению и развитию различных отраслей народного хозяйства и общественной жизни Советского Союза, пострадавших прямо или косвенно от гитлеровского нашествия.
Важно также иметь представления и об географическом распределении демонтированных предприятий по регионам Советского Союза, что указано в следующей таблице:

Остальные республики получили незначительное количество предприятий и оборудования, не достигавшее и одного процента.
Из приведенной таблицы можно сделать следующие выводы:
– доля бывших оккупированных республик в этом перечне, хотя и значительна, но могла бы быть и выше;
– из полученного Россией количества оборудования 1/5 была выделена бывшим оккупированным регионам, что, конечно, обоснованно;
– из выделенного Украине оборудования доминировали металлорежущие станки, из которых почти половину получил промышленный район Донбасса. Для экономического подъема страны это было крайне важно.
Важное значение не только для развития военной промышленности Советского Союза, но и для многих мирных отраслей имел демонтаж в полном объеме всех немецких военных предприятий, расположенных в советской зоне и в Берлине, особенно исключительно ценных металлорежущих станков. Так, в числе 449 демонтированных военных заводов (137 авиационных, 18 танковых, 62 автомобильных и 108 заводов боеприпасов) было вывезено более 120 тысяч металлорежущих станков. Из полностью уничтоженных военно-химических заводов, производивших и боевые отравляющие вещества, в СССР были вывезены новые синтетические продукты. Некоторые из них в СССР не производились, например, полупродукты «Найолан», «Перлон», искусственный шелк, который по механическим качествам превосходил натуральный шелк «Оппонала», заменители синтетического каучука и многие другие.
Итак, учитывая нанесенный Советскому Союзу материальный ущерб, с одной стороны, и сохранившиеся в Германии после ее капитуляции значительные производственные возможности, с другой, следует признать, что репарационные расходы, установленные для Германии в сумме 10 млрд. долларов в пользу только СССР и Польше были вполне умеренными. В нормальной международной и внутриполитической обстановке того времени в Германии эти расходы не представляли бы чрезмерных тягот для ее населения. Кроме того, если бы была соблюдена хотя бы примерная пропорциональность в их выплате по зонам. Однако в сложившейся в 1945–1953 гг. конфронтационной обстановке и раскола Германии население ее восточной части (позднее ГДР) вынуждено было нести несколько более тяжелое бремя репараций, нежели западные немцы.
Исходя из того, что репарационная политика Советского Союза являлась частью его политики в области экономического и военного разоружения Германии, целесообразно выделить следующие периоды ее эволюционизирования.
Первый период с (марта 1945 г. до июня 1945 г.) характеризовался условиями продолжавшейся войны, пространством, ограниченным только так называемыми «восточными территориями» Германии, сбором трофеев, формированием репарационных органов и сбором информации о промышленном и военном потенциале страны.
Во второй период (июнь 1945 г. до весны 1946 г.) продолжалось изучение репарационных возможностей Германии, формирование репарационных органов, сбор трофеев, уничтожение военных объектов. Одновременно энергично начался весьма политизированный демонтаж промышленных предприятий в Западном Берлине и плохо скоординированный демонтаж преимущественно военных предприятий в советской зоне оккупации. Был также предпринят демонтаж и в западных зонах. Одновременно осуществлялись меры по восстановлению экономики с целью удовлетворения потребностей немецкого населения, оккупационных войск и выплаты репараций из текущего производства. Практиковалось использование труда немецких специалистов в Советском Союзе. Было произведено отчуждение предприятий у активных нацистов и военных преступников.
Содержанием третьего периода (весна 1946 г. до лета 194 8 г.) были демонтаж оборудования и материалов, одновременно осуществлялись репарационные поставки из текущего производства, поиски наиболее эффективных путей взимания репарационных платежей, преодолевались трудности с получением репараций из западных зон, совершенствовалась структура демонтажа, создавались советские производственные и торговые акционерные общества.
Четвертый период (лето 1948 г. – середина 1950 г.) включал в себя резкое обострение конфронтационности между союзниками, практически полное прекращение демонтажа в пользу СССР в западных зонах, создание немецких центральных репарационных органов, образование ГДР и передача ей некоторых функций по возмещению ущерба, нанесенного Советскому Союзу, проведение денежной реформы.
С последним, пятым периодом (середина 1950 г. до начала 1953 г.) связаны такие меры советского правительства, как прекращение репарационных изъятий в зоне, сокращение оккупационных расходов, активизация нормальных экономических и торговых отношений между ГДР и СССР, широкое использование советским акционерным обществом «Висмут» урановых залежей в ГДР для выполнения советской урановой программы, эмбарго со стороны западных оккупационных властей на торговлю стратегическими товарами с ГДР.
Глава шестая
«Порядок есть порядок» и как его поддерживали органы НКВД
Осуществляя подготовку завершающих сражений по разгрому фашизма на территории Германии, верховные командования как Советского Союза, так и западных держав, разумеется, не рассчитывали на то, что противник на своей территории не активизирует попытки мобилизовать немецкий народ для создания невыносимых условий не только для ведения боевых действий союзников, но и просто для существования. Вот почему накануне вторжения в Германию перед союзниками в качестве важного и неотложного стал вопрос об обеспечении безопасности своих войск и об открытии в связи с этим нового фронта борьбы – подавления подпольных нацистских военных формирований, предотвращения их террористических актов, саботажа и других подрывных действий.
Первыми этот опыт приобрели англо-американские союзники, войска которых вступили в Германию еще в сентябре 1944 года. Советская контрразведка на территории Германии такого опыта не имела до конца войны. С первых же дней на немецкой земле западные союзники убедились, как важно иметь хорошо налаженную контрразведывательную службу в оккупированной стране. В специальной инструкции по послевоенным вопросам в Германии, принятой в ноябре 1944 года штабом экспедиционных сил союзников в Европе и разосланной в войска, подчеркивалось, что прочный мир в Европе в большой степени зависит от полного и правильного выполнения задач контрразведки. От этого зависит не только безопасность союзнических вооруженных сил и установок, но и соблюдение всех интересов союзников. Нацистские доктрины и методы настолько глубоко проникли в каждую сферу германской жизни, что вряд-ли можно предпринять какие-либо шаги к изменению управленческих и социальной структур без помощи контрразведки.
Далее формулировались следующие задачи союзнической контрразведки на территории оккупированной Германии: обеспечение безопасности вооруженных сил, устранение вражеской разведки, полная ликвидация нацистской партии и подчиненных ей организаций, розыск и арест лиц, которые являются или вероятно окажутся враждебными по отношению к союзникам. Авторы инструкции полагали, что с началом оккупации Германии будет трудно точно разграничить функции разведки и контрразведки. Нужно иметь в виду и возможность противодействия условиям капитуляции со стороны немцев. Нынешние лидеры Германии, не в пример прошлым, люди чрезвычайно отчаянные и, вероятно, попытаются продолжать борьбу после поражения. Наступит такой короткий период, когда прекратится организованное сопротивление вермахта. Важно, рекомендовалось в инструкции, уловить этот психологический момент. Поэтому любой компромисс на этой стадии и нежелание союзников применять наказание за акты неповиновения будет рассматриваться немцами как достигнутая победа и повод для усиления сопротивления по всему фронту. Тогда их поведение станет дерзким, наглым и враждебным.
В документе допускалось, что ненависть немцев к союзным оккупантам будет сильнее, чем в 1918 году, когда была оккупирована не вся Германия, а лишь часть ее. Оккупационные силы должны быть готовы столкнуться в Германии с беспорядками, нападениями, саботажем, бунтами. Позже немцы развернут пропагандистскую кампанию, в ходе которой будут стараться преуменьшить последствия поражения, ослабить солидарность союзников, и начнут подготовку к возрождению своей мощи.
Союзники не исключали, что в оккупированной Германии возникнут подпольные организации, немцы начнут взывать к милосердию, к жалости к жертвам опустошения, к расовому и культурному равенству германцев и англо-саксов, постараются посеять разногласия между союзниками, будут доказывать, что нацизм был им чужд и что, якобы, он был внедрен против общей воли культурных и неагрессивных немцев.
В документе союзникам рекомендовалось вести себя в побежденной Германии достойно и тем самым вызывать уважение со стороны немцев к ним и их странам. Немцы глубоко уважают все военное, поэтому поведение и дисциплина союзных военнослужащих должна быть на высоком уровне. Должны пресекаться всякие акты насилия над местным населением. Необходимо вести борьбу против пьянства, братания, браков с немками или гражданками других вражеских стран, запрещать неофициальные связи с немцами[211]211
АВП РФ, ф.0457«г», oп.1, д.6, лл.1-114
[Закрыть].
Чтобы прокомментировать приведенную длинную выписку из этого документа и сравнить ее с позицией советских оккупационных властей, необходимо привести выдержки из приказа Эйзенхауэра, подписанного месяцем позже. По всей Германии, говорилось в этом приказе, должно быть арестовано 250 тысяч подозреваемых лиц (сотрудников абвера в ранге берайтсляйтера и выше, членов коллаборационистских полувоенных организаций в освобожденных странах, всех офицеров общих СС и членов службы безопасности, всех лиц в ранге штурбанфюрера и выше, в организации гитлеровской молодежи всех лиц в ранге штамм-фюрера и выше[212]212
АВП РФ, ф. Политсоветника, oп. l, д.4, л. 1
[Закрыть].
Что же касается отношения союзников к основной массе населения Германии, то приказ требовал «занять позицию холодной вежливости». Это означало, что для предотвращения братания с немцами следует применять административные меры: запрещать размещение офицеров и солдат в домах, где проживают немцы, и отселять их в другие дома, до минимума свести контакты с ними, запретить браки с женщинами, являющимися гражданками вражеских государств, для союзных военнослужащих устраивать отдельные от немецкой церковную службу, запрещать посещение квартир, в которых проживают немцы, не устраивать с ними попоек, запрещать рукопожатие с ними, спортивные игры, преподнесение и получение подарков, совместные прогулки по улицам, посещение немецких театров, таверн и отелей (за исключением официальных контактов). Приказ запрещал также вести с немцами дискуссии, особенно по германскому вопросу.
Если отсечь некоторые крайние и несправедливые в отношении немецкого населения оценки и требования союзного командования в период, когда они оккупировали лишь незначительный район Германии, то следует признать, что союзное верховное командование верно оценивало обстановку в гитлеровской Германии, менталитет немецкого народа и правильно намечало возможные, хотя и весьма жесткие меры, по управлению оккупированной Германией. Ознакомление с этими документами дает возможность провести сравнительный анализ политической линии и поведения союзников в Западной Германии и советских войск – в Восточной Германии, сделать соответствующие выводы. Один из таких выводов напрашивается сам собой: не руководство Советского Союза первым установило жесткую политику в отношении побежденной Германии и ее народа и не советские органы безопасности были пионерами в осуществлении этой политики.
Советское верховное командование также не рассчитывало на безмятежность и спокойствие в тылу Красной Армии, которая будет действовать на территории Германии. Опираясь на специфический опыт по охране тыла Действующей армии, приобретенный в ходе боевых действий на советской территории, а также некоторый опыт на территории зарубежных стран, особенно Польши, Ставка верховного главнокомандования и НКВД принимали соответствующие меры.
В соответствии с обращением Контрольного совета к германскому народу от 20 сентября и его закона от 10 октября 1945 года оккупирующие державы в кратчайший срок должны были осуществить ликвидацию нацистской партии, ее филиалов и подконтрольных организаций. Эти решения в советской зоне были выполнены в полном объеме и в срок. В 1945–1946 гг. были ликвидированы национал-социалистическая партия и все ее подконтрольные организации, а также вновь созданные в Берлине, Лейпциге и в провинции Бранденбург фашистские организации «Эдельвейспиратен», организации «88», «Клуб Германии», «Голос немецкой нации», «Национальное рейнское движение сопротивления», «Национал-социалистические зигес-флигер-корпс», «Фридрих Великий» и другие.
В одном из официальных отчетов Генерального секретариата советской секции в КС утверждалось, что в итоге этой акции в советской зоне «не было допущено совершения террористических и диверсионных актов, а также других активных враждебных выступлений против оккупационных властей». Однако это утверждение вступало в противоречие с многочисленными тревожными донесениями органов безопасности о якобы активизации диверсионной и террористической деятельности фашистского подполья осенью 1945 года, которое, мол, «причиняло урон как советским войскам, так и демократическим силам в зоне». Правдой в этих донесениях применительно к осени 1945 года было лишь то, что настроение немцев действительно ухудшалось, но не по причине террористической деятельности фашистского подполья, а в известной мере из-за преступных актов со стороны некоторых советских военнослужащих.
В ходе боевых действий в Великой Отечественной войне охрану тыла Действующей армии обеспечивали специальные внутренние войска (ВВ) НКВД. Во фронтах их было, как правило, по одной дивизии или несколько отдельных полков. При перенесении боевых действий в страны Восточной Европы их функции расширились, и они не только охраняли тылы войск, но в освобожденных странах активно содействовали установлению власти коммунистических партий.
В 1944 году на территории Польши, позже и в Германии в центре действовали войска 1-го БФ и вместе с ними с левого крыла войска 1-го УФ и с правого – 2-го БФ. Внутренние войска НКВД 1-го БФ состояли из четырех полков. Начальником этих войск был генерал-майор П.М. Зимин. Допускалось, что их главным противником в тылу Действующей армии будут члены фашистской организации «фольксштурм», которые развернут активную подпольную вооруженную борьбу. Они действительно осуществляли подрывную работу в Померании и Силезии, которые в то время входили в состав Германии, но массовой вооруженной борьбы не наблюдалось. Именно на этих территориях, населенных преимущественно немцами, внутренние войска приобретали первый опыт, который позже им пригодился в Германии западнее Одера. Это было ведение вооруженных акций, задержание, фильтрация, агентурная работа, охрана тюрем, важных военных и промышленных объектов, депортирование трудоспособных немцев на работу в Советский Союз и другие виды деятельности органов безопасности.
В связи с действительно отмечавшимися случаями нападения немцев, оставшихся в тылу советских войск, в полосе 1-го БФ восточнее Одера, военный совет фронта в феврале 1945 года разослал войскам следующую директиву Государственного комитета обороны: «В целях пресечения попыток совершения террористических актов ГКО в постановлении № 7467 от 3 февраля 1945 года обязал: Командующему Жукову совместно с уполномоченным НКВД Серовым принять решительные меры, жестоко расправляться с лицами, уличенными в террористических актах. Мобилизовать всех немцев от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, сформировать рабочие батальоны по 750-1200 чел. для использования их на работах в СССР».