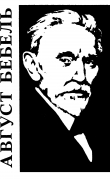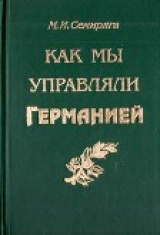
Текст книги "Как мы управляли Германией"
Автор книги: Михаил Семиряга
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Как же много лет спустя после уже ставших историей событий в Берлине и с учетом последующего развития политической обстановки следует оценить позицию советской военной комендатуры Берлина по итогам выборов?
Приведенный отрывок из анализа итогов выборов свидетельствует о том, сотрудники комендатуры не сочли необходимым глубоко и критически проанализировать свои собственные ошибки и просчеты СЕПГ не только в ходе предвыборной кампании, но и во всей своей предыдущей деятельности. Вместо такого анализа они перешли в контрнаступление по обострению «борьбы с социал-демократами». Одновременно вместо поиска путей сотрудничества с буржуазными партиями-партнерами по блоку, комендатура увидела в этом блоке только «место для разоблачения реакционной сущности этих партий». Трудно также понять, как «пропаганда Советского Союза» вне связи с обстановкой в советской зоне оккупации Германии могла бы существенно повлиять на немецких избирателей. И уже совсем непонятно, как «усиление оккупационного режима» в состоянии было содействовать «упрочению авторитета СЕПГ в массах трудящихся». Последующие события подтвердили, что все произошло как раз наоборот.
Коммунальные выборы в Берлине в октябре 1946 года, когда все его жители одновременно участвовали в подобной политической акции, оказались последними в послевоенной истории города до 1989 года. Наступивший вскоре раскол привел к негативным последствиям в жизни Берлина. Военные власти западных союзников, вдохновленные итогами выборов, усилили изоляцию советской комендатуры от органов немецкого самоуправления, которые фактически оказались под их единоличным контролем. Они решительно выступили против крайне выгодного тогда для советской стороны принципа единогласия в деятельности СКБ. Новый обербургомистр города социал-демократ О. Островский не злоупотреблял сложившейся ситуацией, не пошел на конфронтацию с советскими военными властями. Он вел умеренную линию лояльного сотрудничества с ними, за что западными комендантами совместно с руководством СДПГ в апреле 1947 года и был отстранен от должности. Обербургомистром стал тоже социал-демократ Э. Ройтер, известный своим крайне негативным отношением к Советскому Союзу и СЕПГ. Естественно, советская комендатура использовала свое право вето, и он не был утвержден в должности. Его обязанности временно исполняла третий бургомистр член СДП Л. Шредер.
Во второй половине 1947 года ситуация характеризовалась завершением размежевания политических сил в городе и в самоуправлении и усиливавшейся по вине обеих сторон конфронтацией в Союзной комендатуре, отчего местное население только проигрывало. С дальнейшим расширением «холодной войны» в международной обстановке обострялось и положение в Берлине. Его логическим следствием было то, что 16 июня 1948 года состоялось последнее заседание Межсоюзнической военной комендатуры, после чего три западных коменданта, по оценке Отдела информации советской комендатуры, «собрались уже не как представители наших военных союзников, а как открытые враги СССР».
* * *
Разнообразие и объем деятельности советской военной комендатуры на протяжении четырех лет ее существования требовали постоянного совершенствования ее структуры и новых квалифицированных кадров. Сменивший в октябре 1945 года генерал-полковника Горбатова генерал-лейтенант Д.И. Смирнов, как считало руководство СВАГ, не в полной мере справлялся с работой и поэтому с 1 апреля 1946 года начальником гарнизона и военным комендантом советского сектора Берлина был назначен бывший начальник военной администрации Саксонии генерал-майор А.Г. Котиков, успешно выполнявший эти обязанности до середины 1950 года.
До начала июля 1945 года в Берлине существовало 20 районных и 82 участковых советских военных комендатуры. С разделом города на сектора и образованием Межсоюзнической военной комендатуры в советском секторе осталось 8 районных, а также 57 участковых комендатур, впоследствии ликвидированных. В первые дни своей деятельности работниками комендатур стали офицеры 5-й ударной армии, командующим которой был сам комендант генерал-полковник Берзарин, и 29 человек были назначены из фронтового резервного офицерского полка. По состоянию на 25 июня 1945 года в Управлении городской военной комендатуры было занято 292 офицера, 66 сержантов и рядовых и 184 гражданских служащих.
Количество отделов по мере выявления новых сфер деятельности и степени их важности, менялось как правило, в сторону увеличения. В ряду других отделов в Центральной военной комендатуре (ЦВК) советского сектора большую роль стал играть отдел пропаганды, переименованный в середине 1947 года в Отдел информации. В октябре 1946 года во всех районах сектора были образованы отделения пропаганды (информации). Мне пришлось быть начальником такого отделения в комендатуре Берлин-Митте. Бывший до 1946 года начальник этого Отдела подполковник Е.А. Бродский и сменивший его подполковник В.М. Демидов имели большой опыт политической работы среди войск противника и населения, хорошо владели немецким языком, имели высшее историческое образование.
Отдел информации военной комендатуры советского сектора оккупации Берлина нередко менял свою структуру в зависимости от складывавшейся в городе ситуации и необходимости в связи с этим решать новые задачи. Вот как это обосновывалось в одном из документов: «Например, для более активного вмешательства в ход предвыборной борьбы в августе-сентябре 1946 года Отдел пропаганды был усилен прикомандированием 13-ти человек на период избирательной кампании… В то же время в октябре 1946 года в дни наибольшего обострения предвыборной борьбы создаются районные отделения пропаганды… Создание районных отделений пропаганды было продиктовано необходимостью усиления контроля за политической жизнью в районах.
После коммунальных выборов 20 октября 1946 года, стало очевидным стремление реакционного большинства» в органах самоуправления вытеснить оттуда все демократические элементы и превратить эти органы в послушное орудие англо-американской политики.
В связи с этим остро встал вопрос о необходимости более постоянного и тщательного контроля за деятельностью городских и районных органов местного самоуправления. В ноябре 1947 года для контроля за работой органов самоуправления и для помощи СЕПГ в их парламентской деятельности было создано в составе Отдела информации отделение по работе в органах местных самоуправлений. Летом 1948 года в обстановке открытого саботажа мероприятий советских оккупационных властей… был создан самостоятельный Отдел гражданской администрации»[306]306
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, п. 16, д.61, л.3–4
[Закрыть].
Советские власти в свое время ввели цензуру основной политической печатной продукции. Более жесткой цензуре подвергались издания буржуазных партий, но контролировались и некоторые печатные издания СЕПГ. Как осуществлялся этот контроль и что запрещалось печатать, видно на примерах, приводимых в одном из отчетов Отдела информации комендатуры Берлина.
Нелицензированные издания городского правления СЕПГ контролировались на общих основаниях. Журнал городского правления СЕПГ «Вилле унд Вег» («Намерения и путь») официально не был органом, подлежащим предварительной цензуре. Однако в конце 1946 и на протяжении почти всего 1947 года было необходимо контролировать журнал до напечатания, так как он довольно часто допускал политические ошибки. Например, в номере два за 1947 год цензурой была исправлена статья о Фихте, которому автор приписывал «сознание необходимости не только объяснить мир, но и практически изменять его» и оценивал идеалиста Фихте, как революционера и чуть ли не главного философского предтечу Маркса и Энгельса. Данные ошибки были и в статье К. Мевиса о Ленине. Не совсем по-марксистски оценивалось соотношение интересов отдельной личности и класса в капиталистическом обществе в одной из статей К. Литке. В номере шесть (1947 г.) одна из заметок отстаивала право членов партии критиковать решения, принятые партией[307]307
Там же, л.183
[Закрыть]. На этих примерах нетрудно себе представить политический и научный уровень советских цензоров и их замечаний.
Вскоре однако отделение цензуры было расформировано, так как предварительная цензура неполитических печатных изданий была отменена еще 14 апреля 1947 года (приказ СВАГ № 90), а цензура деятельности зрелищных предприятий еще раньше была передана отделению культуры[308]308
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, п. 1, д. 16, л.4
[Закрыть].
Отделу информации приходилось выполнять иногда весьма деликатные задачи, чтобы создать немецкие органы власти, которые лояльно относились бы к советской военной комендатуре и поддерживали просоветски настроенные политические партии и общественные организации.
Вот как Отделом была осуществлена акция по созданию нового магистрата в ходе сепаратных выборов 30 ноября 1948 года. С этой целью руководство ЦВК совместно с Отделом информации разработало детальный план, охвативший все более или менее значительные детали предусмотренных мероприятий. Главноначальствующий СВАГ маршал Соколовский план утвердил. В отчетном документе о деятельности советской военной комендатуры в Берлине с 1945 по конец 194 8 года этот план изложен следующим образом: «Так как план был секретным и доводился лишь до узкого круга лиц, выполнение его мероприятий требовало от демократического лагеря состояния мобилизационной готовности. План поэтому давал на каждый день (или 2–3 дня) лозунг действия и предусматривал эти действия в строгой последовательности как по содержанию, так и по времени. Устанавливались дни и даже часы мероприятий».
Далее приводятся эти «мероприятия». «Отдел информации разработал подробный план проведения народной демонстрации и митинга трудящихся 30 ноября 1948 года. Предусматривался контроль не только за содержанием митинга и демонстрации, но также и за практической организацией этих мероприятий» [309]309
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, пор.61, п. 16, л.97–99
[Закрыть].
Имеющиеся архивные документы свидетельствуют о том, что советская военная комендатура Берлина не просто осуществляла контрольные функции применительно к тем или иным происходившим в городе политическим процессам, но и активно вмешивались в них на стороне сил, которые она считала демократическими. Вот какую роль комендатура и, в частности, ее Отдел информации играли в кампании по сбору подписей за проведение народного референдума о единстве Германии в мае-июне 1948 года.
Прежде всего Отдел информации комендатуры взял под свой контроль всю работу по подготовке берлинских партийных и общественных организаций к всенародному опросу и Немецкому народному конгрессу. Под контролем и при помощи районных отделений информации проходили собрания рабочих и служащих, выборы делегатов на Конгресс, распространение листовок. Отдел информации помог городскому правлению СЕПГ в разработке текстов листовок и тезисов доклада, в проведении дня агитации и пропаганды за Народный конгресс (30 ноября). Сотрудниками Отдела было обращено внимание горкома СЕПГ на недостаточную подготовку Конгресса со стороны общественных организаций. Отдел систематически изучал настроения различных слоев населения в связи с Конгрессом. По рекомендации Отдела горком СЕПГ и постоянный комитет Народного конгресса разработали конкретные политические и организационные меры в связи с народным опросом. Для оказания помощи на местах работники Отдела были раскреплены по районам, особенно в западных секторах. Напомню, что тогда еще не существовало никаких запретов на передвижение населения, ни «берлинской стены».
В связи с помехами, которые чинили сбору подписей коменданты западных секторов, 25 мая 1948 года советский комендант генерал Котиков выступил в Союзной комендатуре с официальным протестом.
Вот каковы были итоги народного опроса в Берлине.

Что касается взаимоотношений между Отделом информации комендатуры и горкомом СЕПГ, то между ними произошло, по существу, сращивание функций. Так, в ходе подготовки 1-й партконференции СЕПГ и районных партконференций Отдел информации совместно с городским правлением СЕПГ разрабатывал конкретный и детальный план проведения этих мероприятий.
Вот что говорится по этому поводу в одном из отчетных документов Отдела информации. «Командование УВК, политотдел и Отдел информации создали 25 групп (по 2–3 чел.) партийных работников в помощь организациям СЕПГ крупнейших предприятий г. Берлина. С партийными работниками ЦВК, направленными на помощь организациям СЕПГ, был проведен инструктаж и для них была выработана специальная памятка.
Через эти группы Отдел информации оказывал практическую помощь партийным производственным группам, с одной стороны, и подробнее изучал положение в производственных группах СЕПГ. Помощь эта выражалась в следующем: а) Советские представители контролировали изучение членами СЕПГ на предприятиях материалов XI и XII пленумов партии. I
б) Оказывалась помощь представителям производственный групп в подготовке докладов.
в) Оказывалась помощь активу СЕПГ в обсуждении соответствующих резолюций.
г) Устранялись недостатки, мешавшие СЕПГ занять руководящее положение на предприятии.
д) Оказывалась помощь в выборе лучших членов СЕПГ на конференцию.
Процесс работы показал, насколько нужной и действенной была помощь наших товарищей»[310]310
Там же, л.95
[Закрыть].
Отдел информации проводил работу по изучению настроения населения и соответствующего влияния на него. С этой целью он постоянно информировал военного коменданта и центральные органы СВАГ о переменах этих настроений и их причинах. Большую помощь Отделу в этом отношении оказывала широкая сеть немецких информаторов, которые использовались в практической работе не только комендатурой, но и городской организацией СЕПГ. Вот что по этому поводу говорится в упомянутом выше отчетном документе: «Получаемая Отделом информация о намечаемой тактике поведения по тому или иному вопросу со стороны СДПГ и буржуазных партий позволила правильно определить в этих случаях тактику поведения СЕПГ и демократических организаций, например, на заседаниях городского собрания депутатов и магистрата».
В Отделе существовали специальные группы постоянных информаторов для работы по этой специфической линии. Одна из них информировала о качестве партучебы и пропагандистской работы в СЕПГ, другая – о работе в городском собрании депутатов, третья – наблюдала за внутренней жизнью СЕПГ. Большая группа информаторов работала в западных секторах Берлина, но в отличие от советского сектора она получала определенное денежное вознаграждение, т. е. своеобразную «плату за риск». Отделу информации была поставлена задача «найти платных информаторов во всех важнейших учреждениях западных секторов, на всех ведущих предприятиях, в органах самоуправления, в полиции, в театрах и т. д. Кроме того, платные информаторы подбирались во всех политических и общественных организациях Берлина, как реакционного, так и демократического лагеря… Народу с этим заново перестраивалась, расширялась и укреплялась информационная служба городского правления СЕПГ, по образцу постановки информационной работы нашей партии».
В последующие месяцы событий в городе, как снежный ком, надвигались с нарастающей скоростью. Еще в сентябре 1947 г. западные обозреватели наблюдали в Берлине перемещения советских танковых соединений, но рассматривали их «скорее как признак русской нервозности, чем их агрессивности…». Берлин становился опасной горячей точкой не только Германии, но и Европы в целом. Новым шагом на этом пути, который усилил озабоченность СВАГ судьбой всех Потсдамских решений по германскому вопросу, была проведенная в Западной Германии 18 июня 1948 года сепаратная денежная реформа. По этому вопросу маршал Соколовский писал главе английской военной администрации генералу Робертсону следующее: «Ввиду Вашего решения нам нужно защитить советскую зону и Большой Берлин от хозяйственного хаоса и дезорганизации денежного обращения из-за наплыва денежных запасов с запада. Я принял решение провести денежную реформу в советской зоне и Большом Берлине»[311]311
АВП РФ, ф.0457«г», оп.4, пор.2, п.4, л.360
[Закрыть].
Проведенная в западных зонах денежная реформа действительно существенно ограничила связи между населением Западной и Восточной частей Германии, включая и Берлин. Она вызвала резкую реакцию советской стороны, реакцию, которая не была адекватной негативным последствиям этих мероприятий западных держав. СВАГ немедленно ввела запрет на транспортное сообщение между Берлином и западными оккупационными зонами.
В июне 1948 года в Берлине и вокруг него СВАГ по согласованию с руководством СЕПГ и другими примыкающими к ней силами приняла меры по «обеспечению мира и защите революционных завоеваний в советской зоне оккупации». Советские войска и немецкая народная полиция усилили контроль и охрану зональной границы, для чего были сформированы также специальные отряды созданной в 1946 году пограничной полиции. Так говорится об этих событиях в официальной истории СЕПГ.
Но, по существу, это была блокада западных секторов Берлина и именно под таким названием она вошла в историю. Чтобы обеспечить снабжение своих секторов в городе, западные оккупационные власти с помощью военно-транспортной авиации создали «воздушный мост», который функционировал весьма успешно и длительное время – с марта 1948 по май 1949 года.
Это была настоящая блокада Западного Берлина, хотя в заявлении маршала Соколовского от 3 октября и ноте советского правительства по вопросу о положении в Берлине от 4 октября 1948 года отвергалось ее наличие. Советское командование, мол, готово было снабжать западные сектора города. Такое решение действительно было принято, но Западный Берлин был заблокирован со стороны западных зон Германии. В том же документе утверждалось, что «беспорядки, внесшие беспокойство в берлинскую жизнь, произошли в той части Берлина, которая не находится под контролем Советского командования и за которую отвечают военные власти трех других держав».
Подобное утверждение не в полной мере соответствует реальной ситуации, сложившейся в Берлине в эти осенние дни 1948 года. Советское правительство тогда не могло не знать того, что знал даже я – рядовой сотрудник СВАГ. В Западный Берлин переправлялись из советского сектора группы молодых людей и транспортников, которые и создавали там беспорядки: бросали в полицию камни, разбрасывали листовки, блокировали движение. Мое убеждение в том, что наше правительств знало о подлинных зачинщиках беспорядка в Западном Берлине, основывается еще и на том, что однажды в моем присутствии начальник Управления информации полковник Тюльпанов по телефону докладывал в Москву, кому лично – мне неизвестно, о мерах, которые предпринимаются нашими властями в Берлине, и просил одобрить эти активные действия на территории западных секторов Берлина. После разговора он положил телефонную трубку и сказал присутствовавшим сотрудникам: «Москва ответила, чтобы мы попробовали, но и ответственность за провал ложится на нас». Позднее Н.С.Хрущев говорил о сложившейся в 1948 г. обстановке вокруг Берлина, что «на ноге Соединенных Штатов в Европе имелась болезненная мозоль, а именно – связь Западных держав… через территорию ГДР с Западным Берлином».
Устроенная, если не без указания, то наверняка с согласия Сталина, блокада Западного Берлина была необычной акцией. Она стала крупной политической провокацией сталинского режима, чреватой вооруженным столкновением между двумя странами, но, вероятнее всего, коалиций стран.
Руководство СВАГ осознавало нависшую опасность и приняло решение предварительно подготовить к вывозу из Берлина семей советских сотрудников и того гражданского персонала, без которого можно было бы обойтись. Такие же меры предприняли и военные власти западных секторов города. Это была своеобразная война нервов, но во время ее пика у администрации США они оказались слабее, чем у хозяев Кремля. Имеются сведения, что если бы не возражение генерала Клея, то руководители США, Великобритании и Франции готовы были уступить Сталину. Но по настоянию Клея «воздушный мост» продолжал действовать, а блокада продолжала отравлять международную атмосферу. К маю 1949 года сдали нервы и у Сталина. Военный конфликт стал такой близкой реальностью, что он отдал распоряжение генералу В.И.Чуйкову дать отбой. Ведь до взрыва первой советской атомной бомбы оставалось слишком много времени, чтобы идти напролом.
Бывший сотрудник аппарата Верховного комиссара СССР в Германии В.В. Карягин по поводу тогдашней обстановки пишет: «Союзный контрольный механизм в Германии прекратил существование в результате раскольнических акций наших бывших союзников. Но и мы внесли свой вклад в этот процесс, заключительной точкой которого была блокада Западного Берлина в 1948–1949 гг.»[312]312
Международная жизнь. 1991. № 5. С.85
[Закрыть]. Заключение, к которому пришел автор, справедливо, но наш «вклад» в развал союзного контрольного механизма в Германии связан не только с блокадой, но прежде всего с развалом деятельности Контрольного совета в марте 1948 года.
Дальновидные политические деятели Германии того времени резко критиковали Советский Союз за подобные шаги. Например, будущий обербургомистр Западного Берлина В. Брандт прямо говорил о реакционности советской внешней политики и вместе с тем обращал внимание на сложный и противоречивый характер развития самого Советского Союза, критиковал господствовавший в нем тоталитаризм.
В связи с возникшими в советской зоне продовольственными трудностями летом 1948 года советское правительство предоставило несколько десятков тысяч тонн зерна, а также дополнительно 100 тысяч тонн других продуктов специально для Берлина, включая его западные секторы, хотя сам Советский Союз еще не оправился от голодного 1947 года. Затем последовали поставки в советскую зону из СССР тракторов, грузовых автомашин, проката и других товаров и сырья, были расширены внешнеторговые связи со странами Восточной Европы, а также со Швецией, Финляндией и другими странами. Трудно отделаться от мысли, что эти меры советского руководства имели не только гуманитарное значение, но и в условиях берлинского кризиса престижно-политическую направленность. В то время необходимо было как-то дезавуировать то негативное впечатление немецкого населения, которое произвел на него отказ самого Советского Союза и под его давлением стран Восточной Европы, включая и Восточную Германию, от получения помощи по плану Маршалла. Этот факт нашел свое невольное подтверждение в решении Центрального секретариата СЕПГ, опубликованном 18 августа 1948 года[313]313
Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Bd.II.B., 1952. S.84ff
[Закрыть].
После проведения денежной реформы сперва на западе, затем на востоке Германии перестал существовать единый бюджет города, что вызвало дезорганизацию городского хозяйства. Спровоцированное мерами СВАГ, приведшими к прекращению движения поездов между западными зонами и Берлином западные власти принимали все новые и новые ответные меры.
К осени 1948 года наметились признаки явного раскола административных органов. В связи с окончанием в октябре-ноябре 1948 года срока полномочий городского собрания и магистрата советский комендант попытался взять реванш за поражение на предыдущих выборах. Он предложил провести единые общегородские выборы. Но, как и следовало ожидать, это предложение было отклонено западными комендантами. В ноябре-декабре 1948 года в западных и в советском секторах состоялись сепаратные выборы, ознаменовавшие собой окончательный раскол Берлина на две части со своими независимыми органами управления.
Советская блокада Западного Берлина сильно повредила продвижению решения германского вопроса. Как правильно отмечает А.М. Филитов, «с момента возникновения берлинского кризиса предотвратить образование двух германских государств, видимо, было уже делом нереальным. Германский вопрос вступил в новую стадию. Решать его стало сложнее. Однако возможности для такого решения оставались, хотя они значительно сузились»[314]314
Филитов A.M. Указ. соч. C.l10
[Закрыть].
Российские специалисты по германской проблематике, в частности, А.М. Филитов, оценивают советскую блокаду Западного Берлина однозначно отрицательно. Как в экономическом, так и в политическом отношении эта акция означала проигрыш для Советского Союза. Но, придя к такому обоснованному выводу, А.М. Филитов все же считает, что при худших погодных условиях англо-американцы не смогли бы создать «воздушный мост» и, возможно, пошли бы на унизительную эвакуацию своих войск из города. Да, теоретически подобный вариант существовал, но нам известно, как решительно был настроен генерал Клей, допускавший даже прорыв блокады с использованием американских сухопутных войск. А это означало бы военное столкновение с советскими войсками с непредсказуемыми последствиями. В подобной ситуации трудно предположить, чтобы целью советской стороны было лишь желание подтолкнуть западных союзников к столу переговоров. Для этого имелось много других менее рискованных возможностей.
События в Берлине привлекли внимание Совета безопасности ООН, всей мировой общественности. Это означало, что они превратились в международную проблему, содержавшую в себе опасность дальнейшего обострения. Вслед за расколом Берлина через год наступил и раскол Германии.
В подобных условиях советские власти делали все возможное, чтобы под различными предлогами ограничить получение информации немцами советской зоны из западных зон. Так, состоялись собрания почтовиков, на которых служащие почты принимали резолюции с требованиями прекратить поставку газет, призывавших к войне. Общественный комитет борьбы с поджигателями войны в Берлине также призвал население бойкотировать некоммунистическую прессу. На крупных предприятиях города принимались резолюции, также требовавшие прекратить продажу газет, выходящих по западным лицензиям. Специализированное общество по распространению печати прекратило поставку газет западных секторов киосками и продавцами газет в советском секторе.
Лишь много лет спустя из хранящихся в архивах отчетных документов советской военной комендатуры Берлина стало ясным, что все эти антидемократические меры были предприняты немецкими общественными организациями не по их доброй воле, а под давлением Отдела информации комендатуры. В документе так и было сказано: «Отдел информации развернул в это время широкую кампанию за бойкот антидемократической прессы»[315]315
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, п.1б, д.61, л.187–188
[Закрыть]. Можно понять ответное решение западных властей, которые также запретили в своих зонах распространение прессы из советской зоны.
Становилось очевидным, что линия советского руководства на обострение берлинского кризиса была равнозначна попытке заставить Запад уйти из Берлина. Чтобы добиться этой цели, СВАГ предприняла новые, ужесточенные меры. Но они не увенчались успехом. В конце 1948 года оккупационные власти западных секторов провели выборы в магистрат западной части города и создали западноберлинскую трехстороннюю комендатуру. 14 мая 1949 года они произвольно ввели в западной части города так называемый «малый оккупационный статут». Эти меры подтверждали, что западные державы твердо решили не терять Берлин, поэтому весной 1949 года обе стороны достигли соглашения об урегулировании отдельных вопросов, связанных с ситуацией в городе.
Много лет спустя пенсионер В. Молотов в беседах с публицистом Ф.Чуевым, вспоминая спровоцированный им и Сталиным берлинский кризис, цинично заявил, что «если бы не было Берлина, был бы другой такой узелок», поскольку «у нас цели и позиции разные, какой-то узел обязательно должен быть, и он завязался в Берлине»[316]316
Сто сорок бесед с Молотовым. С. 80
[Закрыть].
Вот так делалась история!
Но события в Берлине, приведши к его расколу, были хотя и главной, но лишь частью общего процесса по расчленению Германии. Межсоюзнические соглашения по Берлину являлись составной частью других соглашений о судьбах Германии. Поэтому необоснованно утверждение, будто соглашения по Берлину не вытекают из Потсдамских и других решений. Нельзя признать логичными и утверждения о том, что западные союзники получили свои права в Западном Берлине якобы в обмен на освобождаемые ими территории Тюрингии, Саксонии, Бранденбурга и Мекленбурга.
Нетрудно себе представить, что согласованные в годы войны основополагающие принципы в отношении Германии и Берлина могли быть претворены в жизнь только в том случае, если прежняя политика союзников и в мирное время останется неизменной, и они с такой же настойчивостью и последовательностью будут бороться за новую Германию, как они совместно сражались с Германией Гитлера. Но пока такой готовности стороны не проявили.
На протяжении четырех десятилетий Берлин оставался расколотым на две части и стал своеобразным символом раскола всей Европы на два враждебных лагеря. Сложившаяся ситуация предопределила и названия двух частей единого города. Понятие «советский сектор оккупации Берлина» постепенно стало трансформироваться в понятие «восточный Берлин», а с первых лет существования ГДР он именовался как «демократический Берлин».