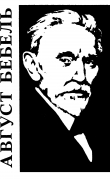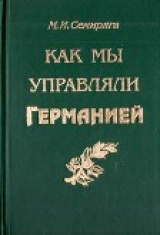
Текст книги "Как мы управляли Германией"
Автор книги: Михаил Семиряга
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Территория западнее указанной линии занимается войсками Великобритании, за исключением Шлезвиг-Гольштейна, который оккупируется совместно войсками трех союзников. Остальная территория Германии занимается американскими войсками.
Документ был завизирован маршалом Шапошниковым, Майским, Исаковым, Игнатьевым и секретарем комиссии Базаровым.
После согласования с союзниками и некоторой корректировки с учетом предложений СССР 25 июля 1944 года документ был утвержден и подписан всеми членами ЕКК и направлен на утверждение соответствующих правительств.
ЕКК признала целесообразным направить подготовленный проект документа о капитуляции Германии для консультаций и другим заинтересованным Объединенным нациям. Их ответы были разными. Так, например, Франция продолжала настаивать на своем участии в устном обсуждении условий капитуляции в ЕКК. Массигли в беседе с Иденом еще в августе 1944 года заявил: «С французской точки зрения невозможно выработать условия капитуляции Германии без участия Франции. Германия не должна иметь возможности заявить, что капитулировала только перед тремя державами. Условия капитуляции уничтожили перемирие 1940 года». Однако Иден посоветовал не поднимать этого вопроса, пока французское правительство не будет создано во Франции.
Массигли предложил держать под постоянным международным контролем Рейнско-Вестфальский бассейн, как сферу военного потенциала Германии. Районы Франкфурта и Мангейма следовало бы выделить в специальную зону, необходим специальный контроль за районом восточного берега Рейна между южной границей спецзоны и Швейцарией. Позднее некоторые пожелания французов были учтены.
Любопытны предложения Нидерландского правительства. Они состояли в том, чтобы от Германии требовать только того, что она в состоянии выполнить. Союзникам нужно отказываться от любых переговоров с Германией на равных началах по любому из условий капитуляции. Пока немцы не перевоспитаются и не изживут нацистские теории, говорилось в письме из Нидерландов, рассматривать их «как людей с диким мировоззрением». Нидерланды не рекомендовали применять полную оккупацию, а занять только отдельные пункты Германии. На начальной стадии в связи с продолжающейся войной против Японии Нидерланды не смогут участвовать в оккупации Германии, но позднее это будет возможно. Затем предложено создать в Германии постоянную центральную межсоюзническую комиссию, в состав которой должны были войти все страны, находившееся в прошлом под германской оккупацией.
Польское эмигрантское правительство в Лондоне заявило о согласии участвовать в оккупации Германии, но оговорило, чтобы Германия отказалась от своих прав на территории, подлежащие отделению в пользу Польши, а именно, – Данциг, Восточную Пруссию, Опольскую Силезию и территории между Одером и польско-германской границей, существовавшей на 1 сентября 193 9 года. Польский Комитет Национального освобождения в Люблине также согласился с аналогичными территориальными изменениями в пользу Польши. Все другие малые страны, включая и Люксембург, также высказали пожелание участвовать в оккупации Германии.
На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) был рассмотрен порядок оккупации Германии и контроль над ней путем ее раздела на особые зоны, которые будут заняты вооруженными силами союзников. Контроль должен осуществляться через Центральную Комиссию в Берлине, состоящую из трех главнокомандующих. Позже этот орган стал называться Контрольным советом (КС). Было решено пригласить в качестве члена этой комиссии и Францию и выделить ей особую зону оккупации.
Как союзники по антигитлеровской коалиции за несколько месяцев до капитуляции Германии представляли себе ее будущее, и верили ли они в возможность этого будущего, свидетельствует эпизод, состоявшийся при открытии Ялтинской конференции. В одном из документов конференции он зафиксирован гак: «… Черчилль предлагает назначить заседание по политическим вопросам, а именно о будущем Германии, если у нее будет какое-либо будущее. Сталин отмечает, что Германия будет иметь будущее»
На Ялтинской конференции были одобрены проекты решений, разработанные ЕКК «О зонах оккупации Германии и об управлении Большим Берлином» и «О контрольном механизме в Германии».
К 1 мая 1945 года ЕКК окончательно утвердила «Соглашение о контрольном механизме в Германии». В документе предлагалось создать Контрольный совет (КС) из четырех главнокомандующих, были определены его функции и структура контрольных органов (Координационный комитет (КК) и союзническая военная комендатура в Большом Берлине (СКБ). План совместной оккупации Берлина был обусловлен тем, что этот город должен был стать местом пребывания союзнического Контрольного совета.
Особую роль в определении контрольного механизма и решения германского вопроса в целом сыграла Потсдамская конференция руководителей трех держав (июль-август 1945 г.). На ней решалась по существу судьба Германии. Но оказалось, что участники конференции еще не выяснили, что же представляет собой страна, с которой они воевали почти шесть лет и которая ныне лежит у их ног.
Между Черчиллем, Трумэном и Сталиным произошел по этому вопросу следующий разговор. «Черчилль. Я хочу поставить только один вопрос. Я замечаю, что здесь употребляется слово «Германия». Что означает теперь «Германия»? Можно ли понимать ее в том же смысле, как было до войны?… Сталин. Германия есть то, чем она стала после войны. Никакой другой Германии сейчас нет. Я так понимаю этот вопрос… Трумэн. На Крымской конференции было условлено, что территориальные вопросы должны быть решены на мирной конференции. Как же мы определим понятие «Германия»? Сталин… Я очень затрудняюсь сказать, что такое теперь Германия. Это – страна, у которой нет правительства, у которой нет определенных границ, потому что границы не оформляются нашими войсками. У Германии нет никаких войск, она разбита на оккупационные зоны. Вот и определите, что такое Германия. Это разбитая страна»[20]20
Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.). Сборник документов. М. 1984. с. 57–58.
[Закрыть].
Поскольку дискуссия по определению понятия «Германия» не продолжалась, то, стало быть, все согласились с тем, что Германия 1945 года – это «разбитая страна».
Странно, что подобная дискуссия в июле 1945 года вообще могла состояться. Ведь союзники еще в 1944 году точно определили, какой будет Германия после ее разгрома: она будет разбита, расчленена на зоны и на длительное время оккупирована. Поэтому трудно согласиться с утверждением биографа канцлера Коля Вернера Мазера, будто бы «в итоге главы держав-победительниц договариваются о том, чтобы при обсуждении этого вопроса исходить из Германии в границах 1937 г…»[21]21
Вернер Мазер. Биография. Гельмут Коль. М., 1993. С. 10.
[Закрыть].
На конференции были конкретизированы принципы деятельности КС, подписано соглашение о репарациях, о германском флоте, о торговых судах, об упорядочении перемещения немецкого населения.
Участники Потсдамской конференции сформулировали цели оккупации Германии:
– полностью разоружить, демилитаризовать и ликвидировать всю германскую промышленность, могущую быть использованной для военного производства, или установить контроль над ней;
– убедить немецкий народ в его тотальном военном поражении и в том, что он не может избежать ответственности за то, что навлек на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение войны и фанатичное сопротивление нацистов разрушили германскую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными;
– уничтожить национал-социалистическую партию и ее филиалы и подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, препятствовать возрождению их в какой-либо форме и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду;
– подготовиться к окончательной реконструкции германской политической жизни на демократической основе, к эвентуальному мирному сотрудничеству Германии в международной жизни.
В оккупированной Германии устанавливался следующий порядок управления:
– вводилось местное самоуправление на демократической основе;
– союзники обязались разрешать и поощрять демократические политические партии, право собраний и публичного обсуждения; – устанавливалась выборность в провинциальные органы управления;
– пока не будет учреждено центральное германское правительство, должны быть сформированы некоторые важные центральные департаменты (финансов, транспорта, внешней торговли и промышленности), действующие под руководством Контрольного совета;
– с учетом обеспечения военной безопасности разрешалась свобода слова, печати и религии, создание свободных профсоюзов.
В Потсдаме были закреплены в политическом и международно-правовом отношении итоги второй мировой войны.
Бесспорно, решения по германскому вопросу, принятые в Ялте и особенно в Потсдаме, были справедливыми и соответствовали общепринятым нормам международного права и общечеловеческой морали. Другое дело, как эти решения проводились в жизнь, и в этом отношении имеются существенные различия между позицией Советского Союза и позицией других участников этих конференций.
Каким же образом Советский Союз в лице такого военно-политического органа как Советская военная администрация в Германии осуществлял в своей оккупационной зоне решения, принятые в Ялте и Потсдаме? Ответу на этот вопрос и посвящены последующие главы предлагаемой книги.
Глава первая
«Кто был кто» в Советской военной администрации
Вступление в Германию самой мощной из всех союзных войск – советской стратегической группировки численностью в 2 500 тысяч солдат и офицеров, располагавших примерно 42 тысячами орудий и минометов, свыше 6 тысяч танков и САУ и 7500 боевых самолетов[22]22
История второй мировой войны 1939–1945. Т. 10. М., 1979. С.315.
[Закрыть], стало решающим фактором в осуществлении советским руководством его политики в Германии.
18 мая 1945 г. маршал Жуков направил Сталину свои предложения относительно состава и численности советских войск в Германии, необходимых для выполнения оккупационных задач. С этой целью, по мнению маршала, потребуется 100 стрелковых дивизий, 33 корпусных управления и 9 управлений общевойсковых армий. Из них 6 армейских управлений должны будут объединять по 4 корпуса и три армейских управления – по три корпуса.
Из войск 1-го БФ Жуков предложил оставить в Германии 36 стрелковых дивизий, 12 корпусных управлений и 3 армейских управления. Для осуществления демонтажа предприятий предлагалось на пять-шесть месяцев дополнительно сформировать 50–70 демонтажных батальонов, а также оставить все соединения, части и учреждения НКВД. Общая численность тыловых частей и учреждений в девяти общевойсковых армиях и трех танковых армиях трех фронтов будет составлять 223 тыс. человек.
В последующие годы эта группировка советских войск сокращалась, но все равно она играла определяющую а порой и дестабилизирующую роль в соотношении сил в Европе. В сформированную в начале июля Группу советских оккупационных войск (ГСОВГ) первоначально входили 12 армейских объединений (47-я армия, 5-я ударная, 8-я гвардейская армия, 1-я гв. танковая армия, 2-я гв. танковая армия, 69-я армия, 33-я армия, 3-я армия, 61-я армия и 16-я воздушная армия). Управление Группы было сформировано на базе полевого управления 1-го Белорусского фронта (1-го БФ). С 1949 года она была преобразована в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), которая к началу 60-х годов состояла из 20 дивизий общей численностью 350 тысяч солдат и офицеров. В Группу входили 10 танковых и 10 мотострелковых дивизий, на вооружении которых были 7500 танков и 900 боевых самолетов. Им противостояли тогда на территории Западной Германии 4 дивизии США, 3 дивизии Великобритании и одна французская дивизия.
Еще в ходе боевых действий на территории Германии западнее р. Одер, которые продолжались полмесяца, и в первое время после капитуляции вермахта на первый план выдвинулась задача по обеспечению населения продовольствием, нормализации жизни в побежденной стране, предотвращению эксцессов, и установлению спокойных отношений с местным населением, что не всегда удавалось.
Эту непростую задачу до образования органов СВАГ выполняли полевые военные комендатуры, созданные по приказу № 5 военного совета 1-го БФ 23 апреля 1945 года. Приказ гласил: «Вся власть управления на территории Германии, занятой Красной Армией, осуществляется военным командованием через посредство военных комендантов городов и районов. Военные коменданты назначаются в каждом городе. Исполнительная власть создается из местных жителей: в городах – бургомистры, в более мелких городах и селах – старосты, которые несут ответственность за выполнение населением всех приказов и распоряжений[23]23
Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. Т. 3. М., 1988. С.269.
[Закрыть].
Их самым неотложным делом стало обеспечить население не только продовольствием и водой, но и медикаментами. Так разрушение лечебных и санитарных учреждений, приток огромных масс беженцев, трудности с продовольственным снабжением привели к большой заболеваемости среди населения.
В первые дни и недели, когда немецкое население влачило голодное существование, не хватало всего самого необходимого для поддержания жизни, часть немцев охватило паническое настроение, они сомневались, стоит ли вообще жить и был ли так уж неправ Гитлер, утверждавший, что с гибелью его режима уйдет в небытие и весь германский народ.
Заместитель Председателя советского правительства А.И. Микоян, посетивший Германию в первые же послевоенные дни, в одном из интервью газете «Правда» нарисовал ужасающую картину страданий берлинцев в это время. Он сообщил, что многие солдаты и офицеры с горечью рассказывают о тяжелом продовольственном положении Берлина. Жители живут в подвалах и разрушенных зданиях без света, голодают. Их кормят из солдатских кухонь и столовых, Советские воины сообщали, что «немцы умирают от истощения… Какой город и село ни проезжаем – всюду дети, старики и женщины просят у наших военных хлеб». Во многих районах Берлина положение было настолько тяжелым, что жители набрасывались на павших лошадей, ели траву, кору деревьев. Один из воинов писал: «Во время уличных боев были убиты лошади. Они лежали по пять-шесть дней и начали тухнуть. Тем не менее жители рубили этих лошадей на куски и у каждой убитой лошади стояли очереди»[24]24
Правда. 1945. 19 мая.
[Закрыть].
Работникам советских военных органов вместе с немецкими демократическими политическими партиями и организациями приходилось энергично морально и материально поддерживать обездоленных людей, побуждать их к самоотверженному труду. Плоды этих усилий скоро были на лицо. Немецкий народ в ходе восстановления продемонстрировал всю силу таких черт своего национального характера, как трудолюбие, неутомимая энергия, дисциплинированность, исполнительность и вера в лучшее будущее. В поддержании этой веры большую роль сыграли средства массовой информации – газеты и радио.
Трудности, выявившиеся в работе военных комендатур в те дни и недели, были огромны и разнообразны. Большинство работников военных комендатур не было подготовлено к выполнению многочисленных – хозяйственных, политических, культурных и других функций, и это была не их вина, а беда. Даже те, кто имел опыт хозяйствования при советской системе, не могли немедленно приспособиться к рыночным отношениям и специфическим политическим особенностям в Германии. Учиться надо было не в академиях, а в конкретной и совершенно незнакомой советским людям повседневной практике. Эту нелегкую учебу, естественно, сопровождали неудачи, промахи и ошибки.
Поскольку в первые дни после капитуляции вся политическая и экономическая жизнь Германии была парализована, то советские власти приказали служащим немецких административных и хозяйственных органов вернуться к исполнению своих обязанностей. Вместе с тем они развернули работу по розыску и выявлению наиболее активных деятелей нацистского режима.
Многие военные коменданты, не зная глубоко обстановки в Германии и не имея опыта административной и хозяйственной деятельности, тем не менее стремились подменять их, ограничивать инициативу местных властей, не доверяли им, давали заведомо невыполнимые задания. Об этом сообщали в Берлин как руководители провинциальных управлений СВА, так и местные немецкие власти. Негативную роль играли также некоторые установки из Москвы, не учитывавшие специфики места и времени и имевшие нередко чрезмерно политизированный и непрофессиональный характер.
В отличие от западных союзников, которые заблаговременно готовили кадры для управления оккупационной территорией и уже с 1942 года имели возможность приобрести определенный практический опыт в Северной Африке и Италии, советские органы были неопытными в этом отношении. Командование всех ступеней, занятое в годы войны руководством боевыми действиями, недостаточно обращало внимания на подготовку кадров для будущей оккупационной администрации. Среди офицерского состава Красной Армии лучше всего к этой роли были подготовлены работники разведорганов, контрразведки (органы «Смерш») и более тысячи работников спецпропаганды. Им была лучше известна обстановка в Германии, чем подавляющему большинству офицеров. Они владели немецким языком и имели приличное, как правило, высшее образование.
На втором месте стояли политические работники разных рангов. Именно эта категория офицеров широко использовалась в военных комендатурах. Но комендантами, как правило, назначались строевые командиры, которым приходилось приобретать соответствующий опыт и становиться профессионалами в ходе своей деятельности. Некоторые не справлялись со своими новыми обязанностями, с их трудностями и соблазнами, и их приходилось заменять другими. В первое время оккупации это происходило довольно часто[25]25
Центральный архив МО РФ (далее – ЦАМО), ф.32, Оп.231338, Д.7, л.607.
[Закрыть].
Назначение и руководство деятельностью военных комендатур в полосе армий или фронтов до образования СВАГ осуществлял соответствующий командующий через свои специальные отделы.
Во всех 93 городах в полосе 1-го УФ западнее рек Одер и Нейсе были назначены бургомистры, а в Дрездене и Герлице – обербургомистры, подобраны советники магистратов по различным отраслям. В большинстве своем это были жертвы фашизма и члены различных политических партий. Но имели место и такие случаи. «В г. Мейсен при попустительстве военного коменданта весь состав магистрата состоит из коммунистов-сектантов, оторванных от партии. Не получая правильной информации, они провели ряд мер, которые восстановили против них население. Городские советники стали называть себя «комиссарами», преследовали рядовых нацистов, требовали от жителей вывесить красные флаги, без острой надобности переименовали многие улицы (назвали их в честь Р. Люксембург, Э. Тельмана, К. Либкнехта, организовали дом им. Тельмана)», – докладывало командование фронта в Москву 25 мая 1945 года.
А в г. Фрайберг местный комендант решил по-иному: сохранил старый фашистский магистрат только потому, что бургомистр с белым флагом вышел встречать советские войска. В г. Пирна с согласия местного коменданта стала издаваться газета. В одном из ее номеров была напечатана статья под названием «О правительстве Пика и Паулюса».
Комендант города ввел в обращение «ты» вместо «вы», как обращались друг к другу коммунисты. В г. Циттау и некоторых других городах немецкие коммунисты стали издавать газету «Красная звезда», в селах делались попытки коллективизации. Советский военный комендант г. Люккенау назначил бургомистром человека, который не пользовался уважением у населения. Комендант объяснил свое решение следующим образом: «Выбирать авторитетного человека не следует, потому что бургомистра, не выполнившего моего приказа, я могу расстрелять. Но в отношении авторитетного бургомистра делать это неудобно».
5 июня 1945 года по поручению своих правительств маршал Советского Союза Г.К. Жуков, генерал армии Д. Эйзенхауэр, фельдмаршал Б.Л. Монтгомери и генерал Делатр де Тассиньи подписали в Берлине «Декларацию о поражении Германии и о взятии на себя верховной власти правительствами четырех союзных держав». В этом историческом документе отмечалось, что в связи с отсутствием в Германии центрального правительства СССР, Англии, США и Франции взяли на себя всю власть, которой располагало германское правительство, верховное командование и любое областное муниципальное или местное правительство. Особо отмечалось, что это не означало аннексии Германии. Далее в Декларации формулировались меры, которые необходимо осуществить во исполнение требований держав-победительниц. Наряду с этим документом на следующий день было подписано Соглашение о зонах оккупации и о контрольном механизме в Германии.
Опираясь на эти основополагающие межправительственные документы, 6 июня 1945 года. Советское правительство приняло Положение о Советской военной администрации по управлению советской зоной оккупации в Германии. В документе определялась структура СВАГ и обязанности Главноначальствующего, его заместителей и помощника, начальника штаба, а также политического советника при Главноначальствующем. «В частности, на политсоветника возлагалась обязанность представления Главноначальствующему предложений и заключений по всем вопросам политического характера, в том числе по всем внешнеполитическим вопросам, а также представление по согласованию с Главнокомандующим советскому правительству информации о положении в Германии и своих предложений по всем вопросам, относящимся к компетенции Советской военной администрации в Германии». Помощник по экономическим вопросам ведал вопросами экономического разоружения Германии и использования германской экономики для возмещения ущерба, нанесенного Советскому Союзу.
Главнокомандующим Группой советских оккупационных войск в Германии и Главноначальствующим СВАГ был назначен маршал Советского Союза Г.К. Жуков. После его отзыва в Москву Главноначальствующим СВАГ с марта 1946 года стал генерал армии В.Д. Соколовский, которого в марте 1949 г. сменил генерал армии В.И. Чуйков.
Вклад Г.К. Жукова в становление новой Германии был столь велик, что об этом крайне важно рассказать по возможности более подробно.
В общественном сознании народов России и других стран маршал Советского Союза Г.К. Жуков прочно сохранил репутацию героя Халхин-Гола, а в годы Великой Отечественной войны – крупнейшего полководца нашего времени. Но менее известны те страницы его богатой биографии, которые связаны с его деятельностью на посту Главнокомандующего Группой советских оккупационных войск и Главноначальствующего Советской военной администрации в Германии. Именно тогда нужно было политически закрепить победу, достигнутую в борьбе с фашизмом. И на этом поприще маршал Жуков проявил себя как творчески мыслящий, дальновидный и обладающий широким кругозором политический деятель и дипломат. Командуя мощной группировкой войск и большим коллективом работников СВАГ, он твердо и последовательно проводил тот курс по германскому вопросу, который был выработан в Москве и который, как он считал, соответствовал коренным интересам Советского Союза. И не вина маршала, а скорее его беда состояла в том, что по ряду важных направлений этот курс в конечном счете оказался тупиковым.
Еще осенью 1944 г., когда маршал принял командование войсками 1-го Белорусского фронта, ему стало ясно, что именно его войска будут завершать войну на территории Германии, а ему лично вероятнее всего придется «осваивать» новую для него профессию.
После того, как 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте, достойно представляя не только Верховное командование Советского Союза, но и весь советский народ, Жуков поставил свою подпись под Актом о капитуляции германских вооруженных сил, он занялся нормализацией жизни в советской оккупационной зоне. Эти дни означала вершину славы маршала Жукова как великого полководца. Он находился в цветущем возрасте – ему исполнилось 49 лет, был активен, энергичен. Нет сомнения, что он был доволен прожитыми годами и достигнутыми свершениями на ратном поприще.
Известный американский дипломат Чарльз Болен, который вместе с Гарри Гопкинсом встречался с Жуковым в Берлине, так описывает свое впечатление о нем: «Он выглядел как подобает солдату – очень сильный, крепкий как русский дуб, с красноватым лицом и голубыми глазами. Хотя у Жукова была приятная улыбка, он был очень сдержан, особенно с иностранцами. Конечно, он был большевиком, неизменно следовавшим линии партии, но в первую очередь русским патриотом… Его моральная чистота резко контрастировала с лживостью других большевистских лидеров. Он проявлял терпимость, даже уважение к Соединенным Штатам, и я ни на минуту не сомневался, что его уважение к Эйзенхауэру было искренним, а не деланным в зависимости от конъюнктуры». Для маршала наступили дни, заполненные заботами и осознанием большой ответственности перед своим народом.
Таким образом, Г.К. Жуков волею судьбы оказался у истоков такого специфического рода советской военно-дипломатической службы как военная администрация в оккупированной стране. Правда, подобная служба в виде советских контрольных комиссий существовала уже с осени 1944 г. в Румынии, Болгарии, Финляндии и Венгрии. Кроме того, советский представитель был членом контрольного органа союзников и в Италии. Но все эти органы функционировали в иной обстановке и имели иные задачи, чем в Германии.
Верховное командование царской России не имело большого опыта административно-военного управления на чужой территории, за исключением кратковременного пребывания российских войск во Франции во время наполеоновских войн, затем в освобожденной в 1878 г. от турецкого ига Болгарии и незначительный опыт был накоплен во временно отвоеванной у Австро-Венгрии Галиции во время первой мировой войны.
При советской власти в 20-е – 30-е годы этот опыт в военных академиях специально не изучался, т. к. предполагалось в духе тогдашней советской политической стратегии, что любая занятая Красной Армией территория противника в будущей войне автоматически становится частью Советского Союза и ею, стало быть, будут управлять советские гражданские органы власти. Так оно и произошло в финской Карелии, в Прибалтике, в западных областях Украины и Белоруссии, Закарпатье, Северной Буковине и Бессарабии в 1939–1940 годах. Поэтому, когда весной 1944 г. советские войска заняли незначительную часть румынской территории, а летом и осенью того же года начали освобождение ряда стран Восточной Европы, то советские военно-дипломатические органы практически не были должным образом готовы к выполнению своих функций, ибо Сталин приказал советских порядков в этих странах не вводить. Впрочем, западные союзники также были слабо подготовлены в то время к выполнению оккупационных задач. Вскоре однако они наверстали упущенное.
Назначением на должность Главноначальствующего СВАГ началась новая, послевоенная карьера маршала. Нельзя утверждать, что он к ней не был подготовлен совершенно. Накопив в период войн, в которых он участвовал, огромный опыт военно-стратегической культуры, Жуков имел возможность творчески применить его наиболее всеобъемлющие принципы в своей военно-политической деятельности на новом посту. Важнейшими среди этих принципов были следующие: отстаивание коренных интересов своей родины, осознание ответственности за судьбу 17 млн. немцев, которые по вине гитлеровской клики оказались в беде, видение в своей повседневной деятельности по осуществлению оккупационной политики своего правительства ее конечной цели, а именно, построение новой, миролюбивой и дружественной Советскому Союзу Германии, необходимость проведения оккупационной политики в Германии совместными усилиями всех союзных держав, опора на немецкие демократические силы как важнейшего условия демократизации, денацификации и демилитаризации Германии, забота о сотрудниках СВАГ и доверие к ним, которые в новых, необычных для них, условиях, особенно в первый период оккупации, честно и самоотверженно выполняли свой долг, принятие необходимых мер по поддержанию дисциплины, порядка и исполнительности в деятельности органов СВАГ. Маршал стал энергично и в срочном порядке формировать всю систему СВАГ сверху донизу. Эта работа продолжалась практически до осени 1945 г.
С первых же дней мира Жуков уделял большое внимание Берлину. Он продолжал заботиться о жителях этого города даже после того, как в западные сектора вступили войска западных союзников. В середине июля он дважды встречался с американскими и английскими представителями и решал проблему снабжения всего города продовольствием и топливом из советских армейских складов. Вот как описал корреспондент «Красной Звезды» будничный день маршала Жукова в мае 1945 г. в Берлине: «Начальник тыла фронта генерал докладывает командующему о подвозе продовольствия для населения Берлина – сколько муки, крупы, жиров, сахара, соли.
– Для детей молоко надо искать…
Генерал посмотрел на маршала и после непродолжительной паузы сказал:
– Мне, товарищ маршал, пишут из дому, что голодают…
– Мне тоже пишут, что в Союзе туго… Но это не меняет дела. Директива предельно ясна: выделить столько-то продовольствия для немецкого населения Берлина.
– Будем кормить фашистов?
– Будем кормить немцев – стариков, старух, детей, рабочих…»
Маршал Жуков принимал активное участие в работе высшего органа союзной военной власти в Германии – Контрольного совета, первое заседание которого состоялось 30 июля. В своих выступлениях на его заседаниях, которые проходили два раза в месяц, он всегда решительно требовал неукоснительного претворения в жизнь Потсдамских решений. В ряде случаев он был инициатором принятия важных законов и директив КС, имевших принципиальное значение для судеб Германии. Достаточно напомнить, что из всех вопросов, которыми занимался КС в течение почти трех лет, половина была рассмотрена и положительно решена в первый год его деятельности. Однако уже в последние месяцы 1945 г. в Германии начало ощущаться приближение циклона холодных ветров, которые вопреки законам природы шли одновременно и с запада и с востока и привели мир в конечном счете к «холодной войне».
Работая в качестве представителя советского правительства в Контрольном Совете, все же основное внимание Жуков уделял выполнению своих обязанностей по осуществлению демократизации, денацификации и демилитаризации советской оккупационной зоны. За короткий период своего пребывания во главе СВАГ маршалу удалось достичь определенных успехов, хотя и было допущено немало ошибок и просчетов.
Как следует из приведенного рассказа, достигнутая военная победа над гитлеризмом для Жукова ни в малейшей мере не означала какого-либо покоя. Как всегда он был весь в заботах. Но, как и у генерала Эйзенхауэра, у маршала Жукова в первые послевоенные дни и недели «большая часть энергии уходила на яркое, изматывавшее, чарующее, долгое празднество», – как писал биограф Эйзенхауэра Ст. Амброз.