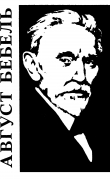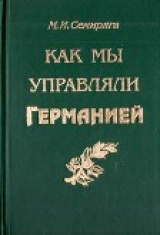
Текст книги "Как мы управляли Германией"
Автор книги: Михаил Семиряга
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Позиция руководства СВАГ в отношении профсоюзов состояла в следующем: «Вся работа Управления информации с профсоюзами, начиная с момента их создания, была направлена на оказание помощи в деле их организационного оформления и укрепления, в составлении основных документов, определяющих цели и задачи немецких профсоюзов, в определении их внешней политики по отношению к профсоюзам западных зон Германии и к ВФП (Всемирная федерация профсоюзов – М.С.), а также практических задач работы профсоюзов по воспитанию трудящихся и демократизации всей жизни советской оккупационной зоны Германии».
Выступая на I-м конгрессе Союза свободных немецких профсоюзов в феврале 1946 года, полковник Тюльпанов изложил взгляд руководства СВАГ на профсоюзы, как на «мощный фактор в осуществлении антифашистско-демократических преобразований и в укреплении руководящей роли рабочего класса в обществе». 9 октября 1947 года Главноначальствующий СВАГ маршал Соколовский подписал приказ 234 о мерах по повышению производительности труда, улучшению материального положения рабочих и служащих. Видные деятели КПГ (СЕПГ) В. Ульбрихт и Г. Ендрецкий вместе с сотрудниками Управления информации активно участвовали в обсуждении проекта этого приказа.
Органы СВАГ поддерживали меры немецких властей, направленные на улучшение материального положения немецкой молодежи, привлечение ее к общественной политической деятельности, по ее воспитанию в духе демократии и антимилитаризма. Более того, СВАГ была в ряде случаев инициатором таких мер. Однако в своей массе молодые люди часто отвергали чрезмерную идеологизацию при решении стоявших перед ними проблем.
Управление информации внимательно следило «за действиями представителей буржуазных партий в ДЖС, своевременно принимало меры по ограничению их влияния в организациях ДЖС»[82]82
АВП РФ, ф. 0457«г», оп.1, порт.31, п.9, л. 141
[Закрыть].
СВАГ было известно, что значительное влияние на население, несмотря на определенные репрессии со стороны нацистских властей, сохранила церковь. 80 процентов населения Германии исповедовало евангелическую веру, а 15 процентов принадлежало к католической церкви. Взаимоотношения СВАГ с церковью и религиозными структурами в зоне носили сдержанно-уважительный характер. Работники СВАГ не считали нужным вмешиваться во внутренние дела церкви, если руководители прежде всего двух конфессий – католической и евангелической – ограничивались исполнением только своих канонических обязанностей.
Так, по оценке Управления информации, берлинский католический кардинал граф фон Прейсинг время от времени выступал с критикой осуществлявшихся в зоне демократических реформ, поэтому в отношении католической церкви полковник Тюльпанов высказывался резко категорично: она, мол, является непримиримой ко всем нашим мероприятиям и не хочет вступать со СВАГ ни в какие контакты. Но зато наиболее влиятельный деятель евангелической церкви берлинский епископ Дибелиус представлял собой образец церковника-дипломата, стремящегося сохранить равные отношения со всеми оккупационными властями и в то же время ищущего популярности среди населения своими выступлениями в защиту свободы личности и правового государства[83]83
АВП РФ, ф. 0457«г», оп.1, порт. 31, п.9, л. 241
[Закрыть].
«Избегая открытого нажима на церковное руководство, СВАГ обычно разрушала реакционные проекты и намерения и проводила необходимые решения и мероприятия в церковных организациях через прогрессивные силы, имеющиеся внутри самой церкви», говорилось в одном из документов СВАГ.
Заслуживают внимания выводы о позиции Управления информации в отношении немецких политических партий и общественных организаций в советской оккупационной зоне, сделанные специальной комиссией ЦК ВКП(б), которая обследовала работу этого Управления весной 1948 года. Относительно Социалистической единой партии Германии руководитель комиссии А. Соболев отметил следующее: «Имеет место еще в широком смысле опека над партией. Партия находится, в тепличных условиях. В результате оранжерейных условий, в которых она находится, сужается инициатива партии… В партии заметно увлечение парламентаризмом. Все внимание направлено на работу в ландтагах, и очень мало проводится работа с массами. Наблюдается вождизм и бюрократизм в партии».
По поводу работы с буржуазными партиями, в частности, ХДС, было сказано: «Ряд работников ставит вопрос о необходимости расколоть буржуазные партии, хотя для этого нет еще соответствующих предпосылок. Многие работники СВА считают, что само собой разумеющейся истиной является то, что существующие в зоне буржуазные партии – это враждебные нам партии; из такой точки зрения вытекают и соответствующие тактические и политические ошибки в работе с буржуазными партиями. Мелкая буржуазия не руководится нами, средняя буржуазия представлена на откуп англо-американцам. Наши работники вместо изучения процессов, которые происходят в буржуазных партиях, шарахаются из стороны в сторону, проводят «дворцовые перевороты» – как это произошло, например, со снятием Кайзера. Его не разоблачили в партии. Он не стал политическим трупом, как это было сделано с Гермесом (председатель ХДС в советской зоне, отстраненный СВАГ в конце 1945 года – М.С.). И невольно создали ему авторитет среди буржуазных кругов, благодаря отсутствию предварительной серьезной работы по его дискредитации».
По поводу отношения к новым партиям в выводах комиссии было отмечено, что Управление проявило поспешность в их создании, хотя сама идея правильна. «Необходимо было провести предварительно большую работу, чтобы вновь созданные партии были партиями просоветской ориентации, надежными. Необходимо самым серьезным образом отнестись к подбору сверху донизу руководства этих партий».
В отношении Союза свободных немецких профсоюзов было сказано, что в руководстве ими со стороны СВАГ наблюдается ползучий эмпиризм, торопливость с организацией соревнования среди рабочих, ибо оно пропагандистски еще не подготовлено.
Небезынтересно также отметить замечания и указания комиссии ЦК ВКП(б) и по другим аспектам деятельности СВАГ. Так, относительно пропаганды среди немцев достижений Советского Союза говорится, что «наши формы и методы часто механически, без учета особенностей, переносятся в немецкие условия. Нет дифференциации пропаганды в разных классах». Было также сказано, что «комиссия отмечает, как недостаток наличие самоизоляции политуправления, политорганов от работы с местным населением, что наносит ущерб интересам нашей Родины». «Отмечается боязнь наших людей разговаривать с немцами, существуют запреты читать немецкие газеты, посещать немецкое кино, театр. Это является ошибкой политуправления. Необходимо избавиться от болезни под названием «как бы чего не вышло». Люди присланы сюда для работы, а не для самоизоляции».
Комиссия подвергла критике кадровую практику СВАГ, отметив при этом, что «новые кадры комендантов и других работников были направлены на работу без всякой подготовки, после беседы с руководством«. Отмечалось, что «неправильно поставлена марксистско-ленинская учеба. Изучают «отзовистов», а о шумахеровцах ничего не знают, занимаются по-школярски… Мы заинтересованы в том, чтобы во вчера еще вражеской стране население было настроено к нам не враждебно, а дружественно».
В целом комиссия ЦК ВКП(б) в своих выводах весьма критически оценила политическую обстановку в советской зоне Германии. Она отмечала, что морально-политическое состояние населения зоны внушает серьезную тревогу, реакция еще занимает прочные позиции. «СЕПГ нё является решающей политической силой зоны, не стала политическим вождем немецкого народа. Значительная часть населения зоны идет за буржуазными партиями». Комиссия признала, что в Берлине отмечается ослабление позиции СЕПГ среди рабочего класса, а созданный в свое время блок антифашистских партий оказался неработоспособным.
Даже общее ознакомление с этим интересным документом свидетельствует о том, что взаимоотношения между разными подразделениями самой СВАГ, а также между руководством СВАГ и отделами ЦК ВКП(б) по вопросам советской оккупационной политики были тесными, но указания и действия не всегда отвечали сложившейся в зоне обстановке. С одной стороны, директивы ЦК партии порой были чрезмерно идеологизированными, с другой – были недальновидными и слишком поспешными иногда меры СВАГ, ведшие к «советизации» зоны. Не исключено, что это было следствием определенного давления со стороны левацких кругов из руководства СЕПГ, в отношении которых работники СВАГ не всегда проявляли твердость.
Глава третья
СВАГ устанавливает демократию по советскому образцу
Советская военная администрация в Германии и ее органы на местах были безусловно заинтересованы в демократизации общественной жизни, ибо только таким путем можно было предотвратить возрождение принесшего народам столько горя фашизма. Отвечая на вопросы московского корреспондента английской газеты «Санди таймс «А.Верта, Сталин 24 сентября 1946 года сказал: «Я думаю, что демилитаризация и демократизация Германии представляют одну из самых важных гарантий установления прочного и длительного мира»[84]84
Известия, 24 сентября 1946 г.
[Закрыть].
Решение сложных и постоянно возникающих в послевоенной Германии политических проблем, связанных с демократией, всегда стояло в центре внимания советских оккупационных властей. Тем более это являлось актуальным в первые месяцы существования в Германии оккупационного режима, не имевшего аналога в итогах прошлых войн. Чтобы иметь представление об общей ситуации в советской зоне и деятельности СВАГ после полугодичного существования оккупационного режима, достаточно привести выдержки из имевшей лишь информационный характер докладной записки полковника С.И. Тюльпанова начальнику Главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику И.С. Шикину, представленной 27 декабря 1945 года. В ней отмечалось, что разгром фашистской Германии привел к коренным изменениям внутриполитической жизни страны. Созданы условия для роста политической активности масс в рамках становления новой демократической Германии, прочно сложились органы самоуправления провинций, городов и сел, проведено очищение органов самоуправления, промышленных предприятий и учреждений от активных нацистов. Четыре антифашистские партии – КПГ, СДПГ, ЛДПГ и ХДС – действуют в едином блоке. КПГ – ведущая сила антифашистского блока и занимает в основном правильную позицию по всем важным политическим вопросам.
Проведена земельная реформа, в результате которой десятки тысяч крестьянских семей получили землю. Созданы свободные немецкие профсоюзы, антифашистские комитеты молодежи и женщин, антифашистская интеллигенция объединилась в союз – Культурбунд. Проведена школьная реформа. Возрождаются и действуют на новой демократической основе театры, клубы, кино». В зоне выходят газеты, созданы книгоиздательства. Дается оценка настроениям среди молодежи, приводятся примеры негативного отношения рабочего класса к демонтажу предприятий и реакции немцев на текущие международные события. В заключение отмечается, что «недостойное поведение отдельных военнослужащих Красной Армии, их мародерство, хулиганство, грабежи и деятельность бандитских групп, действующих в униформе Красной Армии, компрометируют советскую власть, наносят огромный вред демократическим партиям»[85]85
АВП РФ, ф. 0457«г», on. 1, порт. 8, п.2, л. 120–129
[Закрыть].
Приведенные выдержки из документа, в котором объективно анализировалась ситуация в советской зоне в первое полугодие после капитуляции Германии, показывает, что СВАГ знала реальную обстановку в зоне, видела трудности и их причины и правильно ориентировала демократические силы в вопросе о путях возрождения нормальной жизни в новой Германии в духе решений Потсдамской конференции. В последующий период по мере усложнения политической обстановки в советской оккупационной зоне и в Европе в целом задачи СВАГ стали еще более разнообразными и сложными.
* * *
С такой же категоричностью и убежденностью о принятых в Потсдаме решениях говорили руководители и других союзных государств. Но практическая деятельность их оккупационных властей свидетельствовала о том, что они по-разному понимали как политические принципы, заложенные в этих решениях, так и пути их реализации, в том числе применительно к демократизации всех сторон общественной жизни оккупированной Германии.
Как же все это осуществляла Советская военная администрация в своей зоне оккупации?
С первых же дней после капитуляции Германии в советской зоне были приняты меры по выполнению решения Потсдамской конференции о демократизации общественной жизни. Это была ключевая проблема, от решения которой зависел ход всех политических и экономических реформ. В приказе № 5 от 9 июля 1945 года СВАГ признавала принцип общинного самоопределения, и были предприняты конкретные шаги по его воплощению в жизнь[86]86
SBZ – Handbuch… S. 303
[Закрыть]. Западные же военные власти были настроены решительно против предоставления немцам какого-либо самоуправления по крайней мере в течение первых месяцев существования оккупационного режима в Германии. Начальник Управления информации американской военной администрации генерал Маклюр откровенно заявлял, что «немцы не должны иметь никакого голоса, и мы сами должны решать все». Они испытывали тотальное недоверие к политической деятельности немцев, их партий и общественных организаций.
Вырабатывая меры по управлению советской зоной, ее денацификации и демократизации, руководство СВАГ учитывало предложения немецких политических партий и прежде всего КПГ, а так же СДПГ, имевшей определенный опыт парламентской деятельности. Так, в конце июля 1945 года руководство этой партии направило маршалу Жукову письмо с предложениями, как лучше организовать местное самоуправление, его функции и полномочия[87]87
АВП РФ, там же, oп. 1,п. 1, д. 1, л. 173–174
[Закрыть].
Принципы строительства органов самоуправления, разработанные СДПГ, соответствовали их программе еще в период существования Веймарской республики. Они состояли в том, чтобы действовали единые правила для городов и для сельских населенных пунктов, чтобы существовала однопалатная система с общинным представительством как законодательной инстанцией. Социал-демократы выступали тогда за усиление роли местного самоуправления как основы децентрализованного государственного устройства.
Компартия в период Веймарской республики не имела самостоятельно разработанной политики в области местного самоуправления. Она в то время слепо следовала за указаниями Коминтерна, которые не соответствовали условиям Германии, и пропагандировала «советский образец». Большого практического опыта работы в органах местного самоуправления в отличие от социал-демократов коммунисты тогда не приобрели. Лишь на переломе 1943–1944 гг. специальная комиссия КПГ в Москве предприняла разработку предложений о восстановлении самоуправления в общинах в рамках свободных демократических выборов. Позиция КПГ по этому вопросу нашла отражение в программном воззвании к немецкому народу от 11 июня 1945 года[88]88
SBZ – Handbuch… S. 302–303
[Закрыть].
Несмотря на отсутствие четырехстороннего согласованного решения по местному самоуправлению, уже в июне – июле 1945 года в зоне была полностью восстановлена система местных органов власти на демократической основе. По представлению начальников земельных управлений СВА Г.К. Жуков в середине июля 1945 года утвердил президентов немецких управлений земель и провинций. 22 октября 1945 года управления земель и провинций получили от СВАГ право издавать законы, а также распоряжения, имеющие силу закона[89]89
За антифашистскую демократическую Германию. С. 176–177
[Закрыть].
В октябре 1946 года были проведены равные и прямые выборы в земельные представительства (ландтаги), районные (крайстаги) и общинные представительства при тайном голосовании и по пропорциональной системе. Однако ни в одном из пяти ландтагов СЕПГ даже при поддержке СВАГ не удалось завоевать абсолютного большинства депутатов, тогда как ХДС и ЛДП, несмотря на чинимые им трудности, добились неожиданного успеха. Если СЕПГ во всех землях имела 249 депутатов, то обе буржуазные партии – 254 депутата.
Политический состав ландтагов в советской зоне после выборов 20 октября 1946 года представлен в следующей таблице: [90]90
Там же. С. 669
[Закрыть]

В связи с избранием демократическим путем ландтагов во всех землях и провинциях маршал Соколовский в ноябре 1946 года приказал всем немецким президентам сдать свои полномочия ландтагам и вновь образованным правительствам.
На прошедших затем выборах президентов ландтагов и вице-президентов СЕПГ имела успех. Из 39 портфелей в земельных кабинетах министров члены СЕПГ получили 2 1, ХДС – 10 и ЛДП – 8 портфелей. Примерно такое же соотношение партий было и на выборах обербургомистров городов земельного подчинения, бургомистров других населенных пунктов. СЕПГ завоевала ведущие позиции в землях не только потому, что она выработала понятную для населения предвыборную политическую платформу, но и в силу того, что СЕПГ опиралась на аппарат органов СВАГ, располагавших мощными экономическими и политическими рычагами воздействия на обстановку в зоне.
Состоявшиеся в советской зоне оккупации выборы в местные органы самоуправления были более демократическими, чем в Советском Союзе. Так, они проходили на многопартийной основе при наблюдении со стороны не только выделенных партией корреспондентов, но и представителей избирателей. Это особенно касалось подсчета голосов. Немецкие исследователи считают, что с конституированием к ноябрю 1946 года ландтагов процесс демократизации советской зоны, предусмотренный в Потсдамских соглашениях, можно сказать, был завершен.
Но представители НКВД в Германии пытались ограничить этот демократический процесс путем, например, задержания накануне голосования неприемлемых для советских властей кандидатов или же их публичной дискредитации, а также предоставления льготных возможностей коммунистам в проведении агитации в ходе избирательной кампании. Кр. Эндрю и О. Гордиевский – авторы работы по истории советских органов госбезопасности (первый из них – английский историк, второй – советский разведчик, изменивший Родине) утверждают, что «в Восточной Германии, как и в Польше, советники из советских спецслужб давали инструкции по подтасовке результатов выборов». Авторы считают, что на первых общенациональных выборах в ГДР в 1950 году СЕПГ получила 99,7 процента голосов, то есть вдвое больше, чем в 1946 году, что маловероятно. Не исключено, что и на выборах 1946 года имелись случаи подобных подтасовок[91]91
Кр. Эндрю и О. Гордиевский. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. М.,1990. С.364
[Закрыть].
Проанализировав предвыборную тактику СЕПГ на выборах и ее последующую парламентскую деятельность, Управление информации пришло к выводу, что, несмотря на успехи, партия в своей работе допустила серьезные ошибки. В парламентской тактике она не сумела преодолеть, как отмечалось в одной из аналитических записок Управления, «социал-демократических пережитков». Это выражалось в примиренческом отношении к «реакционным буржуазным депутатам и министрам». Руководство партии не боролось против стремления фракций и отдельных работников органов самоуправления действовать независимо от линии партии. Отмечалась также недооценка значения блока демократических партий, допускались ненужные выпады против буржуазных партий, слабый контроль «за выполнением законов»[92]92
АВП РФ, ф.0457«г», oп. 1, порт.31, п.9, л.46–47
[Закрыть]. Приведенный анализ показывает, что наряду с обоснованными критическими замечаниями руководство Управления информации продемонстрировало и набор традиционных нападок на социал-демократов».
Важным результатом выборов в органы самоуправления было то, что этим органам была передана инициатива по руководству жизнью зоны. В одном из документов Управления информации того времени говорилось следующее: «Работники СВА в этой обстановке также должны были перестроить свою работу и отношения с немецким населением и партиями так, чтобы не связывать немецкие органы власти и общественные организации в их инициативе, чтобы они не были только «удлиненной рукой СВА».
В декабре 1946 года руководство СВАГ дало соответствующие указания всем своим органам на местах:
– максимально сузить круг сотрудников комендатуры, соприкасающихся с руководством организации СЕПГ, не нужно вмешиваться, не заниматься мелочной опекой, а перейти к общему контролю и наблюдению, не снимая с себя ответственности при этом за политическую деятельность всех партий и организаций;
– при взаимоотношениях с другими партиями не давать им повода обвинять органы СВАГ в зажиме и грубом администрировании.
Успешное проведение общинных выборов осенью 1946 года стало первой совместной акцией блока антифашистско-демократических партий. Как впоследствии писал С.И. Тюльпанов, главные задачи Управления информации, состоявшие в том, чтобы привлечь немецкий народ к практической работе по созиданию новых антифашистско-демократических отношений, ликвидировать еще существовавшие среди немцев пережитки нацистской идеологии, антикоммунистические и антисоветские предрассудки, были выполнены[93]93
S.Tjulpanow. Op. cit. S.61
[Закрыть].
Много лет спустя после описанных событий С.И. Тюльпанов давал следующую оценку роли СВАГ в социально-экономическом и политическом развитии Восточной Германии: «Нельзя недооценивать ту помощь, которую оказывали СВАГ и ее органы, особенно их роль в политическом контроле и пресечении интриг реакционных сил. Стремительно развивавшийся в советской оккупационной зоне революционный процесс всегда необходимо рассматривать в конкретных исторических рамках»[94]94
Ibidem. S. 61
[Закрыть].
В сентябре 1947 года Главноначальствующий СВАГ маршал Соколовский проверил работу Управления информации и 10 сентября издал приказ, в котором отметил, что работники органов информации «проделали значительную работу по обеспечению демократического переустройства в советской зоне оккупации Германии». Вместе с тем в приказе указывалось на ряд недостатков. В частности, органы информации работали в значительной степени в отрыве от важнейших хозяйственно-политических задач, не вникали в вопросы текущей хозяйственной жизни и часто не реагировали на вредные политические тенденции в организации работы промышленности и сельского хозяйства. Маршал считал, что органы информации не вели работы по политическому обеспечению плана репарационных поставок и не организовывали политическую работу среди немцев, работавших на предприятиях САО (Советских акционерных обществ).
Органы информации просмотрели рост прогулов рабочих на предприятиях САО, рваческие тенденции и хищения народной собственности и не дали им политической оценки, «не разглядели в них проявления скрытой борьбы реакции против Советского Союза и демократических преобразований в советской зоне оккупации». Органы информации не замечали серьезных явлений в политической жизни деревни – дискредитацию земельной реформы, рваческие требования, срывы планов заготовок сельхозпродуктов. Маршал упрекнул сотрудников Управления информации в том, что они «на основе случайных и формальных цифр часто делали ложные «самоуспокаивающие выводы». Руководители отделов этого Управления не проявляли достаточной инициативы в постановке перед командованием СВАГ серьезных хозяйственно-политических вопросов».
Сотрудникам органов информации было приказано устранить отмеченные недостатки, а руководители других управлений СВАГ должны были регулярно знакомить органы информации с ходом выполнения планов в промышленности и сельском хозяйстве, заместителю Главноначальствующего по экономическим вопросам предлагалось обеспечить квалифицированными лекторами экономическую учебу личного состава Управления информации[95]95
АВП РФ, ф.0457«г», oп. 1, п.9, д.31, л.267–269
[Закрыть].
Ознакомление с этим документом свидетельствует о том, что руководство СВАГ видело в Управлении информации универсальный орган, обязанности которого выходили далеко за рамки сбора информации.
Советские оккупационные власти придавали большое значение не только формированию немецких структур управления, но и нормальному деловому сотрудничеству с ними. В первые недели и месяцы оккупации их назначали по принципу представительства непосредственно советские военные органы – военные комендатуры, а позднее – Советская военная администрация. Эти органы пользовались хотя и не всегда профессиональными советами местных антифашистов и, естественно, в первую очередь коммунистов, прибывших из эмиграции и вернувшихся из концлагерей и тюрем.
Существенным резервом новых кадров для управленческих структур в первые месяцы оккупации являлись бывшие коммунистические реэмигранты, проживавшие в СССР и воевавшие в составе Красной Армии, и члены Национального комитета «Свободная Германия» и «Союза немецких офицеров». С конца апреля и в начале мая 1945 года они вернулись на родину в составе трех инициативных групп, сформированных руководством КПГ в Москве. При содействии советского командования они были распределены соответственно в войска трех советских фронтов, действовавших на территории Германии. «Группа В. Ульбрихта «прибыла в район Берлина (1-й БФ), «группа А. Аккермана» – в Саксонию (1-й УФ) и «группа Г. Соботтки» – в Мекленбург (2-й БФ). Они получили задание действовать в духе разработанных КПГ «Указаний о деятельности немецких антифашистов на оккупированной Красной Армией немецкой территории»[96]96
SBZ – Handbuch… S.297
[Закрыть].
Эти группы, каждая в своем районе, оказывали существенную помощь местным советским военным комендатурам по формированию и персональному замещению управленческих органов, наведению общественного порядка, организации продовольственного снабжения, восстановительным работам, возрождению местных организаций КПГ.
В течение мая-июня 1945 года на работу в органы местного самоуправления из Советского Союза было направлено 70 немецких эмигрантов и до 300 военнопленных-антифашистов, получивших соответствующую политическую подготовку в антифашистских школах[97]97
СВАГ. Управление пропаганды… С.25
[Закрыть].
Приоритет в занятии должностей при содействии советских военных властей отдавался, разумеется, коммунистам с предвоенным стажем, сидевшим в фашистских лагерях и тюрьмах, жертвам нацизма. Вместе с тем оказывалось доверие и социал-демократам и нескомпрометированным связями с нацизмом представителям буржуазных партий.
Но со временем к работе в административных органах стали привлекаться и профессионалы, в том числе работавшие в этих органах при нацистском режиме. Это были подготовленные кадры, но их весьма жестко контролировали. За такую позицию выступали антифашистские силы, она также соответствовала союзническим решениям о демократизации общественной жизни Германии.
«Немецкие коммунисты установили контакты с советскими комендантами. В Шпандау был организован сборный пункт для коммунистов-подпольщиков и вышедших из тюрем и концлагерей антифашистов. Подпольщиков обеспечивали одеждой, обувью и питанием и направляли на работу в зависимости от опыта и желания. Коммунисты на местах привлекали к работе антифашистских деятелей из разных слоев населения, подбирали кадры для органов самоуправления». Так писал о «деятелях первого часа» (в первые дни и недели после окончания войны) сотрудник СВАГ, позже известный историк-германист Д.С. Давыдович[98]98
Ежегодник германской истории. 1980, М., 1982. С.22
[Закрыть].
Руководство СВАГ не только не считало излишним, но, и наоборот, крайне важным в своей деятельности поддерживать постоянное сотрудничество и систематически консультироваться с руководителями немецких органов самоуправления. Приказы и распоряжения СВАГ, как правило, не принимались без предварительного обсуждения с теми немецкими учреждениями и лицами, коих они касались.
Особое место в демократизации общественной жизни заняло обширное совещание недавно избранных президентов и вице-президентов ландтагов земель, а также начальников центральных немецких управлений и руководителей СВАГ, проведенное маршалом Жуковым в Берлине 13–14 ноября 1945 года. Это совещание представляется еще более значительным событием, если вспомнить, что оно состоялось всего лишь через несколько месяцев после капитуляции Германии. Немецкие руководители откровенно и критически доложили о складывающейся ситуации в их землях, внесли конкретные предложения по исправлению недостатков и продемонстрировали свою готовность к деловому и лояльному сотрудничеству с СВАГ, выдвинули также ряд претензий к некоторым ее органам.
Подводя итоги совещания, Жуков подверг критике ход земельной реформы, опроверг слухи о предстоящем введении в Германии колхозного строя. Главноначальствующий СВАГ также изложил свое понимание проблемы о дифференцированном отношении к нацистам. Он потребовал изгнать из аппарата затаившихся нацистов, разоблачить теорию о «безвинных и невинных нацистах», которая является хорошей приманкой для подпольных фашистских организаций. В аппарате нацисты ни в коем случае работать не должны, не может быть и речи о «незаменимых» нацистах, ибо «немецкий народ достаточно культурен, чтобы из своей среды привлечь новых людей». Маршал Жуков опроверг слухи, будто советские войска скоро покинут Тюрингию и часть территории Мекленбурга и что с помощью атомной бомбы союзники якобы отбросят советские войска. Главноначальствующий СВАГ заявил, что генеральная линия советской политики в Германии сформулирована в декларации Потсдамской и других конференций. Необходимо провести полную демилитаризацию страны, что также в интересах и немецкого народа. Контрольной совет на основе Потсдамских решений выступил за создание общегерманских департаментов. Что же касается общегерманского правительства, то о нем «пока речи нет и, видимо, не будет». Он одобрил мнение участников конференции о необходимости большей самостоятельности провинций.
Маршал призвал президентов понять необходимость демонтажа предприятий, чтобы тем самым лишить Германию средств производства как базы войны и помочь Советскому Союзу восстановить разрушенную войной экономику: «В Германии останутся отрасли, необходимые для удовлетворения бытовых нужд населения. Он проинформировал, что «вся индустрия в зоне союзников будет демонтирована по общему плану и разделена между союзниками, остальное будет уничтожено. Для того, чтобы занять рабочих и специалистов в советской зоне, СВА оставляет несколько сот предприятий, ранее намечавшихся к демонтажу, в Германии, но под советским флагом». В заключение маршал предложил проводить подобные конференции ежемесячно[99]99
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, порт.7, п.2, л.2-29
[Закрыть].
В записи министра-президента Мекленбурга В.Хеккера этот сюжет выступления Г.К. Жукова выглядел так: «Гитлеровский фашизм нанес миру, и особенно России, такие глубокие раны, что немецкий народ нужно лишить возможности еще раз развязать войну. Поверьте, что нужда велика не только в Германии. Опустошения в России столь велики, что миллионы людей еще живут в землянках, так как их жилье разрушено. Если мы демонтируем предприятия тех областей промышленности, которые были использованы или могут быть использованы для войны, то это необходимо, с одной стороны, в целях компенсации пострадавшим странам, а с другой стороны, в целях предотвращения будущей войны. Вы можете быть уверены в том, что все это делается не из чувства мести, а по причине упомянутой необходимости. В целях оказания вам помощи мы воссоздадим, несмотря на это, несколько сот предприятий в советской зоне оккупации, чтобы дать работу и возможность существования, однако эти предприятия должны будут работать под нашим руководством»[100]100
За антифашистскую демократическую Германию. С. 193–194
[Закрыть].