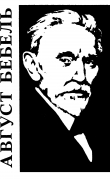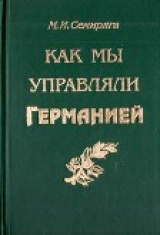
Текст книги "Как мы управляли Германией"
Автор книги: Михаил Семиряга
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Отмечая случаи недостойного поведения некоторых советских солдат в отношении немецкого населения, нельзя игнорировать и того, что отступавшие солдаты вермахта вели себя в отношении собственного мирного населения также не лучшим образом, о чем свидетельствует приказ верховного командования вермахта от 25 сентября 1944 года под названием «Мародерство солдат на германской территории». В нем отмечается что «в эвакуируемых районах Германии солдаты повинны в тягчайших преступлениях в отношении немецкого населения. Они набрасываются на оставленное имущество, грабят покинутые жилища. При этом вышестоящие начальники не только не вмешиваются, но часто сами участвуют в этих постыдных действиях». В приказе предлагалось в случаях мародерства принимать жесткие меры на месте.
На территории всех оккупационных зон необходимо было увековечить память сотен тысяч советских воинов, погибших на немецкой земле в боях с фашизмом, а также граждан СССР и других союзных держав, ставших жертвами террора в фашистских лагерях и непосильного принудительного труда. Помнится, в Управлении информации СВАГ как-то обсуждался вопрос, каким образом в подобной ситуации убедить немцев в том, чтобы они не по приказу, а от души с должным уважением относились к памяти погибших советских освободителей, посещали и поддерживали могилы в порядке. Имелись серьезные опасения, что немцы отнесутся недобросовестно к этой деликатной акции после нашего ухода из Германии. Ведь погибшие еще вчера были их врагами. Однако, к счастью, наши опасения не оправдались. В хорошем состоянии находятся могилы и в настоящее время – как на востоке, так и на западе Германии. Выполняя соответствующий приказ Главноначальствующего СВАГ, немецкие органы власти совместно с советскими военными комендатурами на территории Восточной Германии соорудили 322 братских кладбища и много отдельных могил, где нашли вечный покой сотни тысяч советских граждан. В местах наиболее кровопролитных боев было сооружено 307 обелисков. Так, 10 тысяч воинов Красной Армии, погибших при взятии Берлина, покоятся на двух братских кладбищах города – в Панкове и в Трептов-парке. Последнее кладбище, являющееся величественным мемориальным комплексом, представляет собой символ вклада советского народа – освободителя в победу над фашизмом. В Тиргартене советские танкисты также соорудили памятник павшим товарищам.
В населенном пункте Зеелов, расположенном на направлении главного удара советских войск в Берлинской операции, находится два кладбища павших воинов. В районе Бескова, где ожесточенные бои продолжались на протяжении шести дней, погибло более 500 советских воинов. В 1948 году их останки были перенесены на 20 братских кладбищ и в многочисленные отдельные могилы. Много кладбищ было сооружено в районе г. Котбус, где сражались войска 1-го Украинского фронта. В г. Форст, за который советские войска сражались в течение четырех дней, погибло 82 человека. Они похоронены в 28 общих и 26 одиночных могилах. В районе лужицкого города Шпремберг на трех братских кладбищах покоятся 359 убитых воинов и 55 умерших военнопленных и других советских граждан. В ГДР практически не было ни одного более или менее крупного населенного пункта, где бы не находилась братская могила воинов.[361]361
Dank euch, ihr Sowjetsoldaten! Спасибо вам, герои-солдаты Советской Армии. Berlin, 1960
[Закрыть].
Не все советские офицеры, в том числе и отдельные представители высшего командования, хорошо разбирались в политической обстановке в Германии. Некоторые из них считали, особенно в первые дни и недели оккупации, что в Германии вообще не осталось демократических сил, на которые советским властям можно было бы опереться. Другие утверждали, что единственной антифашистской силой в стране были коммунисты. Все же остальные в той или иной степени связаны с гитлеровской системой, и поэтому в побежденной Германии вся власть должна находиться исключительно в руках советских военных органов.
Указывая на негативные случаи, нельзя игнорировать и того, что примеров другого рода имелось все же больше. Большинство советских воинов, чьи сердца не ожесточила ужасная война, проявляли гуманное отношение к мирным жителям. Ненависть к принесшему им горе и страдания врагу переплетались у них в противоречивый узел разнородных чувств. Эренбург еще в годы войны писал, что мы «ненавидим немцев и за то, что мы должны их убивать», а другой писатель рассказывал об одном солдате, у которого семья была погублена немцами и который плакал на улице Берлина от того, что у него рука не поднималась мстить.
Хранящиеся в российских архивах документы, а также рассказы непосредственных участников событий – солдат и офицеров трех фронтов, действовавших на территории Германии (исключая Восточную Пруссию), свидетельствуют о том, что немцы были охвачены страхом перед ожидаемым возмездием со стороны советских солдат за содеянные фашистами преступления на территории Советского Союза. Но вместе с тем капитуляцию своей страны немцы восприняли, естественно с чувством облегчения: кончилась война и вместе с ней бесчисленные житейские невзгоды. Но стоило ли этому событию радоваться или считать его национальной трагедией – при ответе на этот вопрос мнение разных слоев немецкого населения было далеко не однозначным.
Потребовались большие усилия антифашистов и других честных немцев, а также усилия оккупационных властей, чтобы убедить немцев в том, что 8 мая 1945 года для Германии наступил исторический поворот и что немцам предоставлен исторический шанс навсегда отказаться от милитаризма и войны и решительно встать на путь мира и демократии. Эти идеи в первый послевоенный период с трудом проникали в сознание широких кругов населения. Слишком тяжким был груз нацистской идеологии, расизма и милитаризма.
После демобилизации большой части солдат и офицеров действовавших на территории Германии войск здесь остались оккупационные войска и сотрудники советских оккупационных органов управления. Это была такая категория советских людей, которая была призвана сыграть важную роль в осуществлении советской политики в Германии и налаживании нормальных отношений между вчера еще враждебными друг другу народами. Немцы увидели в лице советских людей, служивших или работавших в Германии, не озлобленных за совершенные на их родине злодеяния поработителей, а освободителей от фашистского ига, искренне желающих помочь немцам встать на путь демократического развития. Негативные явления противоречили официальному политическому курсу Советского Союза. В Красной Армии не было и не могло быть таких офицеров, как немецкий фельдмаршал Рейхенау и другие генералы, призывавшие солдат вермахта видеть в славянах людей второго сорта, беспощадно уничтожать их исторические и культурные памятники. Это признавали многие немцы. Так бывший до 1948 года министром юстиции Тюрингии Г. Кюльц писал, что линия советских оккупационных властей, особенно учитывая поведение немецких солдат и офицеров в России, «в поразительно малой степени определялась чувствами мести и возмездия» и что основу ее составляло установление разумных отношений с немецким населением.[362]362
Wie es zur Bundesrepublik kam? Politische Gesprache mit Mannern der ersten Stunde. Freiburg/Breigau, 1968. S.83
[Закрыть].
Если представление о советском солдате, который в освобожденных странах, в том числе и в Германии уже своим присутствием выполнял функции дипломата, можно считать образным выражением, то те, кто оставался в составе ГСВГ, а тем более сотрудники СВАГ, являлись по истине настоящими дипломатами. И если к проступкам, которые совершали только что вышедшие из боя солдаты местное население относилось в какой-то мере с пониманием и списывало их на счет специфики войны, то к поведению сотрудников СВАГ отношение немцев было особым.
Руководство СВАГ и Группы советских войск теоретически понимало, какой положительный эффект могут иметь личные контакты офицеров с немецким населением. Однако на практике, по существу, препятствовало их установлению из соображений «сохранения государственных и военных тайн». Однако главным соображением было сохранение идеологической «чистоты» советского человека. 19 мая 1945 года член военного совета 1-го БФ генерал К.Ф. Телегин в докладе Г.М. Маленкову отмечал следующее: «В настоящий момент, в связи с переходом войск фронта на мирное положение, наибольшую опасность представляет общение военнослужащих с немецким населением. В мирных условиях это общение будет значительно шире, чем во время войны. Есть опасность, что наши люди будут сживаться с немцами, что в этой обстановке у военнослужащих может выветриться чувство ненависти к немецким поработителям».[363]363
ЦАМО, ф.233, oп.24966, д.2, л.117–120
[Закрыть]
Лишь отдельные офицеры местных комендатур и системы органов информации пользовались возможностью более или менее широкого общения с немцами. Они, владевшие немецким языком и знавшие общую обстановку в стране, быстрее всех преодолевали тот «психологический барьер», который существовал у советских людей в первый период оккупации.
Это, разумеется, не значило, что не было исключений из правила. Так, вспоминает начальник управления информации СВАГ С. Тюльпанов, один майор, сотрудник комендатуры, вся семья которого погибла в годы оккупации, пожелал, чтобы его быстрее откомандировали из Германии для прохождения службы на родине. Он объяснил, что его отец и брат погибли на фронте. «Это я еще мог перенести, ибо война есть война. Но фашисты хладнокровно убивали стариков и детей. Этого я не могу забыть и не могу фашистам простить».
Был и такой случай. Офицер комендатуры просил перевести его в строевые войска и обосновывал свое решение следующим образом: «Я прошел всю Восточную Пруссию и дошел до Берлина и повсюду видел полные закрома зерна, стада упитанных коров, лошадей и других животных, красивые кирпичные дома в деревнях. Что же этим немцам нужно было у нас? Мое родное село под Витебском полностью сожжено, а я должен здесь помогать немцам восстанавливать их хозяйство и проводить разъяснительную работу. Я не в состоянии это делать».[364]364
S. Tjulpanow. Op. cit. S.41
[Закрыть] Конечно, в соответствии с требованиями воинских уставов такие офицеры должны были быть подвергнуты наказанию. Нередко так и было, но в большинстве случаев командование понимало их психологический настрой.
Чтобы предостеречь военнослужащих от соблазна получать от местных властей и частных лиц различные подношения и улучшить их материальное положение, еще в ноябре 1944 года постановлением ГКО № 6886 было решено, что на территории Германии оклады для личного состава Действующей армии устанавливаются в двойном размере. Выплата рейхсмарок или военных марок производилась в соотношении: 50 копеек за одну рейхсмарку (военную марку). Советскую валюту выдавать запрещалось. Это решение продолжало действовать и некоторое время спустя после войны.
В немецких руководящих кругах вызывал недовольство тот факт, что денежные оклады советских офицеров в сравнении с окладами немцев были непомерно высоки. Так, технический состав и переводчики органов СВАГ получали по 500–600 рублей, младшие офицеры получали по 800–900 рублей, а руководящий состав по 1000–1200 рублей. Президент же немецкого земельного управления в 1945 году получал меньше советского старшины.[365]365
SBZ – Handbuch… S.46
[Закрыть]
В Германии советский офицер мог за свое месячное жалование купить автомашину. Но по неписанным советским законам владение автомашиной являлось буржуазной роскошью. Поэтому все собственные автомашины в первые месяцы после войны должны были быть сданы в войсковые автобазы. Но с конца 1945 года офицеры имели право приобрести мотоцикл. С мая 1946 года автомашину могли приобрести только полковники и старшие по званию офицеры. Не разрешалось также военным носить гражданскую одежду. Чтобы сделать исключение для офицеров некоторых органов, потребовалось специальное разрешение маршала Г.К. Жукова.
Всем советским военнослужащим было строжайше запрещено иметь какие-либо внеслужебные контакты с немцами. Этот запрет был дополнительно подтвержден в конце 1946 года, затем усилен в следующем году, а в 1948-м, когда в Советском Союзе происходила оголтелая кампания против инакомыслия, особым приказом маршала Соколовского от 16 апреля он был еще более ужесточен. Советским гражданам запрещалось посещать немецкие рестораны, ночные клубы и театры. Но одновременно работникам СВАГ в 1947 году было предложено регулярно изучать немецкий язык. Непонятно только, зачем это нужно было, если контакты с населением запрещались.
В начале 1947 года Берлин посетил сам глава госбезопасности СССР Л.П. Берия.
Очевидно, возникла необходимость принятия новых мер по «политической стабилизации» советской зоны оккупации и усилению бдительности среди советских граждан. Именно об этом шла речь на встрече Берии с маршалом Соколовским и генералом Серовым. Итоги этих переговоров вскоре были налицо. Началась массовая чистка среди сотрудников СВАГ. Значительная часть фронтовиков, работавших в Германии с июня 1945 года, была отправлена на родину. Как справедливо писал перешедший на Запад советский майор Г. Климов, «любого советского человека, собственными глазами видевшего Европу, можно было считать потерянным для советского государства гражданином». Поэтому неудивительно, что советское руководство стремилось не допускать длительного пребывания своих граждан за границей, и состав сотрудников СВАГ поэтому менялся весьма часто. Эта «замена» производилась в возмутительно грубой форме применительно ко всем – от лейтенанта до генерала. Тем, кто после года-двух пребывания в Германии оказывался в отпуске на территории СССР, как правило, возвращаться назад запрещали. Даже если там остались члены их семьи, имущество или нерешенные вопросы.
Особенно пострадали офицеры еврейской национальности. Многим из них давалось 24 часа, чтобы собраться и отправиться на родину. Кто не соглашался, отправляли под конвоем на вокзал или в аэропорт насильно. На смену им прибывали часто партийные чиновники разных рангов с весьма сомнительными профессиональными качествами. Прокатилась волна арестов и среди немецкого населения зоны. Поводом для этого своеобразного советского варианта «хрустальной ночи» послужило бегство в американский сектор Берлина сотрудника Управления внутренних дел СВАГ, еврея по национальности.
Осенью 1946 г. в г. Штутгарте государственный секретарь США Бирнс произнес речь, в которой впервые после окончания войны проанализировал сложившуюся тревожную обстановку в мире. Он подверг критике некоторые внешнеполитические акции Советского Союза, на что Молотов ответил в речи по случаю годовщины Октябрьской революции. Эта речь была, по существу, инструкцией для деятельности СВАГ в условиях развертывавшейся тогда «холодной войны».
Партийным организациям учреждений СВАГ, руководство которых к этому времени было уже обновлено, предлагалось активизировать идеологическое воспитание сотрудников. Вводилась система партийной учебы, повышались требования к соблюдению трудовой дисциплины, вводились табели контроля за рабочим временем.
Кампания по усилению бдительности среди советских людей в Германии стала настоящей эпидемией. В Карлсхорсте сотрудники СВАГ жили как в осажденной крепости. Им постоянно внушали, что их окружают только враги и нужно быть постоянно начеку. Упоминавшийся выше майор Г. Климов рассказывал, как он представлялся заместителю Главноначальствующего СВАГ генералу Шабалину. Офицеру было сказано, чтобы он был предельно бдительным, так как все работающие в аппарате Контрольного совета сотрудники являются шпионами. Генерал запретил с ними знакомиться и вести какие-либо частные разговоры. «Больше слушайте, чем говорите, ибо у нас все стены имеют уши», – поучал генерал своего молодого сотрудника[366]366
Ibidem. S. 119
[Закрыть].
Между тем многим сотрудникам СВАГ становилось ясно, что их встречи с людьми Запада шли на пользу обеим сторонам. Запад видел реальный образ «гомо советикус», а они, в свою очередь, наблюдали воочию не только пороки, но и позитивные черты европейского образа жизни. У обеих сторон постепенно рассеивались иллюзорные представления друг о друге. На всем протяжении советской истории нас поучали смотреть на Запад как на постоянного и лютого врага. Но теперь-то мы были в гуще этих «врагов», хотя подлинные враги – активные нацисты уже сидели в тюрьмах.
На улицах немецких городов советские люди видели детей, родившихся в военные и в первые послевоенные годы. Дело в том, что все солдаты и офицеры вермахта пользовались правом ежегодного отпуска с поездкой в Германию, независимо от того, где они в данный момент находились – в Африке, в Норвегии или под Сталинградом. В Красной Армии так не баловали.
С 1947 года участились так называемые «несанкционированные» выезды или, по-иному говоря, бегства немцев Восточной Германии в западные зоны. Среди них было немало видных деятелей КПГ, СДПГ, других политических партий и организаций, крупных государственных деятелей и деятелей науки и искусства. Как свидетельствовал Вилли Брандт, с 1945 года советскую зону, а впоследствии и ГДР покинули почти три миллиона немцев[367]367
Вилли Брандт. Воспоминания. С.60
[Закрыть].
Что же касается поведения солдат и мер, принимавшихся командованием союзных армий, то они не особенно отличались от ситуации в Красной Армии. Более того, меры союзников в отношении немецкого населения в первый период оккупации были более жесткими, чем в советской зоне оккупации[368]368
Война и рабочий класс. 1945. № 10. С. 18
[Закрыть].
В общественном мнении США о немцах бытовали чаще всего крайние оценки – от утверждения о том, что нацизм был бедствием для Германии, и поэтому послевоенные немцы являются демократами «чистой воды» и самыми надежными союзниками США в Европе – до уверенности в том, что «немцам вообще нельзя доверять, ибо они по сути своей – прирожденные варвары».
Американский историк Дж. Фрейнд утверждал, что «для большинства американских военнослужащих и их семей год (или более), проведенный в Германии, является счастливой порой. У солдата из Монтаны или Джорджии гораздо больше с немцами, чем с французами и англичанами». Он пишет далее, что немец, как и американец, любит возиться с автомобилем, с наслаждением пьет пиво, разделяет пристрастие американцев ко всяким приспособлениям и техническим усовершенствованиям. Немцы считают, что их образ жизни весьма близок к американскому. Вместе с тем автор признает, что американские военнослужащие и гражданские чиновники в Германии жили колониями, в которых все было устроено по-американски, и они не соприкасались со скучной размеренной жизнью немцев. По его словам, у немцев отсутствовал дух добрососедства и сотрудничества, чувство общности интересов[369]369
Дж. Фрейнд. Германия между двух миров. М., 1962. С.5–6, 9
[Закрыть].
Как сообщал журнал «Америкэн» от апреля 1946 года, американские солдаты за время пребывания в Европе послали домой 60 млн. долларов, «заработанных» на черном рынке. В войсках были распространены венерические заболевания – болели 427 человек на тысячу солдат. Американские солдаты насиловали не только немок, но и своих соотечественниц, приехавших в Германию к мужьям. Во Франкфурте н/М был даже сформирован вооруженный отряд для их защиты.
В первый период оккупации союзное командование не обращало внимания на поведение своих солдат. Но 24 апреля 1946 года командующий американскими войсками в Европе генерал Дж. Макнэрни издал приказ, в котором потребовал ввести строгое казарменное положение, наказывать тех, кто несправедливо обращается с местным населением, ввести контроль за сохранностью оружия, запретить хождение солдат после одиннадцати часов вечера и ввести военные занятия. Комментируя этот приказ, журнал «Ньюсуик» от 6 мая 194 6 года писал: «Никогда со времени оккупации Юга солдатами Союза после гражданской войны армия США не показывала такого поведения, как сейчас в Германии».
Полковник С.И. Тюльпанов в своих мемуарах рассказывал об одном посещении виллы начальника британского военного управления Гамбурга сэра Бэрри. Хозяин показал советскому гостю богатую виллу и объяснил, что она принадлежала немецкому банкиру, с которым он до войны тесно сотрудничал. «Теперь я его поместил в домике моего шофера, но когда я окончу свою миссию, то верну прежнему хозяину его виллу со всем его комфортом». Это была правда. Уезжая на родину, сэр Бэрри из этой виллы ничего не прихватил с собой, кроме мелочи…пакета акций своего немецкого «друга» и конкурента.
В обязанность всех сотрудников СВАГ входило не только содействовать строительству новой Германии, но и разоблачать происки империализма и активно популяризировать «успехи социализма». Эта задача была не из легких и по своей сути весьма противоречивой. С одной стороны, победа Советского Союза над одной из самых высоко развитых стран мира – нацистской Германией – могла состояться только при наличии, по крайней мере, не менее мощной промышленной базы Советского Союза. И в этом, бесспорно, состояла заслуга победившей в 1917 году Октябрьской революции и правившей страной Коммунистической партии. Этот аспект облегчал задачу лекторов и усиливал их аргументацию в пользу «преимущества социалистического строя».
Но личные впечатления от советской действительности возвращавшихся домой сотен тысяч бывших немецких военнопленных и многих других немецких солдат и офицеров, побывавших на Восточном фронте, откровенные рассказы многих восточных рабочих, солдат и офицеров из советских оккупационных войск, да и наблюдения самого немецкого населения над состоянием дисциплины и порядка в войсках и даже униформы советских солдат высвечивали несколько иные аспекты социалистической страны. Немцы знали, в каком катастрофическом состоянии находился Советский Союз после завершения войны, и какой ценой он добился победы, видели ужасный быт советских людей, который был немыслим в любой европейской стране, сравнивали качество питания и состояние обмундирования американских и советских солдат, наблюдали за поведением прибывавших в Германию членов семей офицерского состава.
Чтобы в подобной ситуации завоевать доверие своих немецких слушателей, советские лекторы должны были быть безукоризненно честными и откровенными перед ними. Нельзя утверждать, что всем из них это удавалось и что это им позволялось. От сотрудников СВАГ, тем более, что большинство из них были коммунистами, требовалось, чтобы во всей своей деятельности включая и личную жизнь, они исходили из «классового подхода» к наблюдаемым явлениям и процессам. На политзанятиях требовалось, чтобы советские люди гордились своей военной историей, «жгуче ненавидели капиталистический строй, растленную буржуазную культуру, врагов человечества – поджигателей новой мировой войны». Была развернута борьба с «преклонением перед иностранщиной», в частности, перед немецкой медициной, киноискусством, условиями быта и т. д. В одном из политических донесений из Саксонии приводился «отвратительный пример, как советские женщины – пациентки одного дрезденского профессора – гинеколога оставили ему в книге отзывов буквально сотни самых восторженных комплиментов». Отчетно-выборные собрания коммунистов и комсомольцев использовались для демонстрации «преданности советских людей, находящихся вдали от Родины, Сталину и большевистской партии».
Вместе с тем немцам импонировали гуманизм советских людей, демократический характер взаимоотношений между офицерами и солдатами, способность русских быстро воспринимать иностранный язык, их любовь к музыке, танцам, умение понимать и уважать обычаи немцев. Немецкое население поражалось тому, что многие офицеры хорошо знали историю Германии, видных деятелей культуры и науки, искренне желали помочь немцам избавиться от фашистского наследия. Многие из них, будучи победителями, не страдали манией величия, уважали лучшие качества немецкого менталитета. Все это в комплексе создавало пока что незначительные, но благоприятные предпосылки для будущего примирения, хотя после войны прошло всего несколько лет, значительно подрывало нацистскую концепцию о русских, как о «неполноценном» народе.
Свою роль в воспитании немецкого населения именно в таком духе играли советские кинофильмы, которые демонстрировались на экранах кинотеатров Германии. Хотя эта роль тоже не всегда была однозначно положительной. Когда немцы видели показывавшийся в некоторых фильмах быт советских людей, в частности, наличие коммунальных квартир с легендарными кухнями, они в начале не понимали, о чем идет речь. Ведь в Германии такие квартиры оставались в прошлом. Немцы приходили к выводу, что по быту советские люди 40-50-х годов оставались на уровне Германии начала XX века.
Немцы исключительно тепло воспринимали любой акт внимания и уважения сотрудников СВАГ к памяти деятелей науки и культуры Германии. Так, 14 июля 1945 года начальник штаба 8-й гвардейской армии генерал В.А. Белявский приказал начальнику штаба 11-й танковой дивизии, дислоцированной в Веймаре, выставить круглосуточный пост для охраны архива Гете по улице Фрауенплац. Одновременно генерал Белявский приказал командиру 8-й истребительно-противотанковой артбригады выставить круглосуточную охрану в Августинском монастыре у кельи Мартина Лютера в Эрфурте[370]370
ЦАМО, ф.3412, оп.1, д.236, л.274
[Закрыть].
Неподдельное восхищение жителей Веймара вызвало мероприятие командования 8-й гвардейской армии по чествованию 195-летия со дня рождения И.В. Гете в августе 1945 года. В этот день колонна работников штаба армии во главе с генералом В.И. Чуйковым в парадной форме только что введенного нового образца униформы проследовала с оркестром по улицам города к городскому кладбищу, где покоится прах Гете и Шиллера. Стоявшие шпалерами по обе стороны улицы жители тепло приветствовали колонну, многие плакали от радости, восхищаясь тем, что победители так достойно чтут память великих представителей побежденной страны.
Пять лет спустя, когда исполнялось 200-летие со дня рождения Гете, маршал Соколовский издал специальный приказ, в котором было отмечено большое политическое и общекультурное значение юбилея. Приказ утвердил план мероприятий, разработанный немецким юбилейным комитетом, а органам СВАГ было приказано обеспечить реализацию касающейся их части этого плана.
Находясь в побежденной стране и встречаясь с народом, советские люди медленно, но твердо глушили в себе то чувство мести, к которому их призывали в ходе войны, и которое, как им тогда казалось, было необходимо для обеспечения победы. На место этого противоестественного чувства приходило сознание необходимости дифференцированного подхода к народу побежденной страны и работники СВАГ призваны наладить с ними нормальные цивилизованные отношения. Советские офицеры и солдаты не считали зазорным и унизительным для победителей устанавливать не только нормальные, но и дружеские отношения с немцами. Они первыми из оккупирующих стран стали практиковать различные спортивные соревнования с немцами и проигрыши в них рассматривали спокойно. Правда, в тех случаях, когда речь шла о личных или семейных контактах, где невозможен был какой-либо контроль со стороны советских спецслужб, последние запрещались командованием.
Следует подчеркнуть то обстоятельство, что простые советские граждане, находившееся в Германии, стали быстрее освобождаться от отрицательных стереотипов в отношении немцев, чем иногда это диктовала официальная политика советского руководства.
В заключение хотелось бы процитировать слова мудрого и многоопытного человека: «Я никогда не считал немецкий народ народом богов или поэтов и мыслителей. Но я никогда не считал его народом военных мундиров, марширующих в такт музыки. Нет, я рассматривал немецкий народ как людей в человеческой семье, как часть человечества, как людей, испытывающих затруднения, оказывающих влияние, хорошее и плохое, иногда заблуждающихся, но носящих в себе зерно, которое приведет их к правде. Это зерно приведет немецкий народ к возрождению. Он не сливки человечества. Ни один народ не имеет права считать себя сливками человечества. Но это зерно вернет немецкий народ в ряды человечества, идущего к светлому будущему».
Эти слова принадлежат известному датскому писателю Мартину Андерсену Нексе, и сказаны они были на партийном конгрессе, посвященном культурной политике СЕПГ в мае 1948 года. Помочь немцам обрести достойное место среди других народов были призваны и «дипломаты» – в солдатских шинелях с красными звездами на фуражках.