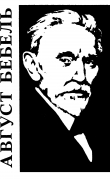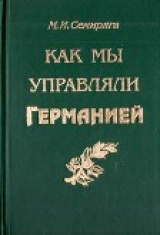
Текст книги "Как мы управляли Германией"
Автор книги: Михаил Семиряга
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Даже в 1949 году лишь половина из 800 тысяч немецких переселенцев осела в присоединенных восточных областях. Другая половина находилась в переселенческих лагерях на территории Германии. Масштабы эвакуации немецкого населения из крупных городов восточных областей представлены в следующей таблице.

К концу 194 4 года из-за бомбардировок из Берлина эвакуировались в провинцию Бранденбург, в Восточную Пруссию, Силезию и Западную Польшу (Варталанд) 1,5 млн. человек и в городе оставалось 2 83 7 тысяч человек против 4.339 тысяч, проживавших здесь в мае 1939 года[230]230
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, порт.25, п.8, л.66
[Закрыть]. В эти же области были переселены немцы, выехавшие из Волыни, Бессарабии и других районов.
Вторая волна насильственного переселения многих сотен тысяч немцев, проживавших в других странах, прошла в ходе отступления вермахта с оккупированных территорий. Так были выселены многие тысячи советских граждан немецкой национальности, проживавшие в районах Северного Кавказа, на юге Украины, на Волыни, в Ленинградской области, в республиках советской Прибалтики. Некоторые из них бежали сами, опасаясь наказания за содеянные злодеяния. Большие массы немцев были эвакуированы также из генерал-губернаторства Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Югославии, Эльзаса и Лотарингии и некоторых других стран и территорий.
Наконец, третья волна переселений охватила не только тех этнических немцев, которые уже были переселены в Восточную Пруссию и на аннексированные территории Польши, но и миллионы проживавших здесь имперских немцев. Фашистские власти путем запугивания и террора заставляли их лишь в последние минуты покидать насиженные места и в суровых условиях зимы 1944–1945 гг. уходить на запад, в Германию. Многие из них не выдерживали неимоверных страданий, голода и холода, но приказ Гитлера на этот счет был жесток, и местные гауляйтеры выполняли его, не считаясь с жертвами населения. Так, на запад ушло около 8 млн. немцев с восточных территорий Германии в границах 1937 года.
Министерство по делам изгнанных ФРГ признавало, что эвакуация из Восточной Пруссии в январе 1945 года происходила неорганизованно, имелось много обмороженных, случаев самоубийства. 30 января 1945 года на теплоходе «Вильгельм Густловр» на рейде порта Данциг погибло пять тысяч беженцев. Спровоцированное гитлеровцами бегство немецкого населения на запад, по справедливому определению немецкого историка Г.А. Якобсена, явилось самой трагической главой в германской истории. Для многих миллионов немцев переселение означало разрушение сложившихся жизненных устоев, потерю материальных благ, которые они создали усердием и трудолюбием или которыми они пользовались благодаря своему политическому и экономическому весу. А для многих это была потеря родины, где они родились и выросли.
В целом, в конце войны в немецких областях восточнее Одера-Нейсе (в границах 1937 г.), проживало 9,75 млн. немецких граждан. Кроме них в Данциге, Мемеле и в Польше проживали еще 2,14 млн. немцев. Это означало, что трагедию новых переселений уже в послевоенное время испытали на себе свыше 11 млн. человек. Кроме них следует учесть и те 1,5 млн. солдат, мобилизованных в вермахт из восточных областей, которые по возвращению с фронта также стали беженцами.
В ходе наступления советских войск из приграничных районов Восточной Пруссии в октябре 1944 года бежало свыше 600 тысяч жителей, то есть 25 процентов из общего количества. Они были эвакуированы в Саксонию, Тюрингию и Померанию. Таким образом, из 2 млн. 346 тысяч жителей Восточной Пруссии, проживавших здесь в марте 1944 года, к концу года оставалось 1 млн. 754 тысячи человек. Если еще учесть, что почти 500 тысяч человек было эвакуировано непосредственно накануне вступления советских войск в Восточную Пруссию в январе 1945 года, то во власти Красной Армии, по данным министерства по делам изгнанных ФРГ, оказалось около 100 тысяч немцев[231]231
SBZ – Handbuch… S.239
[Закрыть].
Анализируя приведенные выше данные, министерство считало, что из десяти млн. немцев, оставивших свое место жительства на Востоке, пять млн. были эвакуированы организованно немецкими властями, и эта акция является внутренним делом Германии. Однако остальные пять млн. немцев, проживавших вне пределов Германии 1937 года, были насильно изгнаны[232]232
Ibidem. S.241
[Закрыть].
Именно эти этнические немцы составили наиболее крупный контингент перемещаемых по решению Потсдамской конференции немцев, проживавших в немецких районах восточнее Одера и Западной Нейсе, в Польше, Чехословакии, Венгрии, Югославии и некоторых других странах. Немцы жили в этих странах с давних времен и не очень интегрировались в окружающую среду. Они всегда были верны своим обычаям и поддерживали тесные связи с родиной предков – Германией. И ничего зазорного в этом благородном деле не было до тех пор, пока шовинистически-реакционные силы, особенно нацизм, не предпринял попытки использовать этих людей в своих агрессивных политических целях как «пятую колонну».
На заседании Контрольного совета 20 ноября 1945 года был утвержден план перемещения этнических немцев из других стран. Но они практически явочным порядком до принятия плана стали выселяться с территории этих стран. В плане Контрольного совета предусматривалось, что немцы, выселяемые из Польши, принимаются советской зоной, а из Чехословакии, Австрии и Венгрии, распределяются по западным зонам. Предварительное распределение выселяемых немцев по зонам ориентировочно выглядело следующим образом: а) в советскую зону из Польши – два млн. человек, из Чехословакии – 750 тыс. человек; в британскую зону из Польши – 1500 тысяч человек; в американскую зону из Чехословакии – 1750 тысяч человек и во французскую зону из Австрии – 150 тысяч человек.
Однако реально уже к концу 1945 года на территорию советской зоны Германии были выселены из Польши и Чехословакии почти 2,5 млн. немцев, что составило свыше 17 процентов от численности всего населения зоны. В последующие годы численность переселенцев и беженцев в зоне стремительно росла и в октябре 1946 года уже составляла около 22 процентов, в октябре 1947 – около 24 процентов, в декабре 1948 – более 24 процентов, а к марту 1949 года она достигла 25 процентов от численности местного населения, то есть, 4 млн. 442 тысячи человек.
С целью упорядочения приема, учета и обустройства беженцев приказом СВАГ от 14 сентября 1945 года было создано Немецкое центральное управление по вопросам переселенцев. Соответствующие отделы были созданы и в земельных органах. Большинство переселенцев и беженцев на своей новой родине было занято в промышленности и в сфере услуг (34 процента), в сельском хозяйстве (29,5 процентов) и в общественной жизни (18,2 процента). К началу 1950 года из числа крестьян, получивших землю по реформе, свыше 40 процентов составляли «новые граждане». Так в соответствии с инструкцией центрального управления по вопросам переселенцев от 2 октября 1945 года стали именоваться прежние «беженцы».
Как следовало из официального заявления Молотова, сославшегося на доклад Контрольного совета Совету министров иностранных дел, за время до 1 января 1947 года из Польши было переселено 5.678.936 немцев, не считая тех, кто переселялся стихийно. Судя по данным польского правительства, заявил Молотов, на западных землях теперь находится около 5 млн. поляков и только 400 тысяч немцев.
Сведения о ходе выполнения плана Контрольного совета о переселении немцев по состоянию на 1 октября 1947 года (данные советской делегации в директорате Контрольного совета) приводятся в следующей таблице[233]233
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, порт.25, п.8, л.66
[Закрыть].


Поскольку перемещение и устройство огромных масс немецкого населения были сопряжены с большими финансовыми расходами, предоставлением жилья и работы, оккупационные и местные власти принимали переселенцев без воодушевления. Но эта неимоверно сложная проблема на протяжении нескольких следующих лет все же общими усилиями властей союзных держав и немецких органов была решена, и переселенцы смогли адаптироваться к новым условиям жизни.
В течение мая и в начале июня 1945 года из советской зоны оккупации в области восточнее Одера вернулось до 400 тысяч беженцев. Но позднее польские власти не только установили запрет на возвращение беженцев, но и изгнали практически всех немцев. Так, по данным министерства, послевоенное изгнание немцев из восточных районов осуществлялось следующими этапами.
Накануне Потсдамской конференции в июне-июле 1945 года из Восточного Бранденбурга, Восточной Померании и Нижней Силезии было выселено 250.000 человек.
Летом и осенью 1945 года из восточных областей, кроме советской части бывшей Восточной Пруссии – 400 тысяч человек.
В 1946 году – из Силезии, Восточной Померании и польской части бывшей Восточной Пруссии – 2 млн. человек.
В 1947 году – из всех польских областей и из советской части бывшей Восточной Пруссии – 500 тысяч человек.
В 1948 году – из советской части бывшей Восточной Пруссии – 150 тысяч человек.
В 1949 году – из советской части бывшей Восточной Пруссии и Польши – 150 тысяч человек.
В течение 1950–1951 гг. было дополнительно выселено еще 50 тыс. человек. Итого, за пять первых послевоенных лет из восточных районов Германии было выселено 3.500 тыс. немцев[234]234
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten ostlich der Oder-Neisse. Bearb. von Th.Schieder. Band I/1. Hrsg. vom Bundesministerium für Vertriebenen. Bonn, 1955. S. 155e
[Закрыть].
Движение немцев, проживавших в восточных районах в конце 1944 и к лету 1945 года, представлено в следующей таблице[235]235
Ibidem. S.78e
[Закрыть].

В упоминавшейся выше книге министерства по делам беженцев ФРГ приводятся также следующие данные о человеческих жертвах в восточных районах в ходе и вследствие выселений в 1939–1950 гг.

Авторы считают, что если из 2.167 тысяч погибших исключить умерших в советском плену и погибших в боях солдат (500 тыс.), жертвы воздушных бомбардировок (50 тыс.), то чистые потери во время изгнания составят 1,6 млн. человек, то есть 15,8 процентов от всего населения этих районов в конце войны[236]236
Ibidem. S.79e-80e
[Закрыть].
Документы и свидетельства очевидцев подтверждают, что переселение часто сопровождалось бесчинствами со стороны многих жителей и властей, откуда немцы обязаны были выехать, особенно Польши и Чехословакии.
Немцы проживали в Польше преимущественно в Гданьском, Приморском, Познаньском и Силезском воеводствах. Когда началось их переселение в Германию, польские власти сняли с себя всякую заботу об их снабжении и медицинском обслуживании. Этими вопросами занимались советские военные коменданты. Немцы должны были следовать до р. Одер пешком и могли брать лишь 20 кг клади. Разные авантюристические бандитские группы грабили и терроризировали их в пути. Я был сам свидетелем тому, как группы немцев-выселенцев прижимались к колоннам советских войск, следовавших в Германию, прося у них защиты. Нередко реакционные элементы из польской полиции арестовывали возвращавшихся из концлагерей немецких коммунистов, обвиняя их в «коммунистической пропаганде».
Начальник ГлавПУ Красной Армии генерал И.В. Шикин докладывал Сталину 3 октября 1945 года о трудном положении, в котором оказались этнические немцы на территории Польши. Так, в городе Вроцлав польские власти выдавали хлеб лишь немногим из проживавших там 200 тысяч немцев. Нередко власти, писал далее Шикин, сами были организаторами грабежа немецкого населения. Немцам предоставлялось на сборы только полчаса времени. Была запрещена деятельность немецких антифашистских организаций. Подвергались аресту немецкие коммунисты, причем зачастую им ставилось в вину сотрудничество с советскими органами. Польские власти возражали против того, чтобы советские органы вели какую-либо работу среди немцев, требовали закрыть советскую газету на немецком языке. Как сообщил один немецкий шахтер, польские власти разрешили немцам собирать урожай на заминированных полях. Немцы обезвредили 12 тысяч мин и собрали для себя пять тысяч центнеров хлеба. Но явилась польская милиция и реквизировала зерно.
При выселении немцев из Чехословакии также наблюдались случаи жестокого обращения с ними. Обычно вечером чехословацкие войска оцепляли определенный район и после проверки документов собирали всех немцев на сборные пункты. Разрешалось брать лишь личные вещи весом до 50 кг, золото (кроме подвенечных колец) и другие ценные вещи изымались. Немцы могли брать только по 200 немецких марок на человека. Нередки были случаи избиения немцев.
Немцы жаловались советским военным комендантам, находившимся в Судетской области, но их вмешательство вызывало протесты местных властей. После убийства чехословацкого часового в городе Усти местный начальник гарнизона подполковник чехословацкой армии Лоба арестовал 53 немца и приказал расстрелять каждого десятого, пока не будет найден виновник. Когда советский комендант майор Шилов упрекнул его в несправедливости этого решения и предложил провести расследование, Лоба ответил: «Вы нам не мешайте расправляться с немцами». Советские военнослужащие нередко становились на сторону немцев, что вызывало недовольство польских и чешских властей. Поэтому начальник штаба советских оккупационных войск в Германии генерал-полковник Л.А. Малинин от имени маршала Жукова 26 июня 1945 года вынужден был распорядиться, чтобы советские военнослужащие не вмешивались и не чинили никаких препятствий действиям польских и чехословацких властей.
Перемещение миллионов людей в послевоенный период в Европе, стало вторым в ее истории «великим переселением народов». В ходе его больше всего пострадали немцы. Но в отличие от средневекового переселения, вторым управляла СВАГ в сотрудничестве с западными оккупационными властями и немецкими органами самоуправления. Эту огромную работу советскому командованию надо было осуществлять одновременно с мерами по демобилизации сотен тысяч солдат и офицеров старших возрастов Действующей Красной Армии и другими не менее сложными мероприятиями.
После этой трагедии миллионов мирных граждан прошли десятилетия. Старшее поколение уже покинуло этот мир, а молодое успело адаптироваться к условиям своей новой родины. Но дискуссия о правомерности этих переселений продолжается и поныне. Наиболее радикальной позиции в этом вопросе придерживался министр западногерманского правительства по делам беженцев в первые послевоенные годы К. Лукашек. Он считал, что выселение немцев из других стран как «уникальная в мировой истории неправовая акция» стала более преступной, чем вина немцев во второй мировой войне.
Разумеется, нельзя не сочувствовать этим людям (хотя миллионы борцов отдали свои жизни в борьбе с фашизмом). Но всегда нужно помнить, что многих из этнических немцев, проживавших в других странах, нацистам удалось превратить в свою «пятую колонну», причинившую немало зла народам, среди которых они жили. И по требованию этих народов союзники вынуждены были принять это исключительное решение.
В ряде статей, опубликованных в ФРГ, и поныне утверждается, что со времени вступления союзных войск на территорию Германии осенью 1944 года война со стороны Германии будто бы приобрела «оборонительный» характер, ибо перед немецкими солдатами стояла тогда задача «воспрепятствовать разгулу мести Красной Армии» и «уберечь немецкое население от надругательства озлобленных советских солдат». Если верить авторам, то именно этими соображениями и руководствовались местные нацистские власти и войска вермахта, действовавшие в восточных районах Германии против наступавших советских войск. Но выше уже упоминалось, что подтверждают и другие немецкие авторы, что в восточных районах Германии гражданского населения погибло больше не вследствие боевых действий и действительно имевших место эксцессов со стороны советских солдат, а в результате преступных приказов местных гауляйтеров. Немало немцев погибло от рук эсэсовцев, так как они отказывались эвакуироваться, а тем более за вывешивание белых флагов при подходе советских войск.
В цитированной выше публикации министерства по делам беженцев приводятся также данные о депортации немецкого населения, которую осуществляли советские власти в районах восточнее Одера и Нейсе. С конца января по конец февраля 1945 года в Советский Союз было депортировано 318 000 человек. В книге не приводятся данные о депортациях в полосе 1-го Украинского фронта.
Авторы публикации дают следующую оценку этой акции советских властей: «В отличие от случаев убийств или других актов насилия, и эксцессов, которые в значительной мере являются следствием действия отдельных советских солдат и офицеров, насильственная депортация мирного населения из районов Одера и Нейсе свидетельствует о систематической акции, которая была запланирована советским руководством и осуществлялась военным командованием на всех трех фронтах, действовавших восточнее Одера и Нейсе»[237]237
Ibidem. S.79e
[Закрыть]. Так случилось в эти ужасные годы, что нацистская верхушка посеяла ветер, а народам, в том числе и немцам, пришлось пожинать бурю.
В те трудные первые послевоенные годы органом СВАГ пришлось уделять большое внимание репатриации освобождаемых советских военнопленных, «восточных рабочих» и граждан других стран, угнанных на работу в Германию, а также возвращению на родину военнопленных союзных и вражеских армий. К концу войны на территории Германии и Австрии насчитывалось около 14 млн. союзных военнопленных и насильно угнанных мирных граждан из многих стран, в том числе свыше 6 млн. человек из Советского Союза, из них 4.978 тысяч были «восточными рабочими»[238]238
Нюрнбергский процесс. Т. I, М., 1957 С. 126
[Закрыть].
Проблема военнопленных во всех войнах прошлого была сложной и касалась судеб миллионов солдат и офицеров. Достаточно напомнить такие цифры: если во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. с обеих сторон находилось в плену 400 тысяч человек, а в первую мировую войну – 8.400 тысяч человек, то за годы второй мировой войны воевавшие стороны взяли в плен, по некоторым данным, около 35 млн. солдат и офицеров противника[239]239
Die deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien 1941–1949. Band I/1, München, 1962, S.X
[Закрыть].
Международное право серьезно занималось проблемой военнопленных. Гаагская конвенция 1899 г. гласила: «Исключительной целью военного плена является воспрепятствование дальнейшему участию пленных в войне… Хотя военнопленные теряют свою свободу, но не теряют своих прав. Другими словами, военный плен не есть более акт милосердия со стороны победителя – это право обезоруженного». А в приложении к Конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны говорилось: «Военнопленные находятся во власти неприятельского правительства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен»[240]240
Нюрнбергский процесс. М., 1958 Т. 3. С.8
[Закрыть].
Что касается советских военнопленных, то они составляли самую многочисленную категорию солдат и офицеров воевавших армий, оказавшихся в плену противника. По данным германского верховного командования, с 22 июня 1941 года по февраль 1945 года в немецком плену пребывало 5 734 528 советских солдат и офицеров[241]241
G.R.Ueberschar/W. Wette. «Unternehmen Barbarossa». Der deutsche Uberfall auf die Sowjetunion 1941. Padebom, l984. S. 198
[Закрыть]. Из них во «вспомогательных частях» вермахта и «восточных войсках» служили, по немецким данным, более миллиона человек[242]242
Ch. Stpeit. Keine Kameraden. Stuttgart, 1978. S.244
[Закрыть].
Таковы внушительные данные о количестве советских военнопленных, выведенные немецкими исследователями из сводок германского верховного командования. Однако не все из этих данных заслуживают доверия – некоторые данные превышают общую численность советских войск, участвовавших в той или иной операции (например, в Киевской 1941 г.). В другие данные включались не только военнопленные, но и молодые гражданские лица, отступавшие вместе с войсками, и взятые в плен. А в некоторых находившихся в блокаде и затем занятых городах в списки военнопленных включалось, по существу, все гражданское население (например, Севастополь)[243]243
Новая и новейшая история. 1992 № 3, С.222
[Закрыть].
На допросе в 1945 году бывший начальник отдела военнопленных Данцигского военного округа генерал К. Остеррайх показал, что в подчиненных ему лагерях на Украине одновременно с военнопленными содержались до 20 тысяч гражданских заложников из ряда районов Украины, охваченных партизанским движением[244]244
Военно-исторический журнал. 1991 № 3, С. 39–40
[Закрыть].
Каково же было действительное количество советских воинов, оказавшихся во вражеском плену? В докладной записке «О потерях личного состава Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», разработанной специальной комиссией под руководством генерала М.А. Гареева и опубликованной в 1992 году, эти данные таковы: из общих безвозвратных потерь Красной Армии, пограничных и внутренних войск НКВД в 1941–1945 гг., составляющих 11 440 100 человек, пропало без вести и попало в плен – 4 559 000 человек. Из этого количества после освобождения вновь было призвано в армию 939 700 человек, 1.836 тысяч человек вернулись из плена после окончания войны, а 673 000 человек (по немецким данным) погибли в плену. Таким образом, достоверные данные имеются о 3 448 500 военнопленных и неизвестна судьба 1 110 500 военнослужащих. Из приведенных и других данных комиссия сделала вывод, что в немецком плену было примерно 4 млн. советских военнослужащих[245]245
Новая и новейшая история. 1992 № 3, С.223
[Закрыть].
Репатриация огромного количества освобожденных из плена советских солдат и офицеров оказалась для советского командования всех степеней новой и необычной, хотя и ожидаемой задачей. В январе-марте 1945 года на главном стратегическом направлении действий советских войск – на территории западных районов Польши, репатриация проходила стихийно. Советские военные власти не были еще подготовлены к решению этой масштабной и сложной задачи. Достаточно сказать, что соответствующая директива Генерального штаба была подписана только в конце января 1945 года, а командованию 1-го Белорусского фронта она поступила только 2 февраля 1945 года, когда войска уже форсировали р. Одер и освобождали многие лагеря на территории Западной Польши. Директива начальника тыла этого фронта была получена в войсках в конце февраля. Таким образом, лишь в марте 1945 года началась планомерная работа по организации репатриации, создавались лагеря репатриантов, сортировочно-пропускные пункты (СПП) и комендатуры. В армиях создавались свои сборные пункты. Этими мерами было несколько приостановлено стихийное движение десятков тысяч обездоленных людей на восток.
С выходом войск фронта на реку Эльбу перед органами по репатриации встала новая задача – прием советских граждан, освобожденных западными союзниками, и передача военным властям союзников их освобожденных граждан. Соответствующий приказ военного совета 1-го Белорусского фронта был подписан 1 2 мая 1945 года. К этому времени между Одером и Эльбой было собрано и зарегистрировано около 200 тысяч бывших военнопленных и гражданских лиц.
Если за период с января по март 1945 года было собрано 83.536 советских граждан и 13.304 иностранцев, предназначенных для репатриации, то в ходе апрельского наступления к Эльбе было учтено 217 604 советских гражданина.
Вспоминаю, как первые дни и недели после войны во время служебных поездок по Восточной Германии я видел тысячи американских «Студобеккеров», доставлявших моих соотечественников в нашу зону. Через некоторое время эти машины возвращались на запад с освобожденными гражданами почти всех стран Европы. Кроме того от зональной границы на восток двигались колонны десятков тысяч мужчин, женщин и даже детей, со слезами на глазах приветствуя встречавшихся им по пути советских солдат. Люди двигались преимущественно пешком, некоторые со своим тощим скарбом – на подводах и велосипедах. Все торопились на Родину. Как она их встретит, никто не знал. Эти несчастные люди спрашивали нас, неужели Родина поступит с ними так, как твердила пропаганда нацистов и отдельные союзные офицеры?
Но до Родины им было еще далеко, впереди их ждали переселенческие лагеря, бесчисленные допросы офицеров безопасности, угрозы, унижения и оскорбления.
На 1 августа 1945 года в советской оккупационной зоне уже насчитывалось 86 лагерей, 18 комендатур, сортировочно-пересыльных пунктов и 6 приемно-передаточных пунктов, в которых ожидали репатриации 615 тысяч советских граждан и 112 тысяч иностранцев. В соответствии с постановлением военного совета ГСОВГ около 300 тысяч человек из них использовались на демонтаже предприятий, на полевых работах и в подсобных хозяйствах воинских частей, а более 10 тысяч работали в качестве вольнонаемных в войсках[246]246
АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, порт.25, п.8, л. 17
[Закрыть].
В первые недели и даже месяцы после освобождения советские репатрианты испытывали большие лишения, вызванные объективными причинами или нераспорядительностью органов по репатриации. Отдел репатриации фронта и несколько групп, прибывших из Москвы от Уполномоченного СНК по делам репатриации не могли справиться с этой работой. Ведь к 6 июня в советской зоне уже было сосредоточено более миллиона советских репатриантов. В справке Уполномоченного по репатриации признавалось, что «отсутствие хотя бы элементарно оборудованных лагерей для приема этих людей создавало большие трудности в деле обеспечения этих людей и вызывало законное недовольство со стороны возвращающихся на Родину советских и иностранных граждан. Были нередки случаи, когда люди в дождливую погоду вынуждены были находиться под открытым небом или ютиться на чердаках; не получали горячей пищи по несколько дней и даже хлеба; не получали своевременно медицинской помощи. Как правило, в лагерях одновременно находилось по 8-10 тысяч, а в отдельных лагерях по 25–30 тысяч человек». Из-за отсутствия транспорта репатрианты вынуждены были жить в таких условиях по два и более месяцев.
Большинство из назначенных на службу в систему репатриации около 8 тысяч строевых офицеров и политработников относились к этой работе безразлично и без желания, не имели никакого опыта. Некоторые из них огульно обвиняли всех репатриантов в измене Родине, запугивали их тяжкими наказаниями, изымали ценные вещи, пьянствовали, принуждали женщин к сожительству. Все это угнетало и подавляло репатриантов. Имелось несколько случаев побегов из лагерей и самоубийств, особенно из среды военнопленных. Лишь за сентябрь 1945 г. по всем лагерям зоны отмечалось 28 самоубийств. В оставленных записках они осознавали свою реальную или мнимую вину перед Родиной в тяжкий для нее период.
Так, в лагере № 357 бывшая военнопленная фельдшер 686-го отдельного медсанбата 276 стрелковой дивизии Зовина Е.А., повесилась, оставив записку, адресованную своей подруге Новиковой М.П., проживавшей в с. Лошковна в Кировоградской области. В записке она писала: «Я не могу простить себе моего идиотского отношения к родине в такой тяжелый период, когда наша страна, только что закончив войну с проклятой Германией, воюет с Японией. Если я помру, то прошу похоронить меня одетой. Родным моим передайте привет и прошу не издеваться над ними, так как они преданы Советской власти и правительству. Девушки, другого исхода у меня нет кроме смерти, так как я опозорилась перед всеми медиками, поставила себя в виде нищей. Я поняла, что я сделала большую ошибку перед родиной, но исправить ее уже поздно. Собаке – собачья смерть». В служебном отчете работника по репатриации этот случай комментируется так: «В чем ее вина перед Родиной – выяснить не удалось. Но несомненно, что это явилось результатом нечуткого отношения к ней работников лагеря».
В знак протеста против произвола и угроз расправой на родине отдельных работников проверочно-фильтрационных комиссий и «СМЕРШ», а также из-за недовольства господствующим в СССР сталинским режимом некоторая часть репатриантов отказывалась возвращаться домой. Так, Полевая А.М. из лагеря N 218 говорила: «Я не жалею, что побывала в Германии. Здесь я приобрела одежду, часы и увидела западно-европейскую культуру, которую в России не увидишь. Я бы с большим удовольствием осталась жить в Германии». О зверствах немцев она отмечала, что «они убивали тех, кто боролся против них. Я им ничего такого не сделала и они меня не тронули». Репатриант лагеря № 211 Колодяжный Ф.Т., раскулаченный в свое время по ст.58 УК РСФСР, говорил: «На родину я никогда не поеду. Германия – это моя освободительница».
Особенно подавленное настроение отмечалось у репатриантов из Прибалтики и западных областей Украины. На вопрос офицера по репатриации простой малограмотной украинской девушке, почему она не хочет возвращаться домой, последовал такой ответ: «А чего я туда пойду, там нэма демократии». Но, что такое «демократия», ответить она затруднилась. Один украинский парень в беседе спросил офицера, знает ли он, кто такой Бандера. На ответ офицера, что Бандера – это бандит, помогавший немцам, а сейчас агитирует украинцев не возвращаться на родину, парень, подумав, ответил: «А може ж и ни?».
В первые недели после окончания войны многие репатрианты занялись бандитизмом и грабежами. Они считали своим правом мстить немцам за страдания в плену и на тяжелых работах. «Считалось обычным явлением, – отмечалось в отчете одного из работников по репатриации, – остановить немца, отобрать у него велосипед, часы или же зайти к нему в дом, взять личную одежду – это делали даже девушки».
Не в лучшем положении находились и иностранные репатрианты, собранные в лагерях № 211 и 226, и именовавшиеся «спецконтингентом». Вот что установила комиссия, проверявшая эти лагеря: «Только в начале 1946 г. обращено внимание и отменен тюремный режим в лагерях № 211 и 226. Там держали в закрытых камерах, находились в помещении тюрьмы, на прогулку 30 минут, запрещали разговаривать – после этого давали газеты, игры, худ. самодеятельность. После уменьшалось количество самоубийств и попыток к побегам. В последний период они получали из своих стран литературу, размещались обособленно. Каждая нация избирала свою администрацию, полицейских. Отношение вежливое, кормили по норме № 2, оставляли хорошие отзывы и благодарности».
По результатам проверки девяти лагерей для советских и зарубежных репатриантов Главнокомандующий ГСОВГ маршал Жуков подписал приказ № 011 от 19 июня 1945 г. В нем отмечались многочисленные случаи безобразного отношения к репатриантам со стороны ряда должностных лиц. Начальникам тыла 8-й гвардейской армии генерал-майору Похазникову и 33-й армии генерал-майору Плетнеру были вынесены выговоры. В новом приказе № 082 от 23 августа 1945 г. Жуков потребовал во всех армейских лагерях создать 30-суточный запас продовольствия, два раза в день репатриантам выдавать горячую пищу, создать отдельные детские кухни и обеспечить их молочными продуктами и белым хлебом.
К репатриируемым советским гражданам и прежде всего к военнопленным особый интерес, естественно, проявляли органы НКВД/МВД. По распоряжению генерал-полковника Серова для «фильтрации» советских граждан при каждом лагере создавались проверочно-фильтрационные команды (ПФК) численностью от 30 до 50 человек каждая. Особенно тщательно они проверяли и изымали из основной массы репатриантов бывших военнопленных, которые служили в национальных легионах и войсках РОА на стороне вермахта. Имея неограниченную и неконтролируемую власть над судьбами репатриантов, сотрудники контрразведки нередко входили в конфликт с военными комендантами лагерей. Часто реальные или надуманные сведения о массовых арестах в лагерях советской зоны доходили до советских репатриантов, находившихся в западных зонах, что также создавало немалые трудности в принятии ими решения вернуться на родину.