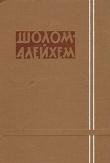Текст книги "Жизнь как квеч. Идиш: язык и культура"
Автор книги: Майкл Векс
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
II
Бобе-майсе и прочие россказни можно отмести, сказав: «А нехтикер тог» – «Ерунда, ничего подобного» (дословно – «вчерашний день»). Если вы рассказываете учителю, что несли в школу домашнее задание, как вдруг из ниоткуда возник Иисус Христос, вырвал тетрадь у вас из рук и вознесся на небо, – учитель, скорее всего, посмотрит на вас и скажет: «А нехтикер тог! Расскажи кому другому!»
Докопавшись до источника этих слов, можно увидеть, как в идише проявляется еврейский характер. Пятый стих псалма 89-го, читаемого в шабат и на праздники, гласит: «Ибо тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он». В тайч{18} – идишском переводе священного текста, напечатанном параллельно с оригиналом, – «день вчерашний» превратился в «а нехтикер тог».
Пока что все понятно, но откуда появилось значение «ерунда»? Смысл стиха в том, что даже человек, проживший тысячу лет, перед лицом Бога – всего лишь пишер («сосунок»), такой же незначительный, как для нас – минувший день. Как мы знаем от Битлов, «вчера» прошло, оно уже не залезет и не взлетит обратно. Далее псалом сравнивает человеческую жизнь со сном, с травой, живущей один день. Так и придуманное вами оправдание: в ваших мыслях оно цветет пышным цветом, но стоит произнести его вслух – вянет, превращается во «вчера».
В идише много цитат, подобных нехтикер тог, – они пришли из Библии или раввинистической литературы, но их происхождение скрыто под славянской или германской оболочкой. Обратите внимание, что приобретенное значение – «фигня» – не осквернило священный текст из псалма. Наоборот, таким образом святое вплетается в повседневную жизнь. Где-то в глубинах языка, вне сознания говорящего, кроется образ Бога, который с грустной снисходительной улыбкой смотрит вниз – на тщеславные человеческие стремления. Идиш – это язык, в котором вопль «Фигня!» может стать способом толкования библейских текстов.
III
Но идиш не ограничивается толкованием Библии. Его жизненная философия, выросшая из талмудической логики, применима абсолютно ко всему. Возьмем, к примеру, фразу ѓакн а чайник («стучать по чайнику»). Чаще всего она употребляется в отрицательной форме – ѓак мир ништ кейн чайник («не стучи мне по чайнику»). Это означает: «Хочешь болтать – болтай. Но будь добр, прекрати талдычить об одном и том же».
Когда еврейские родители говорят детям: «Не стучи, не тарабань, не колоти мне по чайнику!» – те удивляются ходу родительских мыслей. И каждое новое поколение разочаровывается, поняв, как все просто на самом деле. Представьте себе чайник с крышкой. Вы наливаете в него воду, закрываете, зажигаете огонь, выходите позвонить – и напрочь забываете о нем. Чем сильнее кипит вода, тем громче дребезжание. Чем меньше содержимого, тем больше шума. Крышка раз за разом подскакивает и падает, совсем как челюсть болтуна – клац-клац, а все без толку; ѓак мир ништ кейн чайник, не колоти мне по голове, как крышка – по пустому чайнику.
Образ получился настолько ярким, что ѓакн а чайник стало одним из самых популярных идишских выражений. Миллионы евреев и неевреев узнали его из скетчей комического трио Three Stooges{19} («Три придурка»). Мо собирается в ломбард (на английском – hockshop); Ларри, узнав об этом, говорит: «Как будешь там, заложи мой чайник» (hock me a tshaynik). Когда Stooges объявляют в розыск, заподозрив их в похищении ребенка, Ларри переодевается в китайца из прачечной. Полицейский спрашивает его: «Китаец? Какой такой китаец?» В ответ Ларри начинает тараторить на идише. Его речь начинается так: «Их бин а китайский парень фун[11]11
«Я – китайский парень из…»
[Закрыть] Нижний Ист-сайд»{20}, а кончается: «Эфшер[12]12
«Может быть».
[Закрыть], ты еще не понял – ѓак мир ништ кейн чайник».
Во многих семьях детям запрещали смотреть это шоу, поскольку Stooges подбивали друг другу глаза, тянули за нос, раздавали оплеухи; в моей же семье их поведение считалось образцовым. Моих родителей беспокоило другое – идиш, на котором говорили герои, иногда был слишком непристойным – особенно когда Мо наряжался Гитлером. Благодаря Stooges, Ленни Брюсу и ранним выпускам журнала Mad{21} миллионы детей, родившихся после Второй мировой войны, познакомились с идишем и его философией. Вопль «Не стучи мне по чайнику!» будто бы сошел со страниц Mad.
По чайнику стучали не только СМИ. Когда мы жили на юге Канады, в Альберте, кто-то из сердобольных соседей – наверно, ночью – подложил в наш ящик для молочных бутылок{22} Новый Завет на идише, чтобы показать, чего нам не хватает для полного счастья. Как известно, Первое послание к Коринфянам апостола Павла гласит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1). Так вот, в этом переводе Нового Завета «медь звенящая» выглядела так: «…ѓак их нор а чайник» («я лишь стучу по чайнику»). Я, конечно, понял, что Павел имел в виду, – но кому нужна Библия, написанная языком бобе? Послание Павла мне в один пейс влетело – ин дер линкер пейе («в левый пейс»), – а из другого вылетело; до ушей оно так и не добралось.
IV
В предыдущих полутора главах мы познакомились с выражениями ништ гештойгн ун ништ гефлойгн, а нехтикер тог, ѓакн а чайник, ин дер линкер пейе. Из них можно сделать вывод – в идише три основных источника метафор, а именно: окружающие явления, буквальные значения слов, религия и традиции. Давайте рассмотрим подробнее каждый из этих источников.
Окружающие явления
Слава Богу, изобретатель парового двигателя Джеймс Уатт не был евреем. Подпрыгивающая на чайнике крышка работает по тому же принципу, что и паровой двигатель, – но, в отличие от двигателя, она не приносит никакой пользы. Ни один еврей не создал бы мультфильм о дребезжащем чайничке из Ромашкова. Умный шотландец посмотрел на пар от кипятка и придумал паровоз; такой же умный еврей посмотрел на такой же пар и принялся жаловаться на нытиков, которые жалуются.
Уатт сформулировал принцип и расширил область его применения; еврей заметил сходство между двумя процессами (на первый взгляд несопоставимыми) и описал один из них с помощью другого. Способность увидеть общие черты в разных вещах – основа образного мышления. И чем менее очевидно сходство, тем ярче метафора. Поэтому не стоит размениваться на простенькие жалобы вроде «ах, как я страдаю» или «смерть – мой единственный выход», ведь можно придумать квеч поинтереснее – например, лигн ин др’эрд ун бакн бейгл («лежать в земле и печь бублики»).
Это одновременно и квеч, и постановка задачи. Отличный пролог к любой жалобе. Не знаю, почему нужно печь именно бублики, но лигн ин др’эрд означает «быть мертвым» или, если речь идет о делах, «обстоять хуже, чем хотелось бы». Если вы встречаете знакомого и говорите: «Привет, Мойше. Как бизнес?», а Мойше отвечает «Ин др’эрд» – значит, его бизнес покоится с миром, можете отсидеть шиву{23} по нему. Можно сказать кому-то «Иди ин др’эрд» – это идишский аналог «иди к черту».
Однако в поговорке про бублики ин др’эрд явно обозначает конкретное местонахождение. Мало того что вы умерли, вам еще и предстоит целую вечность работать пекарем в пекле. Поскольку вы умерли, то вам незачем есть бублики, некому продавать их – ведь под землей можно общаться только с другими мертвецами, а им тоже незачем есть и нечем платить. Кроме того, они все заняты, поскольку тоже пекут эти чертовы бублики и не могут от них избавиться.
Вот вам еврейский миф о Сизифе. Но Сизиф – грек. Он толкает камень, тот скатывается обратно. Он толкает, камень скатывается. Сизиф, по крайней мере, накачивает мускулы. А еврей даже после смерти не находит покоя – вокруг лишь новые поводы для жалоб.
Своей изысканностью поговорка напоминает проклятия, которыми так славится идиш. Например: «Але цейн золн дир ойсфалн, нор эйнер зол дир блайбн аф цонвейтик» («Чтоб у тебя все зубы выпали, только один остался и разболелся»). Причем здесь не сказано, что зубная боль начнется сразу же. Нет, этот единственный зуб останется в качестве залога. Он разболится только тогда, когда автор проклятия будет готов нанести удар. Как говорится, а клоле из ништ кейн телеграм – зи кумт ништ он азой гих («проклятие – не телеграмма, оно не приходит так быстро»). Про́клятый бедняга может сидеть, ждать, волноваться – и, если повезет, умереть от сердечного приступа до того, как зуб заболит. Выходит, он сам все испортил, сам довел себя до гибели.
В идише заложен этот диалектический процесс, одновременно превращающий человека и в жертву, и в виновника собственных несчастий. И отчасти поэтому идиш считается языком изгоев, который евреи должны забыть, как только вернутся на свою землю. Некоторые идишисты считают, что сионисты враждебно относятся к идишу из-за незнания языка или неверного представления о нем, – но для большинства первых израильских политиков идиш был родным языком. Государственные деятели чувствовали, что язык, пропитанный идеей «мы – жертвы», будет мешать формированию нового еврейского характера, свободного от рамок гетто. Они были бы в ужасе, если бы на израильском гербе красовалась свирепая изжога на фоне жареной грудинки с надписью «Золст онкумен цу майн мазл» («Чтоб у тебя было такое же счастье, как у меня»).
Эти политики отстояли свои позиции, но идиш все-таки настиг их. Поистине странно воплотилась в жизнь фраза лигн ин др’эрд ун бакн бейгл: Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, был посмертно обращен в мормонизм{24}.
А еще через неделю у него разболелся зуб.
Буквальное значение слова
Вспомните, как студенты называют «хвостом» зачет или экзамен, не сданный в срок: сила метафоры зависит от того, насколько человек способен уловить подобие между буквальным и переносным значениями слова.
В идише, где почти любое существительное или глагол легко превратить в оскорбление, подобных случаев очень много. Слово клоц («деревянный брус», «чурбан») пояснений не требует. Совсем безнадежного идиота могут обозвать гломп («кочан капусты»), бесхарактерного человека – лемешке («каша»).
Разумеется, это явление встречается во всех языках, но только в идише могло появиться выражение, подобное клоц-каше. Означает оно «тупой вопрос» – настолько тупой, что может (хотя бы на время) положить конец любому спору. Как мы уже знаем, клоц переводится как «чурбан». Каше – «вопрос», но не простой, а запутанный, требующий долгих разъяснений (это слово произошло от ивритского «трудный», не путайте его со славянизмом каше – «[гречневая] каша»). В Талмуде каше – это риторический вопрос-нападка на оппонента: «Таки вы говорите, что сущность предшествует существованию?»
Большинство евреев – даже те, кто слабо знаком с Талмудом, – знают термин каше, потому что он упоминается во время седера, ритуальной пасхальной трапезы – в начале обряда младший ребенок задает традиционные фир кашес («четыре вопроса»). Любой, кто бывал на седере, знает, что от фир кашес до трапезы может пройти несколько часов, пока присутствующие не ответят на все четыре.
Клоц-каше – полная противоположность этим вопросам – огромный чурбан, который никак не обойти, он останавливает дискуссию точно так же, как дерево, упавшее поперек трассы, останавливает движение. Это не просто тупой вопрос, он еще и пытается выглядеть умным. Допустим, группа историков обсуждает исход евреев из Египта или Гражданскую войну в США. Вдруг один из них спрашивает: «А что, разве рабам так уж плохо жилось?» Вот это – клоц-каше.
Религия и традиции
Вероятно, большая часть идишских фразеологизмов возникла именно здесь. Термины и образы пришли из религии и традиций (эти понятия были почти неразличимы еще два-три поколения назад), а сюжет – из быта. Мать может сказать своей ненаглядной дочери или даже сыну: «Эс ништ ди хале фар а-мойце», то есть «Не ешь халы (хлеба), пока не произнесешь благословение». Вполне здравый, хотя и банальный, религиозный совет. Но в переносном смысле он означает «до свадьбы – ни-ни». Секс, как и трапеза, разрешается только после выполнения определенных мицв.
Чтобы увидеть связь между тремя источниками метафор, разберем три поговорки, означающие «вконец измотанный» (из каждого источника – по поговорке).
1) Сравнение, навеянное природным явлением: ойсзен ви а ѓон нох ташмиш, то есть «выглядеть как петух, потоптавший курицу». Те, кто бывал на птицеферме или читал Чосера, знают: петух может обслужить сколько угодно кур за одну ночь (тем самым дав хозяевам возможность выспаться утром). Слово ташмиш вносит в эту фразу нотку юмора. Это стандартное сокращение от ташмиш ѓа-мите (дословно – «использование постели», обычный в раввинистической литературе эвфемизм для обозначения полового акта. Часто переводится как «супружеский долг»). Со времен написания Талмуда и по сей день ташмиш ѓа-мите рассматривается в талмудических комментариях и законах. Муж должен выполнить свой долг, когда жена, окунувшись в микве по окончании менструального цикла, вернется домой. Конечно, если речь идет о курах, «супружеский долг» звучит смешно – все равно что «он выглядит как петух post copulam carnalem». (Термин copula carnalis – «плотская связь» – использовали схоласты, в частности Фома Аквинский). Но что такое copula carnalis знают только священники и специалисты по истории Средних веков, а талмудическое ташмиш знакомо любому еврею. Идиш взял привычный для народа образ усталого петуха на скотном дворе и связал его с рьяным исполнением религиозного долга – того самого долга, который не дает иудеям нормально поспать. Петух превращается в еврея, а еврей с его множеством мицв никогда не высыпается: поговорка обязывает.
2) Здесь все просто, ни одного слова в переносном смысле – ойсгемучет ун ойсгематерт, «обессиленный и изможденный». Так уж получилось: ойсгемучет и ойсгематерт означают одно и то же. В обоих причастиях есть германские приставки ойс- (из-, вы-) и ге- (приставка, образующая причастие прошедшего времени). Единственное различие между словами – корни (славянский – муч- и немецкий – матер[13]13
От немецкого martern – «мучить», «терзать».
[Закрыть]-), но к ним можно присоединить одни и те же приставки и суффиксы. Однако здесь мы имеем дело с устойчивым выражением; поодиночке ни одно из этих слов не имело бы такой силы. В идише подобные повторения нередки – ученые объясняют это влиянием библейских параллелизмов{25}. Даже в этой незатейливой фразе можно увидеть, как случайно поставленные рядом германское и славянское слова превращаются в древнееврейский слог.
3) Сугубо еврейское сравнение ойсзен ви ан опгешлогене ѓойшане («выглядеть как измочаленный ивовый прут») связано с праздником Сукес, или Кущи: в праздничном ритуале используются разные растения. Седьмой день Сукес называется ѓошана раба, «великая ѓошана». В этот день читается множество ѓошан (отсюда слово «осанна») – молитв о спасении и помощи. Закончив читать ѓошаны, каждый берет пучок из пяти ивовых прутьев (их называют ѓойшанес, по ассоциации с молитвами) и бьет им о землю пять раз. После пятого удара хрупкие прутики выглядят еще хуже, чем нагулявшийся петух. Тот, кого сравнивают с опгешлогене ѓойшане, – потрепанный судьбой, еле живой человек, смирившийся со своей участью. Типично еврейская ирония: «избиение» прутьев сопровождается молитвой о воскрешении умерших.
Во всех трех идиомах, даже в самой простой, есть особое свойство, порожденное традиционной еврейской культурой. Немецкие и славянские слова в итоге оказываются идишскими, поскольку были пересажены в еврейскую почву. Об этой культурной почве мы скоро поговорим, но сначала нужно вкратце ознакомиться с диалектами восточного идиша.
Глава 3
Очередной повод пожаловаться:
диалекты идиша
I
Представьте себе такую неразбериху – одна половина народа произносит слово «пуля» как «пуля», а вторая – как «пиля», из-за чего обе половины ужасно возмущаются друг другом. Именно так обстоит дело с устным идишем. Это такой язык, на котором что ни скажешь – все неправильно.
Существовало три основных диалекта восточноевропейского идиша – пойлиш, литвиш и галицьянер, то есть польский, литовский и галицийский. Носители этих диалектов – соответственно полякн, литвакес и галицьянер. Полякн и галицьянер сказали бы «пиля»; литвакес предпочитали «пулю». Что касается галицийского (юго-восточного) диалекта, то на нем говорили как евреи из Галиции, так и их многочисленные собратья, жившие на территориях современных Румынии и Венгрии. Галиция – провинция Австро-Венгрии, включавшая в себя немалую часть современной Польши (в том числе Краков) и Украины (например, Львов). Галицьянер считались отдельным обществом, поскольку до Первой мировой войны Галиция была административной единицей с четкими границами, и даже когда она исчезла как провинция, в памяти людей остался образ галицьянер. Идиш, на котором говорили галицийские евреи, был ближе к пойлиш, чем к литвиш. А теперь поговорим о великом идишском расколе между польским и литовским диалектами.
Пойлиш и литвиш как языковые термины несколько сложнее, чем может показаться из названия. С точки зрения языка жители Минска и Киева – литваки, хотя никто не считает Киев литовским городом. Идиш обзавелся картой Восточной Европы четыреста пятьдесят лет назад и обновлять ее не собирается. Вторая мировая война превратила идишские диалекты – наречия разных краев – в наречия предков. Довоенные границы диалектов соответствовали политическим границам Польши и Литвы до подписания Люблинской унии (это соглашение 1569 года: Польша и Великое княжество Литовское объединились в одно государство, Речь Посполитую, чтобы защититься от нападений Руси). В 1569 году Литва была гораздо больше, чем сейчас, а в Польшу входила немалая часть Украины. Говоря о пойлиш и литвиш, люди тем самым говорят о границах, исчезнувших почти пятьсот лет назад. Очень в духе евреев, если вспомнить все то, что мы с вами уже узнали о талмудическом образе мышления. Одно из первых произведений современной идишской литературы, «Дос пойлише йингл» («Польский мальчик»), повествует о мальчике с юга Украины. Это как если бы действие романа Марка Твена «Жизнь на Миссисипи» происходило на реке Колорадо – и никто бы не удивлялся. Научные названия диалектов, «центральный идиш» и «восточный идиш», понятны лишь профессиональным филологам, а любители пользуются народными названиями: пойлиш и литвиш. Язык, не имеющий собственного постоянного государства, описывает сам себя посредством зыбких терминов: на протяжении почти всего существования идиша эти страны были не реальными государствами, а надеждами или воспоминаниями. С 1569 года Польша и Литва как независимые державы существовали только время от времени, их границы каждый раз менялись. Чтобы прояснить устройство своего языка, евреи – народ без страны – использовали имена других стран, которые и сами то появлялись, то исчезали.
К сожалению, тема диалектов чем дальше, тем больше теряет связь с действительностью. Почти все идишеговорящие люди моложе сорока (кроме тех, кто родился и вырос в хасидских общинах) выучили идиш в университете, как и большинство их преподавателей. Язык, на котором они говорят, никогда не звучал в синагоге и на базаре, в спальне и на кухне, на небе и земле. Это клал-шпрах – «стандартный язык», который в 20-30-е годы начали разрабатывать ученые из ИВО (Идишер Висншафтлехер Институт{26} – Еврейский научный институт, основанный в Вильне; сейчас базируется в Нью-Йорке). Ученые мечтали о всеобщем языке, который можно было бы использовать в средствах массовой информации, публичных выступлениях, вузах и так далее. Такой язык давно был необходим евреям – уже хотя бы для того, чтобы академики-литвакес не сбегали с лекций по булевой алгебре, возмущенные тем, что лектор говорит на пойлиш.
Клал-шпрах был инструментом, попыткой ввести твердые стандарты правописания, произношения и словоупотребления – в некоторых регионах идиш не мог нормально развиваться, поскольку не было общих правил. Грубо говоря, этот язык взял от литвиш произношение гласных и дифтонгов, а от пойлиш – систему родов и падежей. Стандартный идиш был создан вовсе не для того, чтобы стереть особенности идишских диалектов. Никто не собирался петь детям колыбельные или оплакивать умерших на этом языке. В том-то и дело, что клал-шпрах не был ничьим маме-лошн. Он жил в карманном самоучителе, а не в ворковании еврейской мамы. Дома на клал-шпрах не общались – вы же не разговариваете со своими детьми как с журналистами на пресс-конференции.
Многие умные люди использовали клал-шпрах, развивали его. Но помимо них стандартный язык заинтересовал не в меру рьяных нудникес, которые стали разговаривать только на нем или на той версии клал-шпрах, которую разработал их кружок. Вот они и впрямь общались с детьми как с представителями прессы. К счастью для всех, эти редакторы человеческих душ имели влияние только в своих узких кругах, а круги эти (по крайней мере, в Северной Америке) существовали по принципу «вы нас не знаете, и мы вас не знаем».
Жестоковыйность евреев (впервые подмеченная самим Богом), их безразличие к левой идеологии, недоверие идишистов-любителей к языковым новшествам – вследствие всего этого клал-шпрах почти не выходил за пределы компаний клал-шпрахников. Польские и галицийские евреи не хотели, чтобы кучка литваков указывала им, как надо говорить, а литваки возмущались тем, что их диалект «прилизывают», чтобы создать стандартный язык.
Клал-шпрах не устраивал никого. Его назвали «идишем для тех, кто только говорит об идише». На письменный язык он, конечно, повлиял, а на речь амхо – простого люда – не особенно. Клал-шпрах был основан главным образом на литвиш (который был ближе к немецкому), а не на пойлиш (на котором говорило большинство евреев) – поэтому тогда, в 30-е годы, он так и не стал популярным в Европе. Даже сейчас хасиды из Бруклина, для которых идиш остался неотъемлемой частью религии, считают клал-шпрах диковинкой: им непонятно, зачем люди общаются на этом языке, ведь еврейские общины на нем не разговаривают. Сами бруклинские хасиды говорят в основном на венгерском диалекте идиша, на который наложили отпечаток шестьдесят лет жизни в Америке. Наверно, для клал-шпрахникес такой идиш звучит как туземные напевы; тем не менее это – настоящий, живой язык, который охватывает все стороны жизни самостоятельного общества. Клал-шпрах заводит себе сторонников, а хасиды – детей.