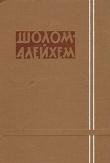Текст книги "Жизнь как квеч. Идиш: язык и культура"
Автор книги: Майкл Векс
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
V
Вполне естественно, что народ, считающий медицину важнейшим в истории нееврейским изобретением, в своих проклятиях уделяет особое внимание болезням. У еврейских проклинателей есть несколько излюбленных недугов (большая часть которых приведена ниже) и несколько неясных, но вполне себе ужасающих симптомов и состояний: например, гешволн ун гедролн золсту верн («чтоб ты распух и вены у тебя раздулись») или пишн золсту мит верем или мит грине верем («чтоб ты пи́сал червями/зелеными червями»). Такое описание не похоже ни на одну из известных мне болезней, зато оно помогает понять вот что: в отличие от многих других клолес, большинство «медицинских» проклятий – как бы жутко они ни звучали – не заставляют жертву придумывать жуткую предысторию. Здесь нагрузка идет не на воображение, а на тело. Точнее, телу только кажется, что им овладевают все эти болячки: от простого кренкен золсту, «чтоб ты заболел» (на идише это звучит несколько агрессивнее, чем может показаться в переводе) до причудливого арайнтрогн зол мен дих а кранкн – «чтоб тебя внесли в дом больным», то есть на носилках. В тавтологическом золсту зохн ун кренкен («чтоб ты был болен и нездоров») мы сталкиваемся с глаголом зохн – означает он «болеть», но, в отличие от кренкен, имеет пренебрежительный оттенок: его используют, только если хотят показать свое презрение к человеку, его болезни или к ним обоим. Некоторые проклятия изображают не какое-то определенное заболевание, а букет симптомов:
Редн золсту фун ѓиц – чтоб ты бредил в горячке
Фаргелт ун фаргринт золсту верн – чтоб ты пожелтел и позеленел
А мешугенем зол мен ойсшрайбн ун дих арайншрайбн – чтоб сумасшедшего вычеркнули [из списка сумасшедших], а тебя вписали вместо него
Золст какн мит блут ун мит айтер – чтоб ты какал кровью и гноем
Эс зол дир фаршпорн фун форнт ун фун ѓинтн – чтоб тебя заперло и спереди, и сзади
Эс зол дир дунерн ин бойех ун блицн ин ди ѓойзн – гром тебе в брюхо и молнию в штаны
Эпидемии непостижимым образом обрушиваются на одного отдельно взятого человека, причем угнездиться они могут только в определенных органах:
А магейфе зол аф им кумен – чтоб его [и только его!] чума взяла
А магейфе им ин ди зайтн – чуму ему в бока
А холере дир ин ди бейнер – холеру тебе в кости
А нихпе зол дих хапн – падучая [т. е. эпилепсия] тебя возьми
Рематес дир ин ди пятес – ревматизм тебе в пятки [очевидно, эта часть тела была выбрана только ради рифмы]
А кадохес ин дир – чтоб тебя лихорадка трясла
А кадохес дир ин ди бейнер – лихорадку тебе в кости
Обратите внимание: рак, туберкулез, лейкемия и даже обычный сердечный приступ не упоминаются в проклятиях. Ругаться ругайся на здоровье, но чужое здоровье не трогай. Когда речь заходит о серьезных вещах, евреи возвращаются к реализму.
Из фармацевтики в идиш пришли ди клейне флешлех – «маленькие бутылочки», т. е. «лекарственные пузырьки»; они упоминаются, когда высказывают пожелание: «золсту тринкен нор фун ди клейне флешлех» («чтоб ты пил только из лекарственных пузырьков»), или другое, не менее приятное: «шрайбн зол мен дир рецептн» («чтоб тебе выписывали рецепты»). Почему не рецепт, а именно рецепты? У вас что, столько разных болячек или ни одно лекарство не помогает? В любом случае это верный способ фаркренкен деньги – то есть «проболеть» их, потратить все дочиста на лечение.
VI
Болезнь и смерть – ничто по сравнению с высшим проявлением злого рока, окончательной гибелью всех надежд вашей жертвы: золст онкумен цу майн мазл («чтоб у тебя было такое же счастье, как у меня»). Другими словами, «худшее, чего я могу тебе пожелать, – это чтоб ты был на моем месте». Але цурес вос их ѓоб золн ойсгейн цу дайн коп, «чтобы все мои печали тебе на голову упали». Такое пожелание мало что говорит о проклинателе, но, во всяком случае, самодовольным хвастуном его никак не назовешь. Вот мы и вернулись к тому, с чего начали: идиш – проявление внутреннего изгнания, голес как мироощущения. Еврей не находит покоя даже в себе самом; его грызут тайные помыслы и страхи, которые можно разве что натравить на кого-то другого: «вос с’ѓот зих мир гехолемт ди нахт ун ейне нахт ун а ганц йор зол ойсгейн цу дайн коп» («пусть то, что мне снилось сегодня ночью, и вчера ночью, и весь этот год, – случится с тобой»), И наконец, проклятие, которое позволяет проклинателю оставаться в рамках знаменитого завета Гилеля «не делай другому то, что ненавистно тебе самому», – «вос с’из мир башерт цу зайн ин миндстн фингерл зол дир зайн ин дайн ганц лайб ун лебн» («пусть судьба, уготованная моему мизинцу, постигнет тебя, твое тело и всю твою жизнь». Что я такого сделал, что ты заслужил подобную участь?
Ой, и не спрашивай.
Глава 7
Тридцать три несчастья:
мазл, маета и монеты
I
Будучи языком голес – изгнания, которое еще со времен разрушения Второго Храма задает тон еврейской жизни, – идиш накопил огромное количество слов, связанных с бедностью, лишениями и несбыточными желаниями; все это необходимые условия для настоящего добротного квеча. Суть изгнания заключается в том, что человек не может быть там, где хочет, – дома; у него нет того, о чем он мечтает больше всего на свете, – дома; он шлепт, тащится из одного дня в другой, кое-как перебивается от кризиса до кризиса, с тоской осознавая, что если успех и придет, то очень ненадолго. Йидише аширес из ви шней ин марц, «еврейское богатство – как снег в марте»: выпадает нечасто и тает за ночь. До появления нацистов именно бедность, а не антисемитизм считалась главным еврейским несчастьем. Больша́я, а может – и бо́льшая часть современной идишской культуры зародилась и развивалась в условиях почти необъяснимых лишений.
Неевреи тоже бедствуют и подвергаются нападениям бесов и злых духов, но они хотя бы живут в своем мире. Ойлем ѓазе, «сей мир», – их родина. Религиозный христианин может считать себя пилигримом на этой земле, залетным гостем, который с нетерпением ждет смерти, чтобы воссоединиться с Иисусом; но между пилигримом и изгоем большая разница, даже если оба плетутся по одной дороге. Христианский идеал – жить на земле, но быть не от мира сего; еврейская беда в том, что они как раз от мира сего, но не живут в нем. Мы едим, спим, ходим в туалет и умираем. Платим налоги, служим в армии, торгуем. И при всем при том мы отгорожены от остальных, лишены всех обычных человеческих удовольствий; мы как будто сосланы на необитаемый остров, где водятся одни трефные черепахи. Главные источники радости – шабес и Тора – тоже не принадлежат этому миру. В традиционной еврейской культуре есть все, кроме ойлем ѓазе, что в идише означает «чувственное наслаждение», то самое здесь-и-сейчас, ради которого живут гедонисты. Гойское существование – бесконечная череда «сегодня», еврейское же состоит из сплошных «тогда», относящихся и к прошлому, и к будущему: «тогда мы были… тогда мы будем… а сейчас мы – ничто». Без Храма вся окружающая действительность – не более чем клипе, наросшая на нас скорлупа, которую не расколоть до тех пор, пока Мессия не придет освободить нас.
Но мы ждем уже давно, а его все нет; большинство идишских поговорок, где упоминается Мессия, окрашены удивлением или разочарованием. Когда ваш сын-подросток заходит в комнату и говорит: «Мам, пап, я знаю, что вы оба заняты, поэтому я вынес мусор и помыл машину. Сейчас приготовлю себе салат и пойду пылесосить», вы непременно воскликнете (как только удостоверитесь, что ваше чадо не влипло в какую-то ужасную неприятность) – «Мешиехс цайтн!», «настали времена Мессии!» Иначе говоря, «да неужели, глазам своим не верю!». Если вы расскажете об этом случае знакомому, который, зная вашего ребенка, не верит в такое чудо, – можете добавить: «Ломир азой дерлебн мешиехн», «Давайте точно так же доживем до прихода Мессии» – то есть так же, как я дожил до счастливого дня, когда мой сын сам начал пылесосить. Ломир азой дерлебн мешиехн – иудейский вариант христианского «вот те крест!». Если бы люди считали, что Мессия уже не за горами, «ломир азой дерлебн мешиехн» утратило бы смысл.
Мы уже сталкивались с ме зол нор дермонен мешиехн («лучше бы мы упомянули Мессию»), еврейским аналогом фразы «легок на помине» – что тоже не имело бы смысла, если бы Мессию ожидали с минуты на минуту. Подобный настрой звучит и в восклицании ѓалевай (иногда произносится как алевай). Слово пришло из иврита, означает оно «если бы!..», «хотел бы я, чтоб это было так!». Это одно из тех слов, что и сейчас можно услышать в речи евреев, вовсе не знакомых с идишем. Оно выражает заведомо несбыточное – по крайней мере, на нашей бренной земле – желание. Даже звучит как вздох: ѓалевай.
Берл: Я слышал, ваш сын заканчивает медицинское училище.
Шмерл: Медицинское училище? Ѓалевай он хотя бы свой школьный аттестат получил!
Если хотите произвести впечатление на человека, спросившего «Вы говорите на идише?», отвечайте не йо («да»), не а фраге! («что за вопрос») и даже не ци ред их йидиш? («говорю ли я на идише?»); скажите просто ѓалевай волтн але азой герет («ах, если бы все говорили на идише так, как я»), и все сразу станет ясно. Так вы дадите понять, что знакомы не только с идишскими словами, но и с еврейским мировоззрением: никто не знает – и никогда не будет знать – идиш так, как вы. Конечно, хотелось бы найти достойного собеседника, но, увы, в этом мире таковых нет.
Для идиша чувство завершенности, удовлетворения – несбыточная мечта: еврей может приблизиться к желаемому на расстояние вытянутой руки, но никогда не достигнет его. Есть более житейская версия поговорки «лучше бы мы упомянули Мессию»: аз ме рейт фун малех, кумт дер галех («помянешь ангела – получишь попа»). То есть вы хотели как лучше, а получили не как хуже – не дьявола вместо ангела, – а как всегда. «Мы стояли, болтали о чудесах, а пришел Мендл»: еврейские юмор и квеч основаны на контрасте между сверхъестественным и земным.
II
Пословица гласит: «Эйн мазл ле-исроэл» («Нет мазл у народа израильского»). Обычно ее понимают в том смысле, что евреям всегда не везет. Мазл действительно переводится как «везение», «удача» (например, в поздравлении «мазл тов!»), но это уже более позднее значение, а изначальный смысл слова – «созвездие» или «знак зодиака». На небесах двенадцать мазолес, и если бы в идишеязычных газетах печатались гороскопы, то рубрика наверняка называлась бы «Мазл на сегодня»
Еврейское понимание удачи связано с неоднозначными отношениями между иудаизмом и астрологией. Фраза «эйн мазл ле-исроэл» берет свое начало в Талмуде (а где же еще!), в трактате Шабос 156а; там она означает следующее: хотя судьбы всех остальных народов действительно зависят от звезд, но вот судьбу евреев определяет лично Бог. Отсюда двусмысленность таких пословиц, на первый взгляд явных квечей, как «а гой ѓот мазл» («гою везет») и «толе ѓот дос мазл» («повешенному везет») – так еврейские кинокритики могли бы прокомментировать кассовый успех «Страстей Христовых» Мела Гибсона. Конечно же, под «повешенным» имеется в виду Иисус, в данном случае он выступает как представитель христиан в целом. В повседневной речи эти фразы – просто завистливые реплики в адрес везунчика. Но если рассматривать мазл с астрологической точки зрения, то пословицы теряют завистливый оттенок и становятся просто констатацией факта, вселенского закона, а в конечном счете – очередным камешком в огород христианства: о нас заботится Бог, а ими пусть занимаются звезды.
Еврейские судьбы не зависят от воли случая; это звучит обнадеживающе (мы живем под Божьим присмотром как за каменной стеной) до тех пор, пока мы не увидим, что́ именно нам уготовало божественное провидение:
Что имеется в виду во фразе «я очистил тебя, но не в серебре. Я испытал тебя в печи бедности» (Ис. 48:10)? Это учит нас тому, что Бог перебрал все хорошие качества, ища, какое бы даровать Израилю, и не нашел ничего лучше бедности. Шмуэль – а по мнению некоторых, Ров Йосеф – сказал: «Об этом говорят люди: „Бедность еврею к лицу, как красная сбруя белой кобылице“» (Хагиго 9б).
Раши объясняет это следующим образом: бедность очищает нас и бережет от излишней самоуверенности. Ни для кого не секрет: чем богаче народ, чем больше людей выбивается из грязи в князи, тем прохладнее они относятся к вере. Ходит шутка, что о состоянии экономики можно судить по количеству людей в синагогах на Йом Кипур: чем хуже идут дела, тем больше толпа.
По той же причине многие выдающиеся еврейские религиозные деятели были против того, чтобы евреям предоставили равные права с остальными. Шнеур-Залман из Ляд – философ, каббалист, основатель династии любавичских ребе – открыто выступал против Наполеона и его социальных реформ; он молился о том, чтобы русские одержали победу над Бонапартом. Молитвы Шнеура-Залмана, отсидевшего срок в царской тюрьме, были продиктованы отнюдь не патриотизмом. Просто он понимал, что если в России сохранится антисемитизм и реакционная политика, то евреи останутся бедными и набожными; как ни странно, ущемление гражданских прав – невеликая цена за спасение древней религии.
Такой подход в новом свете представляет горькую пословицу «йидише аширес, миштейнс гезогт – фун танейсим верт мен райх», «вот оно, так называемое еврейское богатство: богатеешь, пока постишься» (потому что не тратишь деньги на еду). Видимо, не все воспринимали эти слова как шутку.
Мысль о том, что страдание идет евреям на пользу, дружно подхватили все, кроме самих страдающих евреев. Шолом-Алейхем цитирует эту фразу в своем рассказе{59} (одном из тех, по мотивам которых потом был создан мюзикл «Скрипач на крыше»), и объясняет ее по-своему: «Гот ѓот файнт а капцн. Бог бедняка не любит. Ибо если бы Бог любил бедняка, так бы бедняк бедняком не был!»
Хотя, казалось бы, йидиш глик, «еврейское счастье», – часть долгосрочного божественного плана, это не особо утешает людей, живущих в беде и нужде. Считалось, что, кроме редких исключений (как и мартовский снег, удача таки выпадает иногда на долю йидн), нашей жизнью всецело владеет и заправляет шлимазл, то есть невезение. Это слово может также означать «невезучий человек», «недотепа»; такому бедолаге всегда сопутствует неудача, более того, он сам – ходячая неудача, все его затеи кончаются провалом. Шлим – от немецкого schlimm – «плохой», а мазл переводится как «созвездие», то есть шлимазл – это «рожденный под плохой, несчастливой звездой». Но как в свое время пел Альберт Кинг: плохо родиться под несчастливой звездой, но хуже – не родиться вообще.
Шлимазлом можно назвать как мужчину, так и женщину. Есть и отдельная мужская форма слова, шлимазлник (неопрятный тип, пренебрегающий личной гигиеной и потому не очень приятно пахнущий), но куда чаще встречается женская форма, шлимазлнице, что тоже может переводиться как «грязнуля», однако есть и другое значение – «плохая хозяйка». Плохая не потому, что ленивая; просто у нее все валится из рук. Именно эта беспомощность отличает шлимазлнице от шлумперке (она же штинкерке). Шлумперке переводится примерно как «голодранка», но чаще всего слово относится просто к соседке, которая не нравится вашей маме.
В раковине – гора немытой посуды, грязный пол зарастает плесенью: шлумперке – этакая мадам Бовари от рабочего класса, королева объедков. Для нее все слишком тяжко. Работа по дому? Что вы, она выше этого. Шлумперке ѓот кейн мол ништ кейн койех – у нее никогда нет сил (чтобы выполнить свою работу), хотя никакими другими делами она не занята, в этом-то и заключается истинный шлумперкизм. «Мне не до уборки, я должна отвести детей на футбол!» Шлимазлнице – бестолковая хозяйка, а шлумперке – нерадивая.
Пришел шлимазл – отворяй ворота: порой на нас обрушивается целый шлим-шлимазл, «зло-злосчастье», то есть сверхневезение, редкое даже для евреев. Это пресловутые тридцать три несчастья, причем они сваливаются на голову всем скопом.
Бывает шлимазл дурх тир ун тойер («беда в двери и ворота»); будь он какой-нибудь жижей – мы бы в нем утонули. Это довольно распространенная поговорка, означает она примерно то же, что аф трит ун шрит («на каждом шагу»). «У Миндл дела идут дурх тир ун тойер» – другими словами, Миндл процветает, у нее все отлично. А в нашем случае в двери и ворота лезет шлимазл мит эсик – «невезение с уксусом», а также лучком, перчиком и всеми прочими приправами. Представьте себе квечмаркет, где все полки забиты салатом «шлимазл в маринаде». Слово эсик («уксус») иногда используется в значении «прибамбасы», «навороты». Можно сказать «ойсгепуцт ин эсик ун ѓоник» – «одет с иголочки», дословно – «наряжен в уксус и мед», а еще лучше – айнгемаринирт ин эсик ун ѓоник, «замаринован в уксусе и меду». С точки зрения идиша элегантнее всех тот, кто больше всех похож на селедку.
Невезунчик ѓот мазл ви а дронг, то есть «у него удача – как у шеста»: время от времени кто-нибудь забивает в него гвоздь. Если он глянет в реку – рыбы всплывают брюшком кверху; эр зол ѓандлен мит тахрихим, волт мен ойфгеѓерт штарбн («если б он затеял торговать саванами, люди перестали бы умирать»). Эр махт а гешефт ви дер фетер Эйсев – «он ведет дела как дядя Исав», продавший право первородства за чечевичную похлебку, – и верт айнгезункен ви Койрех, «тонет как Корах», которого поглотила земля в наказание за бунт против Моисея.
Корах (на иврите это имя означает «лысый») – еврейский Крез, он фигурирует в идишских поговорках, связанных с деньгами: райх ви Койрех – «богат, как Корах», Койрехс ойцрес – «кораховские сокровища», момен Койрех – «кораховский барыш». Источник всех этих выражений – талмудическая легенда (трактат Псохим 119а), в которой Корах находит одно из трех сокровищ, спрятанных Иосифом, и – будто в поддержку Шнеура-Залмана, стоявшего за царизм, – решает остаться в Египте, чтобы не покидать клад. Очень характерный для идиша ход: герой, вошедший в фольклор как главный символ процветания, заканчивает свои дни в буквальном смысле ин др’эрд.
III
До того как провалиться в тартарары, Корах был весьма преуспевающим человеком – из всех евреев только он сумел хорошо устроиться в Египте. Уже потом, в последующих поколениях, некоторым иногда удавалось добиться подобного успеха (причем это не всегда были такие же неприятные типы, как Корах), но для большинства европейских евреев нужда осталась главной спутницей жизни, поэтому в языке тема нужды разрослась до внушительных размеров. Главное идишское название бедности – далес, от ивритского корня, означающего «слабеть», «истощаться». Это слово встречается в десятках идиом.
Бывает далес ви ин посек штейт – «далес как положено». Есть более светская поговорка: далес ви а курфиршт, «далес, подобный курфюрсту»{60}, – это не просто бедность, а обездоленность, можно сказать, королевского размаха; вы с вашей жалкой нищетой – не ровня ей. Посмотрите, далес обретает почти человеческие черты. В сказках гоев ожить мечтают куклы вроде Пиноккио, у нас – абстрактные понятия: например, нищета, которая страстно желает нарядиться в людское платье и притвориться человеком.
Чем же занимается наш очеловеченный далес? Эр файфт, он свистит. Дер далес файфт фун але зайтн («свистит со всех сторон»), ин ейдн винкл («в каждом углу»). Он дает о себе знать самым неприятным, самым надоедливым образом: влетая в щели вашей лачуги вместе с ветром. Фар вос файфт дер далес? Почему же далес свистит, если ему ничего не стоит сдуть весь дом начисто? Вайл эр ѓот нор а дуде, потому что у него есть только лишь дудочка. Он не может позволить себе купить трубу – то есть денег нет даже на то, чтобы повысить собственную зловредность.
Дух бедности не только свистит, но еще и пляшет. Дер далес танцт ин митн штуб – танцует посреди дома, привлекая к себе всеобщее внимание. А еще он стучит и грохочет. Фар вос клапт дер далес, почему далес стучит? Вайл эр гейт ин клумпес, потому что он носит деревянные башмаки.
Говорят, что далес, помимо прочего, еще и махт паслес («приносит позор»), несмотря на столь же распространенное утверждение «далес из ништ паслес» («бедность – не позор»). Нет, не позор, а всего лишь предпосылка для него. Евреи засветились почти во всех видах преступной деятельности, больше всего они преуспели в воровстве (особенно в конокрадстве), контрабанде и – что уже не столь романтично – сутенерстве. Как гласит старая пословица, вос эс тут ништ а йид цулиб парносе, «чего не сделает еврей ради заработка!». Кроме того, нойт брехт айзн, далес брехт шлесер («нужда ломает железо, а нищета – замки»). Способность ломать железо приписывают также любви и деньгам, но вот с замками умеет расправляться только далес. By далес, дорт из ѓалас – «где бедность, там и галдеж», у бедняков нет ни минуты покоя. Если цель всего этого – сделать нас чище, то лично я бы предпочел хорошую дезинсекцию.
Есть менее эмоционально окрашенное обозначение бедности – оремкайт, а ее представитель – ореман, бедняк. Они бывают разной степени: а битерер ореман («горький бедняк»), ан ореман ви шабес ѓа-годл («бедняк, подобный Великой Субботе»). Понять смысл последнего выражения легко, но подобрать к нему аналог на другом языке почти невозможно. Ключевое слово здесь – годл, от ивритского гадоль – «большой», «великий». Этот бедняк отличается от других бедняков тем же, чем Великая Суббота – последняя суббота перед началом Пасхи – от других суббот: масштабом. Но кроме того, шабес ѓа-годл – один из двух дней в году, когда раввины в ортодоксальных синагогах произносят речь. Бедность оремана не просто велика, она еще и заявляет о себе во всеуслышание.
Об оремелайт (мн. ч. от ореман) сложено много пословиц и поговорок, большинство из них связано с едой. Дос милхике тепл байм ореман верш кейн мол ништ флейшик – «молочный горшок бедняка никогда не станет мясным», ведь в его доме мясо не водится. Ан ореман из томед парве, «бедняк – ни мясной, ни молочный», потому что у него нет ни того, ни другого. Аз ан ореман эст а ѓун, из эр кранк одер ди ѓун – «если бедняк ест курицу, значит, кто-то из них двоих болен». Есть и еще более мрачное выражение: аз ан ореман махт хасене, лойфн ди ѓинт мит геѓойбене кеп («когда бедняк справляет свадьбу, собаки бегут, задрав голову»). Т. е. на полу объедков не сыщешь: все свадебное угощение состоит из одного куска курицы, который передают из рук в руки, так что собаки могут разве что попытаться стащить его со стола. И в завершение пищевой тематики отметим, что секс иногда называют дем ореманс айнгемахтс, «варенье для бедных».
Как ни популярно слово ореман, это не главное обозначение бедняка. Самое идишское название – капцн; вероятно, произошло оно от ивритского мекабец недовес, «собирающий подаяние», но точно никто не может сказать. Доподлинно известно лишь то, что слово капцн как таковое появилось сначала в идише, а потом попало в иврит. Как ни странно, возникло оно не очень давно: первое его упоминание в письменных источниках датируется 1623 годом, так что, если бы Шекспир писал на идише, он не смог бы вставить это слово в свои бессмертные произведения. На протяжении последующих трехсот лет без малого – вплоть до Первой мировой войны – роль этого слова в общественной жизни евреев все росла и росла; даже Менделе Мойхер-Сфорим, основатель современных идишской и ивритской литератур, выдумал целый городок Капцанск, населенный сплошь одними капцоним (мн. ч. от капцн).
Ореман почти во всех поговорках можно с равным успехом заменить на капцн, а вот наоборот – не всегда. До сих пор в ходу фраза капцн ин зибн полес – «нищий в семи по́лах», капцн-капуста: семь одежек, и все без застежек, потому что уже превратились в лохмотья. Он же капцн ви ин посек штейт, бедняк-по-всем-правилам, он же а капцн ше-бе-капцоним, «всем беднякам бедняк». Есть еще великолепное выражение капцн мит але хейн-грибелех, дословно – «бедняк со всеми ямочками», то есть со всеми мелкими деталями, которые отличают человека, временно сидящего на мели, от человека, живущего в постоянной нищете. И конечно же, драйгорндикер капцн, «трехэтажный бедняк», чья нужда так велика, что достает до небес – и скребет их, скребет. Именно к таким людям обращен известный призыв, своего рода еврейский аналог кричалки спортивных болельщиков: «ѓулье, капцн, дрек из волвл!» («гуляй, босота – дерьмо по дешевке!»)
Жителя Капцанска еще можно назвать они – тоже «бедняк», слово из лошн-койдеш. Пословица «они хошев ке-мейс» («бедняк – все равно что покойник») произошла от талмудического изречения: «Четверо считаются мертвецами – бедный, прокаженный, слепой и бездетный» (Недорим 64б). Идиш продвинул это изречение еще на шажок вперед: «они хошев ке-мейс – бейде лозт мен ништ ин штуб он а шоймер» («бедняк – что покойник: ни того, ни другого не оставляют в доме без присмотра»). Бывает они медуке, «раздавленный бедностью», и они ве-эвьен, «бедный и нищий». Последнее – очень распространенная библейская фраза: например, «Не обирай наемного работника, бедного и нищего» (Втор. 24:14). Это средство художественной выразительности, параллелизм: одно и то же понятие выражается с помощью нескольких синонимов. Мы уже встречались с параллелизмами в конце главы 2: ойсгемучет ун ойсгематерт, «измученный и изможденный» – библейский литературный прием осуществляется с помощью славянизма и германизма.
Еще один «бедняк» – далфен, от библейского имени Дальфон. Так звали второго сына Амана; его повесили вместе с отцом и девятерыми братьями в финале Книги Эсфири. Больше мы о нем ничего не знаем, да и стоит ли? Важно лишь то, что первые буквы его имени совпадают с прилагательным дал («бедный»). А больше ничего и не требуется.