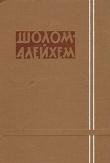Текст книги "Жизнь как квеч. Идиш: язык и культура"
Автор книги: Майкл Векс
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
III
Меламед не пользовался особым почтением среди евреев, иногда слово меламед расшифровывали как сокращение от мер лернен, мер далес – «чем больше учишь, тем больше нищаешь»; он был в равной степени необходим и заменим. В обществе, где чтению, заучиванию, толкованию текстов уделяли столько внимания, почти любой взрослый мужчина, по идее, мог стать преподавателем. Педагогических учебных заведений у евреев не было, диплом учителя не требовался, начальный капитал – тоже. Аз а балаголе фалт дос ферд, верт эр а меламед – «когда у извозчика дохнет лошадь, он идет в учителя». Мало того что извозчик стоял почти в самом низу еврейской социальной лестницы – даже само слово балаголе до сих пор окрашено дополнительными смыслами: «грубый», «невежественный», «неграмотный». Таков парадокс высокообразованного общества: когда ученость ценится, но не является редкостью, учителями становятся лишь те, кто не нашел себе лучшего применения. Платили им мало, они яростно пытались отбить друг у друга учеников, семьи детей часто запаздывали с платой за обучение или не платили вовсе. Тем не менее работа педагога была и остается чрезвычайно важной. Ученики и их родители называли учителя ребе («Ребе тебя побил? Так я еще добавлю!»). Зарождавшийся хасидизм перенял это школьное название, отражавшее характер отношений между хасидами и их лидером: дружба и ученичество. Ребе – идеальный учитель, второй отец. Несомненно, среди меламдим были славные, терпеливые, преданные своему делу люди, у которых действительно возникала духовная связь с учениками после нескольких лет десяти– и двенадцатичасовой учебы (именно такие отношения имели в виду хасиды, когда взяли себе термин «ребе»), но эти меламдим не вошли в еврейский фольклор. В народе прославились другие учителя, с канчиком и байчем наперевес. Канчик – кожаный хлыст вроде девятихвостой плетки, байч – обычный кнут. Не знаю, используются ли они сейчас в еврейских школах, – может быть, меламдим в черных долгополых сюртуках тайком пробираются в магазины садо-мазо атрибутики в поисках учебных пособий, – но в целом кнут из обихода вытеснили тайтл (указка, этот твердый и острый инструмент, который можно засунуть в ухо или ноздрю провинившегося) и обыкновенная линейка.
Телесные наказания и страх перед ними считались самым действенным педагогическим приемом; у традиционного хейдер-ребе всегда имелся целый арсенал различных тумаков. Все вместе они назывались матнас яд, «дар руки». В идише это выражение означает в первую очередь «подарочек», переходящий из рук в руки, то есть взятку. Во втором, школьном, значении подарком становится сама рука. Словосочетание матнас яд встречается во Второзаконии; оно было на слуху, поскольку упоминалось в тексте праздничной службы. Каждый мужчина обязан приходить в Храм трижды в год, «и не должно явиться пред Господом с пустыми руками. Каждый по дару своей руки [матнас йодой], по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе» (Втор. 16:16–17). В разговорном идише фраза обрела настолько буквальный смысл, что стала почти насмешкой над собственным библейским значением.
Есть различные степени матнас яд; эта шкала применима не только к школьной, но и к домашней дисциплине. Мы начнем с кал, легких наказаньиц, и постепенно дойдем до хоймер, тяжелой артиллерии, – и помните, что все они вершатся во благо вам и всему еврейскому народу.
Книп, «щипок», предназначен для крепышей. Он может варьироваться от несильного пощипывания (ребе, проходя мимо, даже не замедляет шаг – просто протягивает руку и, будто пинцетом, ухватывает складку кожи) до мощного зажима с последующим выкручиванием по часовой стрелке, что может продолжаться добрых сорок пять секунд.
Коварство книпа в том, что вообще-то это знак одобрения. Ласковый книп ин бекл, щипок за щечку, – стандартный еврейский жест, выражающий похвалу или поздравление. Фраза «а книп дир ин бекеле!» («щиплю тебя за щечку!»), которая обычно не сопровождается настоящим книпом, означает «Молодец!». Когда тот же самый жест оборачивается другой стороной, предстает как бы пародией на самого себя, то щипок становится не только болезненным, а еще и обидным. Ребе-книперы были в весьма удобном положении: они могли использовать этот прием и как кнут, и как пряник. Сделал ошибку – получаешь книп. Хорошо поработал – таки опять получаешь книп, только с другим комментарием.
Шнел – «щелбан», который производится с помощью среднего и большого пальцев; набрав разгон, он обрушивается на голову незадачливого ученика. Если делать это умеючи, может получиться чертовски больно; такой щелчок ни в коем случае не должен попадать в область глаз. Шнел уходит корнями в традицию еще глубже, чем книп. Считается, что души нерожденных детей изучают Тору, постигают тайны рая и ада. В одном мидраше сказано: к каждому ребенку, который вот-вот должен родиться, приходит ангел и так щелкает его под носом, что тот забывает все выученное. Согласно фольклору, именно поэтому у людей на верхней губе впадинка – и чем она глубже, тем человек умнее: познания его были так обширны, что ангелу пришлось щелкать изо всех сил, чтобы выбить их.
Меламед – это антиангел: он использует шнел, чтобы вбить науку в нерадивую башку; в отличие от ангела, он не всегда атакует напрямую. Учитель мог подойти к ничего не подозревающему ученику сзади (при этом мальчик, возможно, и не сделал ничего дурного, более того – правильно ответил на вопрос) и залепить ему такой подзатылочный шнел, что голова бедняги отправлялась в дальний полет.
Истинный книпер почти не занимался шнелами – он отращивал длинные ногти, так что щелбан был бы для него так же неприятен, как и для его жертвы; убежденный шнелер предпочитал действовать исподтишка, а шнел для этого подходит как нельзя лучше. Хотя и шнел, и книп бывали весьма болезненными, но дети воспринимали их как нечто вечное, с ними мирились как с обязательной частью школьного быта, «вредностью производства». Настоящие телесные наказания начинаются с пача.
Пач, «шлепок», имеет целью скорее заставить ученика сосредоточиться, а не причинить ему боль. Можно сказать, механический энергетик. Пачн мит ди ѓент – «хлопать в ладоши». Игра в ладушки, которая уже упоминалась в этой главе, могла приобретать угрожающий оттенок. Вопрос меламеда «вилст шпилн мит мир ин паче кихелех?» («хочешь со мной в ладушки поиграть?») следовало понимать как угрозу: «закрой рот, а то получишь». А пач ин поним – «пощечина» и в прямом, и в переносном смысле: «Когда ему отказали в премии за жизненные достижения, для бедняги это был прямо-таки пач ин поним».
Следующий уровень – зец, то есть «удар», «тумак». Это слово часто сопровождается указанием места: а зец ин поним арайн, ин ди кишкес арайн, ин ди крижес арайн – «в лицо», «в брюхо», «в поясницу» соответственно (предлог арайн означает «в», «вовнутрь»). Зец – удар средней тяжести; он мощнее, чем обычный шлепок, но не настолько сокрушителен, чтобы окончательно вышибить мозги у несчастного ученика. Зец связан с двумя близкородственными областями: дурным поведением и непониманием. В культуре, где ученость считается наивысшей добродетелью, эти два порока, считай, неразделимы: непонимание и есть дурное поведение, и наказующий удар приходится in situ[29]29
На месте (лат.), здесь – по назначению
[Закрыть]: по бестолковой голове.
Клап – тоже тумак, но более серьезный, чем зец. Он знаменит своим коварством. В отличие от зеца, честного джентльменского удара, клап неожиданно выпрыгивает на жертву сбоку или даже подкрадывается сзади. «Пли!» – и, стремительно просвистев в воздухе, он обрушивается на жертву. Клап – этакий неуловимый мститель, нападающий из засады.
Далее следует флем («звонкая оплеуха»); обычно он бывает ин ди пискес арайн{79}, «по морде». Представьте себе пач тройной мощности: от такого человек поневоле развернется к учителю. Есть штука посильнее, чем флем, – фраск; даже звучит свирепо. Как и предыдущие удары, он наносится ладонью; это меламедовский ответ каратистам. Еще страшнее хмал, или хмалье, – сногсшибательная, зубодробительная затрещина, от которой можно зен Кроке мит Лемберик, «увидеть Краков и Львов» (то есть искры из глаз посыплются). Лемберг, на идише Лемберик, – старое название Львова; во времена Австро-Венгерской империи оба города входили в состав Галиции: Львов находился на одном конце провинции, Краков – на другом. Смысл поговорки в том, что от подобного удара ваша голова дернется так, что долетит до Кракова, потом мотнется назад, аж до Львова, при этом тело останется сидеть на месте.
Оплеуха становится особо опасна, когда бьющий наносит сразу несколько петш (мн.ч. от пач) подряд, это называется ойсдрейен а шалшелес. Ойсдрейен означает «выкручивать», «поворачивать», гебраизм шалшелес – во-первых, «цепь», во-вторых – один из знаков кантилляции, которые печатаются в хумеш (они показывают, как именно выпевать ту или иную фразу, когда Тору читают вслух в синагоге). Шалшелес – зигзаг, похожий на цифру 3, коряво нацарапанную над словом. Ойсдрейен а шалшелес значит «осыпать градом пощечин» – попеременно то по одной щеке, то по другой. Если вы видели шоу «Three Stooges», то знаете, о чем речь. «Stooges» привнесли в массы дух традиционного хейдера. Они проделывали на сцене классический шалшелес, причем Керли сопровождал каждый пач визгливым «ууу!».
Этот вид телесных наказаний еще называется гебн кушн ди мезузе («дать поцеловать мезузу»). Мезузе, как известно, – трубочка или коробочка, где хранится полоска пергамента с первыми двумя частями молитвы «Шма». В еврейских домах ее вешают справа от каждого дверного проема, кроме входа в ванную. Кушн ди мезузе – ритуал, который совершают религиозные евреи каждый раз, проходя мимо нее: сначала дотрагиваются до мезузы кончиками пальцев, потом целуют пальцы, прикасавшиеся к ней (чтобы сама коробочка не намокла и не стала рассадником болезни).
Для поговорки важен именно клап, шлепок по мезузе как неотъемлемая часть поцелуя. В гебн кушн ди мезузе слова кушн ди мезузе следует воспринимать как единое целое, как некий технический термин, можно его даже закавычить: «Ты у меня получишь „целуй-мезузу“», то есть оплеуху. А за что? Да за то, что у тебя азой фил сейхл ви ин клойстер мезузес («ума не больше, чем в церкви – мезуз»).
Обычай клапн и кушн мезузу породил еще несколько интересных идиом. Иногда мезузой называют мать, потому что мен клапт зи ун мен кушт зи, «ее бьют – то есть плохо ведут себя с ней – а потом целуют». Что еще удивительнее (учитывая стереотип «для евреев мать – это святое»), женщин легкого поведения и проституток тоже называют мезузе, поскольку ейдерер лейгт он а ѓант ун гит ир а куш – «каждый трогает и целует ее».
Во всех предыдущих поговорках удары наносятся голыми руками. Когда в дело вступает байч или канчик, всплывает глагол шмайсн – «стегать», и относится он, как правило, к заду. У этого излюбленного места евреев есть много имен; самые изысканные – ѓинтн («зад»), ѓинтерхейлек («задняя часть») и унтерхейлек («нижняя часть»). Есть уважительные, чуть шутливые, прозвища: гезес («седалище»), мехиле («извините за выражение»), дер зайтс мир мойхл{80} («простите меня») и дер ви ѓейст мен эс («как бишь его»). Более популярны вульгаризмы (по степени грубости все они эквивалентны слову «жопа»): охор («задница»), ахораим («задние части»), морш («задница») и – самое знаменитое из всех – тухес, от ивритского предлога тахас («под», «внизу»). Это слово встречается у Эли Бохера, автора «Бове Бух»: в своей книге «Сейфер ѓа-Тишби», написанной в 1541–1542 годах, он утверждает, что слово это уже укоренилось и широко распространилось в языке. Выражение киш мих ин тухес («поцелуй меня в задницу») – одно из самых известных идишских ругательств, а его хейдеровская версия, киш мих ви ди йидн ѓобн герут («поцелуй меня туда, где евреи отдыхали»), – одно из самых симпатичных. В Книге Чисел 33:26 сказано, что израильтяне, блуждая по пустыне, «расположились станом в Тухесе» (в стандартной транслитерации – Тахат). Сорок лет в пустыне – и все ради того, чтобы послать кого-то в задницу.
Будучи мишенью для гневных вооруженных меламдим, тухес занял выдающееся место в школьном фольклоре. Во многих хадорим (мн.ч. от хейдер) ребе регулярно устраивали массовые порки – по пятницам, перед обедом – как раз тогда, когда дети уже собирались домой на шабес. Каждого мальчика вызывали: «Гиб тухес ун гей варемес» («подставляй задницу и иди обедай»). Смысл такой порки – наказать ребенка за все то, что он, может быть, безнаказанно совершил на этой неделе (считалось, что в чем-нибудь он да виноват), а также укрепить дисциплину и esprit de corps[30]30
Сплоченность, «командный дух» (фр.).
[Закрыть] учащихся:
С’из фрайтик, с’из фрайтик,
Дер тухес из цайтик.
Лейгт айх аф ди кни,
Вел их шмайсн он ми.
Пятница, пятница,
Будь готова, задница.
Всем на коленки стать,
Чтобы легче было хлестать.
В школьном языке выделялось несколько типов рабейим (мн.ч. от ребе), в зависимости от их любимых дисциплинарных мер: книпер, шнелер, пачер, зецер, клапер. После слова клапер достаточно было назвать имя меламеда – и без фамилии было понятно, о ком речь. Упрашивая родителей перевести его в какой-нибудь другой хейдер, ребенок мог назвать учителя и мердер (убийца).
Наказывая учеников, меламдим руководствовались принципом (на практике подтверждавшимся с точностью до наоборот) «эйн шойте нифго», «дураку не навредишь». Изречение пришло из Талмуда (трактат Шабос 13б), и Раши разъясняет его так: «с ним не может случиться плохое, ибо он не понимает, что это плохо». Иными словами, дурака нельзя оскорбить, потому что он не поймет, что его оскорбили. Обычно это выражение цитируют неправильно: «эйн шойте маргиш» («дурак ничего не чувствует»), перепутав его с другой фразой из того же отрывка: «мертвец не чувствует [маргиш] удара ножом». Сам меламед мог по ошибке сказать «эйн шойте маргиш» перед тем, как отдубасить ученика, – но если бы такую ошибку допустил сам ученик, то его бы отлупили еще сильнее. А посмей бедняга спросить, зачем же его бьют, если, согласно Талмуду, он ничего не чувствует, – меламед, наверно, и вовсе убил бы его на месте.
Зато, по крайней мере, ученики знали, чего ожидать от учителя. Каждого могли назвать нар («дурак»), типеш («глупец»), шойте, шейгец, гой – список почти бесконечен. Есть еще хохем – что вообще-то переводится как «мудрец», но обычно употребляется в значении «дурак» – и его двоюродный братец из главы 1, хохем бе-лайле, «мудрец по ночам»: он блещет умом лишь тогда, когда все спят, когда никто не видит. Кроме того, есть а штик флейш мит ойгн («кусок мяса с глазами»), а штик флейш мит цвей ойгн («кусок мяса с двумя глазами»), а поц мит ойрем («хрен с ушами»), а поц мит а капелюш («хрен в шляпе») – меламед бы не сказал такого вслух, но подумал бы непременно, – а гойлем аф редер («голем на колесиках») и, возвращаясь к теме природы, а шойте бен пикѓолц («олух дятлович»).
Каждое учительское оскорбление в адрес ученика давало самому учителю новый повод для затрещины. Но это была вовсе не забава, не садистская игра, а педагогический прием с целью заставить детей понять урок, арайнлейгн а фингер ин мойл (дословно – «вложить палец в рот») то есть подтолкнуть их, разжевать все так, чтобы они в конце концов дали правильный ответ. Если о ком-то говорят «ме дарф им ништ арайнлейгн а фингер ин мойл» («ему не нужно класть палец в рот») – это значит, что ему ничего объяснять не надо, он знает свое дело не хуже – а может, и лучше – нас с вами.
Кроме того, учитель мог вайзн что-то аройс афн телер, дословно – «преподнести на тарелке», то есть подробно расписать все от начала до конца; сравните с идиомой целейгн аф зибн телерлех, «разложить по семи тарелочкам» (речь всегда идет об одной вещи) как бутерброды на вечеринке, то есть раздуть целую сенсацию из какой-то банальности да еще и ждать за это похвалы.
Не все учащиеся были идиотами. Хорошего ученика называли тайере кейле, «драгоценный сосуд»; плохого же – пусте кейле, «пустой сосуд». Гебраизм кейле (мн.ч. кейлим) означает как «сосуд», так и «инструмент». Посуду и кухонную утварь тоже можно назвать кейлим. «Я бы рад помочь, но я не захватил с собой кейлим» – здесь имеются в виду рабочие инструменты. В музыкальном контексте кейле зачастую обозначает певческий голос: Паваротти ѓот а тайере кейле геѓат, «у Паваротти был прекрасный голос». Здесь, видимо, сыграло роль немецкое Kehle («горло»), которое произносится точно так же и может использоваться в значении «голос». Выражение аройс фун кейлим («вне сосуда») означает «вне себя от ярости». Весьма точное описание обмена веществ в состоянии покоя у большинства рабейим из еврейского фольклора. Теперь вы понимаете подоплеку старой пословицы: «Вен фрейен зих хейдер-йингелех? Аз дер ребе зицт шиве» – «Когда ученики радуются? Когда ребе сидит шиву» (потому что его целую неделю нет в хейдере).
Судя по этой логике, рабейим, несмотря на все свои ошибки, таки сумели научить детей кое-чему. Ученики не хотят, чтобы ребе умер; однако это не говорит об их высоких нравственных качествах. Если он умрет, их отправят в другой хейдер – сразу или на следующий день; если же он соблюдает семидневный траур по родственнику, то все знают, что скоро он вернется на работу, значит, дети снова будут под контролем. Мечта учеников: здоровый ребе с многочисленным хворым семейством. Учитель умер – пришлют нового; учитель в трауре – неделя каникул.
IV
Хейдер-йингл растет, и вот он уже бар-мицве бохер («юноша, вступивший в возраст бар-мицва»). В идише нет такого выражения, как «праздновать бар-мицву». Нет обязательной церемонии с последующей пирушкой. Это вам не первое причастие. Просто каждый еврейский мальчик, который сумел дожить до тринадцати лет и одного дня, автоматически становится бар-мицве; для этого ему не нужно ничего делать, он может даже сам о том не знать. Бар-мицва – нечто вроде совершеннолетия: вас никто не заставляет голосовать или пить спиртные напитки, но вот если захотите, чтобы вас судили как несовершеннолетнего, то начнутся серьезные проблемы. Бар на арамейском – «сын», но здесь имеется в виду «подлежащий мицве», «подпадающий под действие мицвы». Бар-мицве бохер – как бы бохер, доросший до мицв; они годами пылились в шкафу, ожидая пока он подрастет, – и вот теперь он может примерить их на себя (особенно если их представляют талес и тфилин).
Термин бар-мицве – своего рода эвфемизм, заменяющий бар-оншин (выражение столь неприятное, что его стараются не использовать) Оншин означает «наказания»: вот она, истинная суть «совершеннолетия». Бар-мицве – «подлежащий мицве», бар-оншин – «подлежащий наказаниям» (за то, что не соблюдал мицвы). Даже сам Бог не может заставить ребенка исполнять заповеди, зато Он может задать ему хорошую трепку за уклонение от оных. В этом и заключается смысл бар-мицвы: человек становится ответствен за свои поступки.
В разговорном идише борух ше-пторани произносится как борех ше-потрани и зачастую означает «туда ему и дорога», «как я рад, что отделался от этого» (чаще речь идет о человеке, чем о предмете). В слове потрани корень тот же, что и в потер – «свободный [отчего-либо]»; есть выражение потер верн – «избавиться». О мальчике моложе тринадцати лет можно сказать, что он потер фун мицвес, свободен от заповедей; ему официально разрешено не соблюдать их.
Главные внешние признаки того, что мальчик уже не потер фун мицвес, – талес (молитвенная шаль) и тфилин (филактерии). Есть «технический» показатель, на случай, если вдруг мальчик не знает точной даты своего рождения или возникли еще какие-то сомнения, – наличие двух волосков на лобке; этот критерий применим и к девочкам. Что касается двух первых – не столь щекотливых – атрибутов, из них более надежным (или: достоверным?) признаком зрелости являются тфилин, но интересных идиом это слово не породило. А талес, как мы вскоре убедимся, обычно связывают не с бар-мицвой, а с другой, более поздней жизненной вехой.
Глава 11
Трудней, чем заставить Красное море расступиться:
ухаживание и брак
I
Соблюдать мицвы евреи начинают с тринадцати лет, но взрослым мужчина становится только по вступлении в брак. Бар-мицва – просто констатация произошедших изменений, а не их причина; а вот хупа (свадебный балдахин) превращает мальчика и девочку в мужчину и женщину. В Библии сказано: «покинет муж своего отца и свою мать, и прильнет он к жене своей, и станут они плотью единой» (Быт 2:24), то есть перед нами уже не мальчик, но муж, а до свадьбы он – ребенок, стало быть, холостяки никогда толком не взрослеют. Идишское слово бохер может означать «неженатый мужчина» и «студент ешивы», но основное значение – «парень», «юноша»; спеша стать мужчиной, бохер мчится на всех парах, как поезд, начиненный гормонами. Для алтер бохера («старого, закоренелого холостяка») поезд уже безвозвратно ушел, и здесь не на кого пенять, кроме себя самого. Как ни странно, первая заповедь Торы – «плодитесь и размножайтесь» – адресована только мужчинам, поэтому считается, что холостой мужчина намеренно идет против законов природы, не выполняет главное условие, делающее мужчину мужчиной. Восьмидесятилетний алтер бохер – просто-напросто дряхлый мальчишка.
Еврейские старые девы тоже не растут. На идише их называют мойд («девица») или алте мойд («старая дева»). Изначально мойд означало «девственница», «юная невинная девушка», но это значение уже давно перекочевало к уменьшительной форме слова – мейдл. В сложных словах вроде кале-мойд («девушка на выданье») сохранилось старое значение, но само по себе мойд стало довольно грубым словом, примерно как «девка» или даже «деваха». Говоря «ой, из дос а мойд!» («вот это девка!»), имеют в виду отнюдь не непорочное создание, а крепко сбитую, громогласную, сварливую женщину: бабу-тяжеловеса.
Обычно алте мойд – это женщина, лишенная возможности выйти замуж. Если мужчина-холостяк сам выбирает такой образ жизни, то старая дева остается одна, потому что ее никто не берет. Она, что называется, фарзесене алте мойд («засидевшаяся в девках»). В современном идише фарзесен встречается только в сочетании с алте мойд, но изначальный смысл слова – «просиживать», «сидеть и ждать» (он сохранился в немецком: одно из значений прилагательного versessen – «просиженный до дыр», «протертый»). Фарзесене схойре – «товар, на который нет спроса», он лежит на полке и покрывается пылью; вот так и алте мойд пылится на рынке брака.
Вероятно, в еврейском народном сознании образ алтер бохера сразу же вызывает возмущение, потому что отказывается жениться, а образ алте мойд – жалость, потому что она вынуждена сидеть и ждать предложения. Алтер бохер – Питер Пэн с пейсами: до бар-мицвы он дорос, а дальше не хочет. Старая дева даже этого лишена: бай а йингл махт мен борех ше-потрани цу бар-мицве, бай а мейдл цу дер хасене («о мальчике говорят борех ше-потрани в день его бар-мицвы, о девочке – в день ее свадьбы»). Согласно еврейской традиции женщина переходит из одного решус («ведомства», «собственности») в другой. Отец освобождается от ответственности за сына, когда тот достигает бар-мицвы, но дочь можно только передать другому человеку. Если ее никто не возьмет, она на всю жизнь останется бременем на плечах отца.
Кроме того, незамужняя женщина не может выполнять главных женских мицв. Мальчиков после тринадцати уже принимают в миньян, им уже полагается надевать тфилин, а на женский пол эти мицвы не распространяются: роль матери и хозяйки освобождает их от напряженного графика мужских заповедей. Постепенно это «освобождение» превратилось в запрет, и у евреек осталось только три – сугубо женских – мицвы.
Первая называется ѓадлоке, зажигание свечей в шабат и на праздники. Вторая – обязанность немен хале, «отделять халу». Перед тем как печь что-либо, хозяйка отщипывает от теста кусочек и сжигает его в духовке – в память о тесте, которое евреи приносили коенам в качестве пожертвования во времена Храма. Если хала не была отделена до того, как тесто поставили в печь, то можно отрезать ломтик от уже готового продукта, вот зачем на упаковках с кошерной выпечкой стоят загадочные надписи вроде «хала отделена». Это такой забавный способ сказать покупателю, что он может смело есть все, за что заплатил, не беспокоясь о кошерности.
Третья вайберше мицве («женская заповедь») – ниде, совокупность разнобразных сложных правил, связанных с менструальным циклом и «чистотой семейной жизни». На практике это означает следующее: после окончания менструации женщина должна отсчитать определенное количество «чистых дней», а затем искупаться в микве. Пока женщина не совершит этот обряд, она такая же трейф, как и запрещенная еда; пока жена не вернется из миквы, она не просто трефная в сексуальном отношении, до нее вообще нельзя дотрагиваться – ни мужу, ни тем более постороннему человеку. Жена не имеет права даже передать мужу соль: она ставит солонку на стол, муж берет. Если о женщине говорят «ниде» – значит, либо у нее менструация, либо она еще не была в микве после окончания менструального цикла.
Мужчины тоже ходят в микву, но для них это не является обязанностью. Соблюдение правил ниде – исключительно женская заповедь. Женщина должна не просто рассчитывать день омовения, но и соблюдать все запреты, связанные с ритуальной нечистотой. Конечно, все это касается только замужних женщин. Девушки, которые еще не замужем, но уже достигли половой зрелости, – ниде по определению: раз нет мужа, то и ходить в микву нет надобности; следовательно, и прикасаться к ним нельзя, даже легонько. В среде ортодоксальных евреев невеста обязательно совершает омовение перед свадьбой; выбирая день свадьбы, девушки должны учитывать свой менструальный цикл, иначе праздник выйдет не очень-то веселым.
В микве также можно очищать некоторые виды посуды. Раньше на дверях микв можно было увидеть вот такое расписание:
Понедельник, среда, пятница – мужчины.
Вторник, четверг – женщины и посуда.
Умелая домохозяйка перемыла бы все разом, но служители миквы такого не позволят.
Вышеупомянутые заповеди сильно повлияли на еврейский быт. По субботам евреи едят халу: таким образом, женщина может исполнить все три мицвес одним махом. Она отделяет халу, зажигает свечи и, будучи чиста, предается любви с мужем, согласно талмудическому предписанию: ученому (в данном случае – любому еврейскому мужу) следует лечь с женой в субботу.
О важности этих мицв евреи вспоминают каждую пятницу, во время службы, в текст которой включен отрывок из Мишны: «Женщина умирает во время родов за три прегрешения: за то, что не соблюдала запрет ниде; за то, что не отделяла халы от теста; за то, что не зажигала субботние свечи» (Шабос 2:6). Все три мицвы известны как Ханоѓ (акроним, составленный из хале, ниде, ѓадлоке), то есть Анна. Идиш любит подобные сокращения, используя их и как мнемонический прием, и как повод для шуток, причем зачастую трудно отличить одно от другого. Так, слово якнеѓоз (от яин, кидеш, нер, ѓавдоле, зман – вино, освящение, свеча, субботняя «разделительная» молитва, время[31]31
Под «временем» имеется в виду благословение «Шеѓехеяну», которое произносится при первом в этом сезоне вкушении плода, на новоселье, в начале праздника и во многих других торжественных случаях: «Благословен Ты, Царь Вселенной, давший нам жизнь, поддерживавший ее в нас и дал нам дожить до этого времени».
[Закрыть]) означает либо главные атрибуты субботней трапезы, либо порядок благословений, произносимых на седере тогда, когда первый пасхальный вечер выпадает на субботу. Но это еще не все. На первых страницах старых пасхальных ѓагодес встречались изображения охоты на зайцев – наглядное напоминание о якнеѓоз, что звучит очень похоже на «йог’н ѓоз[32]32
Быстрое разговорное произношение фразы йог дем ѓоз.
[Закрыть]» («трави зайца»). Не седер, а сплошной пиф-паф, ой-ой-ой.
Акронимы используют и тогда, когда хотят прокомментировать некое абсурдное явление. Приглашая гостей на торжество, организаторы сообщают: начало во столько-то бидиек, или, как говорят в Израиле, бидьюк. Этот гебраизм нечасто используется в разговорном идише; означает он «точно», «ровно» – но, памятуя о еврейской привычке опаздывать, а также о том, что звуки [у] и [в] на письме могут обозначаться одной и той же буквой, вав, – его толкуют и как сокращение от биз ди йидн велн кумен, «пока не придут евреи». Другой пример – бицедек. О том, к кому подошли за подношением, можно сказать: «он подал бицедек» (буквально – «милосердно») Однако бицедек как идишский акроним означает биз цу дер кешене («не далее кармана»), то есть в карман он залез, но до настоящих денег так и не дошел. Есть еще выражение шпек йидиш («сальный идиш») – люди, которые только думают, что знают идиш, говорят на таком ненастоящем, некошерном языке. Шпек в данном случае – сокращение от шмок, поц, кугл – джентльменский набор для горе-идишистов.