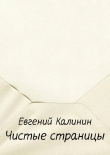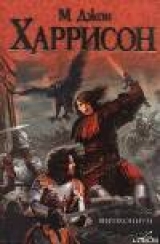
Текст книги "Вирикониум"
Автор книги: Майкл Джон Харрисон
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
Взгляд карлика стал отстраненным, восторженным. Он провел большим пальцем вверх и вниз по странно зазубренному лезвию и лишь потом вернул нож Эшлиму.
– Когда-нибудь этот нож сослужит вам добрую службу, – торжественно и зловеще произнес он. – Это я вам точно говорю.
На Эшлима его выдумки произвели сильное впечатление.
* * *
«Под конец, правда, – пишет он, – я слушал его, не веря ни единому слову. Он устает, начинает говорить невнятно, потом его голова падает на грудь, и скоро он уже храпит. Внезапно он вздрагивает, просыпается и начинает собираться домой. Он грызет ногти и опасается, что подцепил сифилис на рю де Орлонже. Он уже забыл все, что говорил. Завтра он выдумает что-нибудь еще, чтобы очернить Братьев Ячменя».
Каждую ночь перед отъездом Великий Каир передавал Эшлиму очередной подарок для гадалки. Он не желал слушать никаких возражений. Чем дольше она сопротивлялась, тем более нелепыми становились его подношения: прядь волос, кольца с непристойными гравировками, ржавый обломок кремня, найденного где-то в пустыне много лет назад и призванный символизировать верность и преданность. Гадалка принимала подарки равнодушно и твердила одно: «То, что предлагает ваш друг, пока невозможно. Я должна оставаться здесь». Карлик терял терпение. Он неоднократно утверждал, что подозревает, будто Эшлим дарит букеты, за которые заплачено немало, не Толстой Мэм Эттейле, а Одсли Кинг, что его подарки обнаружатся в мусорном ящике, что его письма не доставлены по адресу. Никакие оправдания не принимались.
– Приведите ее сюда, или хуже будет, – объявил карлик.
Эшлим окончательно пал духом и во время следующего визита на рю Серполе передал эти слова Толстой Мэм Эттейле. Толстуха строго посмотрела на него, а затем сказала:
– Очень хорошо.
Этим утром у Одсли Кинг снова пошла горлом кровь, и она лежала в кресле, приоткрыв рот, с посиневшими губами, время от времени строптиво ворочалась и бормотала что-то на языке, который был Эшлиму незнаком. Чтобы не разбудить больную, они вышли в коридор и стояли за занавеской, переговариваясь вполголоса. Эшлим был удивлен.
– Вы пойдете к нему в гости?
– Вот именно, – ответила гадалка. – Почему бы и нет?
Внезапно она покраснела и поправила волосы широкой, потрескавшейся пятерней.
– Сильный человек, в конце концов, все равно все сделает по-своему, – с довольным видом сказала она.
Глаза у Эшлима полезли на лоб.
Встреча состоялась через неделю, вечером, в одном из залов в башне карлика.
Великий Каир лез вон из кожи, чтобы подготовиться к этому событию. Всю неделю команды плотников и декораторов сновали туда-сюда, трудясь под его неусыпным надзором.
Пол был выкрашен черной краской и отполирован до зеркального блеска. Всю коллекцию живописи аккуратно сняли со стен и куда-то убрали, а стены на высоту примерно двадцати футов затянули белой льняной тканью, напоминающей пыльную тряпку. Ткань была натянута туго, как на пяльцах, создавая фон для многочисленных предметов из соломы, волоса и металла. Тут же на медных гвоздях, шелковых шнурках и хитроумных скобах, собственноручно изготовленных карликом, висели инструменты – плоскогубцы, молотки, щипцы, стамески и тому подобное. Здесь были старые снопы – пыльные, совсем высохшие и погрызенные мышами; плетенки из волос, которыми забавляются девочки; два или три капкана, почерневшие от ржавчины, и обезьянка из скрученных джутовых волокон на каркасе из мягкой проволоки. Все было украшено мягкими спиралями желтовато-зеленых ленточек. Тусклый белесый свет освещал их. Выше стена оставалось голой, цвета дымчатой умбры – цвета времени и распада.
Мебель была украшена в том же стиле. Задрапированные белой тканью, опутанные цветными лентами кресла, огромные шкафы и буфеты становились похожими на свертки, и в этом было что-то смутно угрожающее.
Сколько гостей ждал карлик? Длинный стол в центре комнаты ломился от всевозможных яств – в основном пернатой дичи, которая была приготовлена неощипанной, пирогов с глянцевой корочкой, вазочек с заварным кремом и огромных ломтей мяса, украшенных бумажными фестонами. «Ржаные детки» – фигурки, похожие на спеленутых младенцев, которых сырыми днями крутят из рафии или соломы на Срединных равнинах, лежали в корзинах с фруктами, которые соседствовали с бутылками женевера и тарелками из толстого белого фарфора. В центре стола на блюде красовался овечий череп, лакированный, с апельсинами вместо глаз. По углам стояли вазы с запоздалыми цветами боярышника, которые наполняли комнату тяжелым, убаюкивающим ароматом майских сумерек.
Толстая Мэм Эттейла беспокойно разглядывала результаты этих приготовлений. Она ничем не выдала себя, пока торопливо шагала по Хааденбоску, не глядя ни вправо, ни влево. Но странные окрестности Монруж вызвали у нее недоумение; а внимание со стороны полиции карлика, при всей ее дружелюбности, поколебало ее решимость. Она разглядывала огромную старую комнату и теребила искусственные цветы, которые украшали ее шляпку.
«Похоже, она уже жалеет, что пришла, – подумал Эшлим. – Ну что же ты, чувствуй себя как дома!»
– Ну вот, – бодро произнес он. – Видите, для вас устроили настоящее представление. Только полюбуйтесь на эти лакомства! Никто не возражает, если я украду одну сливу?
В этот момент появился карлик.
– Мне вторую ночь подряд снится одна улица, Эшлим, – начал он вполголоса, отведя художника в сторону. – Улица на Севере…
Он плеснул себе в бокал немного женевера и осушил залпом.
– Что вы думаете по этому поводу? Меня это ужасно раздражает… вообще-то я не против немного с вами поболтать.
И тут Великий Каир заметил гадалку. Через миг он был само очарование.
– Моя дорогая! – завопил он, улыбаясь до ушей и показывая все свои почерневшие зубы. – Как вы себя чувствуете? Надеюсь, вы вполне оправились после тех ужасных событий на рю Серполе?
Карлик лукаво подмигнул Эшлиму через плечо; художник отвернулся и сделал вид, что занят чем-то своим.
– Если почувствуете, что вас что-то хоть немного утомляет, – продолжал он, – только скажите!
Толстуха обеими руками вцепилась в свою шляпку, покраснела, потупилась и позволила маленькому хозяину показывать экспонаты странной выставки.
Великий Каир пользовался любой возможностью, чтобы очаровать гостью. Он то и дело поворачивался к ней так, чтобы выглядеть внушительнее. Он стоял, выгнув спину, выпятив грудь, слегка сжав руки на пояснице, и искоса поглядывал на нее, чтобы оценить, какое впечатление ему удалось произвести. По случаю ее визита он нарядился в штаны из зеленого бархата, стянутые ниже колена красным шнуром, ботинки с окованными сталью носами, в которых точно в кривом зеркале отражалась вся комната, и рубашку без воротника, а поверх нее – сияющий черный жилет нараспашку. На шее у него красовался зеленый лоскут, волосы были приглажены с помощью многократных втираний «Бальзама Альтаэн», могучий запах которого наполнял помещение, странным образом смешиваясь с благоуханием боярышника.
Странная это была пара. Они переходили от одного экспоната к другому, залитые серым светом. Показав ей все обломки костей, всех волосяных куколок, все тупые железные серпы, попарно связанные лентами, точно плетями вьюнка, он начал объяснять ей значение каждой вещи и рассказывать, как она ему досталась. Эту он выиграл в карты, другую откопал в пустыне, третья не представляла никакой особой ценности. Он ублажал и развлекал толстуху как мог.
– Можете забирать любую, – говорил он. – Все они приносят счастье.
Но гадалка смутилась и потупила взор.
Великого Каира это не остановило. Он подмигнул Эшлиму с пошловатой галантностью агента тайной полиции, словно говоря: «Я еще только начал!».
Готовясь к приему, он установил на столе какую-то машинку. Теперь он поколдовал над ней, и она заиграла жалобную мелодию. Ее тонкий голос напоминал звук кларнета, что доносится издали ветреной ночью. Карлик мерно притопывал ногой в такт, энергично кивал большой головой и, ухмыляясь, оглядывал комнату. Но это еще сильнее смутило гадалку. Убедившись, что она не станет танцевать, карлик пожал плечами и поспешно заставил игрушку умолкнуть.
– У нас на севере их была тьма-тьмущая, – сообщил он. – Взгляни. Это тоже может стать твоим.
Он решительно протянул руку и заставил женщину взглянуть на перстень, который носил на пальце.
– Здесь внутри я держу смертельный яд, сделанный из кошачьего дерьма, – хвастливо сообщил он. – Я ношу его не снимая, даже когда ложусь спать. И если когда-нибудь мне случится оказаться в положении, невыносимом для моей гордости…
Он вывинтил камень. Гадалка без всякого выражения посмотрела на тусклый порошок, который находился в углублении.
– Я могу отдать его тебе, – продолжал Великий Каир, возвращая камень на место. Толстуха медленно, как вол, покачала головой. Карлик улыбнулся и посмотрел ей прямо в глаза.
– Тогда расскажи, что меня ждет.
Настала ночь. Толстая Мэм Эттейла сидела за столом, покрытом зеленым сукном, удобно взгромоздив на его край свой внушительный бюст. Из подмышек по ее платью медленно расползались темные пятна пота. Гадалка перетасовала карты, разложила и недоуменно уставилась на них. Карлик заглянул ей через плечо и громко рассмеялся, а потом зажег лампу и сел напротив.
– Ох ты, как занятно. И что ты про это думаешь?
Унылый золотой свет заиграл на грязных, пестрых картонных прямоугольниках. Карлик склонил голову набок и принялся с любопытством их разглядывать.
– Ну же! – приказал он.
Толстуха по-прежнему смотрела на него.
– Давай!
Эшлим, всеми забытый, сидел в углу. Он спросил, можно ли ему идти домой, но карлик не позволил.
– Возможно, мне понадобится, чтобы вы отнесли еще одно послание, – небрежно бросил он.
Еда давно остыла. Овечья голова вглядывалась в густеющую темноту выпученными глазами. Внизу взад и вперед ходили подчиненные карлика – туда-сюда, туда-сюда, со срочными донесениями из Артистического квартала, со слухами из Чеминора и догадками относительно Пон-де-Нил. Но ни гадалку, ни ее клиента ничто не интересовало. Эшлим видел лишь их головы, одержимо склоненные над картами, утопающие в золотистом свете. Иногда до художника долетало приглушенное бормотание:
– Две реки – послание!
– Избегайте встреч!
Зал остывал. Эшлим неловко закутался в плащ и уснул.
Позже произошла ссора – а может, ему это приснилось. В темноте кто-то перевернул стол. С грохотом опрокинулся табурет. Упала и разбилась бутылка. Эшлим услышал, как Толстая Мэм Эттейла тяжело дышит ртом, а потом говорит:
– Мое место – на рю Серполе! То, о чем вы просите, пока невозможно!
Эшлим смешался. У него возникло странное впечатление: казалось, карты текут сквозь холодный воздух, словно между рук невидимого фокусника, и каждая маленькая, грубо намалеванная картинка вдруг становится безжалостно яркой, живой и очень далекой.
Когда он проснулся снова, светало. Если даже гадалка и карлик перевернули стол, то успели вернуть его в прежнее положение и сидели за ним, опираясь локтями на зеленое сукно, глядя то на карты, то друг на друга. Карлик взъерошил волосы, и они стали похожи на шипы, его лицо казалось помятым и нездоровым. Огромный стол был завален объедками, под локтем у Мэм Эттейлы возвышался кувшин с «кофе служанки». Засохшее молоко белело на ее волосах и верхней губе.
Казалось, они беседуют на языке, которого Эшлим не понимал. Художник встряхнул головой и откашлялся, надеясь, что они обратят на него внимание и перестанут делать вид, будто его здесь нет. Толстая Мэм Эттейла пристально и безучастно посмотрела на него, алчное выражение на ее лице понемногу начинало исчезать. Великий Каир встал и потянулся, потом вытащил из овечьего черепа один из апельсинов и, обдирая с него кожуру, направился в соседнюю комнату. Эшлим услышал сквозь стену приглушенное «у-лу-лу». В следующее мгновение в зал устремились кошки со всех окрестностей Монруж. Они окружили карточный стол, терлись о ноги гадалки… Их становилось все больше, пока комната не наполнилась их дребезжащим мурлыканьем.
– Это не мои кошки, – гордо сообщил карлик, доедая апельсин. – Они собираются ко мне со всего города, потому что я говорю на их языке, Что скажешь?
Гадалка с довольным видом пригладила волосы.
– Очень мило.
Эшлим чопорно встал, оставил их и вышел в город, где утренний свет, как снятое молоко, заливал стройплощадки и фасады новых построек, возводимых карликом. Когда художник обернулся, башня казалась сгустком темноты. Лишь наверху желтело единственное окно, а в нем – два силуэта. Художник протер глаза.,…
Карта четвертая
Повелитель Первого Деяния
Эта карта предвещает хаос и неопределенность. Путешествие или любое предприятие, исход которого предсказать невозможно. Другое толкование – колебания и непостоянство.
Я слышал в кафе, как один философ сказал:
«Мир так стар, что сама материя, из которой он состоит,
больше не знает, какой ей надлежит быть».
Анзель Патинс«Несколько записок для моего пса»
Если встать у окна мастерской художника в Мюннеде и посмотреть на Низкий Город, вы почувствуете, что ваш взгляд словно встречает на своем пути плотину и разливается, как стоячий пруд, затопляя все вокруг. Небо напоминает цветом цинк.
Эшлим тупо плыл по жизни. Возможно, он зря заварил эту кашу, зря свел карлика и гадалку.
Однажды ночью ему приснилось, что он стоит на галерее, которая опоясывает первый этаж огромного здания.
«Весь пол был завален грудами поношенной одежды, – пишет он в своем дневнике. – Среди них сотнями бродили старухи с напудренными щеками и сердитыми слезящимися глазами. Они деловито копались в вещах; черные пальто делали их похожими на жужелиц».
Потом пришли Братья Ячменя в сопровождении Великого Каира, который тут же начал раздавать разноцветные воздушные шары.
«Шаров на всех не хватало. Женщины дрались из-за них. Побагровевшие от ярости, они носились друг за другом по галерее. Я проснулся весь в поту, словно побывал в преисподней».
Портреты Эшлима по-прежнему пользовались спросом, но он заметил, что клиенты выглядят расстроенными, рассеянными, им трудно сидеть неподвижно.
«Ни с того ни с сего они вдруг впадают в уныние, – пишет Эшлим. – Через миг это проходит. Оказывается, они только что осознали, что отрезаны от всего мира, а это так утомляет. Они говорят, что живут как на острове, и мне кажется, они правы».
Вскоре в его жизни появились новые беды. Вернее, беды появились у Полинуса Рака… но Эшлиму они прибавили головной боли.
«До меня дошли слухи, – не без удовольствия отмечает Эшлим, – что он весьма неосторожно вложил деньги в Низком Городе. Если «Die Traumunden Кnаbеn» провалятся, он разорится, и все его покровители отвернутся от него. При этом они постоянно вмешиваются в подготовку спектакля, требуя сделать что-то «более приемлемое». Они хотят, чтобы декорации и костюмы разрабатывала Одсли Кинг, но те, что уже есть, их не устраивают. По их мнению, они «мрачны» или «бесцветны», но в то же время слишком «двусмысленны» и «откровенны». В итоге Рак отправляется в «Колбасную Вивьен», чтобы поужинать в одиночестве. Со мной не разговаривает. Тем временем кто-то предложил поставить другую пьесу – про Братьев Ячменя».
Эта идея вызывала у Эшлима легкую брезгливость.
«Наша парочка всемогущих идиотов настолько завладела умами, что впору увековечить ее в пьесе. Кто еще будет шататься по ночам вдоль сточных канав Мюннеда, таращиться на звезды сквозь ветки деревьев и зевать? Мы просто обязаны вывести их на сцену Театра Проспект – со всеми бутылками, гремящими у них в карманах. И конечно, не обойдется без полдюжины данди-динмонт-терьеров, которые с лаем бегут за ними от самой Линейной Массы – говорят, этих псов натаскивают на сосновый деготь и живых кошек».
Позже он сделал приписку:
«Великий Каир, кажется, боится их сильнее, чем когда-либо. «У них повсюду уши!» – твердит он и приказывает собственным шпионам усилить бдительность. Он является ко мне в мастерскую ни свет ни заря и садится, скрестив ноги, в единственное приличное кресло – как всегда, исполненный чувства собственной значимости, обремененный тайнами, которые ему не терпится обнародовать: чумная зона снова расширилась, завтра в Альвисе за попытку незаконно вывезти родственников арестуют пятнадцать человек… и так далее. Но заговорщик из него никакой. Он просто раздражительный, желчный, неуверенный в себе склочник. Стоит ему услышать, как где-то хлопнула дверь, на его лице появляется виноватое выражение, и он пытается скрыть свои чувства презрительным смешком или вспышкой гнева. Он без перерыва пьет черносмородиновый джин, и по мере того, как эта жидкость воспламеняет его воображение, он все меньше говорит о том, как обманет своих хозяев, и все больше – о побеге из города.
– Скажите на милость, Эшлим, – вздыхает он. – Неужели никому из нас уже не выбраться из этой ямы, которую мы сами себе выкопали?
И он ни словом не заикнулся о Толстой Мэм Эттейле».
* * *
По мере того как беды карлика начали множиться, его визиты в Мюннед прекратились, приглашения в башню на Монруж – тоже. Вместо этого Великий Каир устраивал тайные встречи у Шроггс-Дин, в Чеминоре и у Врат Призраков – в самых заброшенных уголках Низкого Города. Зачастую это делалось с единственной целью: побродить с полчаса под дождем по каким-нибудь старым укреплениям, заросшим кипреем. Во время прогулок карлик подбирал и снова разбрасывал многочисленные обломки ржавых кастрюль и прочей утвари, обрывки кожи. Однажды вечером, по возвращении с такого пикника, Эшлим оказался на Клавирной Луке – улочке, название которой ему ни о чем не говорило.
Он шел из обезлюдевшего пригорода в миле к северу от Чеминора – скопища нищих лачуг, обступивших крематорий; между ними тянутся грязные гаревые дорожки, вдоль которых в две шеренги выстроились тополя. Эшлим надеялся оказаться у подножия лестницы Соляной подати до темноты, но не успел. Наступали тяжелые синие сумерки, мешающие точно оценить расстояние. Он узнал трехэтажные здания с террасами, обшарпанными фасадами и разбитыми створчатыми окнами. Артистический квартал… В какую часть квартала его занесло, сказать с уверенностью было невозможно, хотя Эшлим надеялся, что оказался где-нибудь на задворках Монстранс-авеню или площади Утраченного Времени, неподалеку от густонаселенных трущоб, которые были ему хорошо знакомы.
Небольшие арочные проходы, расположенные почти на равных расстояниях, звали прочь с улочки, которая и вправду загибалась полумесяцем. Эшлим торопливо шагал мимо одной из таких арок, похожей на глубокую глотку, когда услышал негромкий возглас – не крик боли, но и не стон тоски.
Странно было слышать этот звук в чумной зоне – настолько странно, что Эшлим остановился и заглянул в арку. Проулок был сырым и неприветливым, длиной около десяти ярдов, и вел во двор-колодец, стены которого подпирали толстые деревянные брусья. Здесь, среди куч щебня, оставленного строителями, уже воцарилась ночь. Примерно в футе от одной из покосившихся стен, под плотно заколоченным окном, громоздились мешки с известкой, а среди них смутно темнела скрюченная фигура. Эшлим смог разглядеть, что человек стоит на четвереньках. Не испытывая желания входить под арку, художник неуверенно окликнул его:
– Вам плохо?
– Ага, – отозвался глухой голос. И тут же: – Не-а.
Эшлим прикусил губу.
– Можете идти?
Тишина.
– Я смогу вам помочь, только выйдите, – проговорил Эшлим.
Из-за балок донеслось сдавленное хихиканье.
– Кто там еще? – крикнул художник, напряженно вглядываясь в темноту. Человек на земле внезапно схватился за голову и застонал.
– Вы здесь один? – спросил Эшлим.
Братья Ячменя, которые провели целый день, охотясь на крыс в одичавших садах на задворках Клавирной Луки, больше не могли хранить спокойствие.
– Никого тут нет, ваша честь, – замогильным голосом сообщил Мэйти. Похоже, братцы в жизни не слышали ничего более забавного. Засунув себе в рот носовые платки, они принялись кататься по земле. Потом, как пробки из бутылок, выскочили из тени, где все это время прятались, и, давясь от хохота, двинулись к подворотне, прочь со двора.
– Какой ужас! – заорал один.
– Протяни ему посох, викарий!
Их физиономии, расплывающиеся в ухмылках, покачивались в сумерках над головой Эшлима, как красные воздушные шары. От них назойливо несло хорьками и бутылочным пивом. Крошечные денди-динмонт-терьеры, истерично повизгивая, вертелись у их ног, обутых в тяжелые ботинки с окованными носами.
– Я сделал пи-пи, – сообщил Гог. – Сам сделал!
Эшлим вскипел.
– Оставьте нас в покое! – закричал он. – Отправляйтесь туда, откуда пришли, и забудьте про это место!
Но Братья лишь пуще расхохотались и убежали вниз по Клавирной Луке, рыгая, пукая и спотыкаясь о своих собачонок.
Когда эхо их шагов наконец стихло, Эшлим отправился во двор – посмотреть, что с человеком, который там лежал. Тот весь дрожал, как в лихорадке, постанывал, потом вполголоса бормотал вроде «Где я? Ох, где я?» На его теле не было никаких заметных повреждений. Одежда, измятая и покрытая белой пылью тем не менее выглядела вполне пристойно, он даже не потерял широкополую фетровую шляпу, какие последнее время вошли в моду в Высоком Городе. Однако он был не в состоянии сказать, кто он такой и как сюда попал. Когда Эшлим говорил «Если вы сможете встать…», он только хныкал и поглубже забивался в щель между мешками с цементом. Художник опустился на колени и попытался поднять незнакомца. Тот вяло сопротивлялся; его шляпа слетела, и Эшлим узрел дряблую физиономию и полные ужаса глаза Полинуса Рака.
– Во имя всего святого! Что вы здесь делаете, Рак?!
– Я заблудился, – беспомощно прошептал антрепренер и уцепился за рукав Эшлима. – Тут повсюду нищие… Постарайтесь их не дразнить.
Внезапно он снова задрожал и прошипел:
– Ливио, все эти дороги ведут в одно и то же место! Ливио, они не ведут ни-ку-да! Ливио, не бросай меня! Не бросай меня!
Тяжело дыша, опираясь на плечо Эшлима, Рак поднялся на ноги, да так и застыл с отвисшей челюстью, глядя вокруг испуганным, невидящим взором.
Ночь они провели в кафе «Люпольд» – в оцепенелой тишине, сидя на расстоянии вытянутой руки друг от друга.
Барменша замерла за оцинкованным прилавком, уставленным мелкими стеклянными тарелками с крыжовником, пропитанным лимонным джином, который вот уже тридцать лет считался здешним фирменным блюдом. Из-за двери у нее за спиной вырывались струйки пара. Когда она не обслуживала посетителей, то сидела неподвижно, сложив руки на коленях и глядя в никуда, похожая на цепную собаку у ворот. Насекомые толклись у синеватых, неровно горящих ламп, разлетались по углам и снова возвращались к лампам. Для отцов нынешнего поколения это место было сердцем Артистического квартала, центром вселенной. Теперь его стены покрылись несмываемым лаком сальной копоти, на которой выцарапывали непонятные подписи выскочки всех видов и мастей. За столиками с мраморными столешницами вместо легендарных поэтов и живописцев теперь сидели лишь мошенники да спорщики-неудачники, которые писали здесь бесконечные письма сильным мира сего.
«Карантин» – вот единственное слово, которое они знали. Они могли чувствовать его вкус у себя во рту. Они постоянно размышляли о нем, а чума серой пылью, мелкой моросью оседала у них на плечах. К Полинусу Раку вернулось прежнее остроумие, хотя его глаза оставались тусклыми и полными страха. Что с ним стряслось, до сих пор оставалось неясным. Он противоречил сам себе на каждом слове. Сначала он утверждал, что пошел в Низкий Город в одиночку, потом – что с Ливио Фонье и еще одним человеком, их общим другом, который «сбежал, как только понял, что мы затеяли». Он говорил, что они вышли в одиннадцать утра, потом стал настаивать, что точно помнит, как всю ночь провел во дворе, где Эшлим нашел его. Он сказал, что его угораздило нарваться на каких-то нищих попрошаек, от которых пришлось прятаться. А позже похвалялся, что это были члены карантинной полиции, работающие под прикрытием, и что у них был ордер на его арест.
Как бы ни обстояли дела на самом деле, ясно было одно: чумная зона пугала его и сбивала с толку.
– Деревья, здания, сточные канавы – все улицы на одно лицо, Эшлим! Мы потеряли чувство направления…
Но тут же он вспомнил об испытаниях, которые обрушились на его голову во дворе-колодце:
– Знаете, я несколько часов слушал, как эта мерзкая парочка веселится в доме. Они громили все, что попадалось под руку, и смеялись надо мной… – его передернуло. – Крик, визг! Со мной в жизни ничего хуже не случалось.
Эшлим окинул его безжалостным взглядом.
– Вы дурак, раз вообще пошли туда. Что с Ливио Фонье?
Рак отвел взгляд, некоторое время разглядывал свои жирные ручки, потом слабо улыбнулся.
– Знаю, – он вздохнул. – Знаю, это было безрассудно… Но такова моя натура. Как я могу отблагодарить вас? – он шумно отхлебнул из стакана. – Сейчас мне уже намного лучше.
Что касается Фонье, то Рак сказал лишь одно:
– Я оставался с ним до последнего, Эшлим. Но он был настроен иначе, чем я. Он был уверен, что подцепил какую-то заразу. Потом мы повернули в сторону Высокого Города и поссорились. Он ударил меня… А под конец он рыдал. Рыдал…
– Тут вы всегда будете теряться, – проговорил Эшлим, отметив про себя, что Фонье рассказал бы совершенно другую историю. – Но только ни в коем случае не поддавайтесь панике. Когда я только-только приехал сюда, но старался держаться поближе к площади Утраченного Времени. В конце концов вы привыкаете. Фонье нашел дорогу? Или мне идти его искать?
Рак вытер губы.
– Неужто Гюнтер Верлак? – он фальшиво улыбнулся кому-то в другом конце зала. – Пойду поболтаю с ним.
Больше Эшлим ничего не смог от него добиться.
Около одиннадцати они встали и вышли наружу, поеживаясь в пустоте сумерек. За соседним столиком сидел поэт Б. де В. и увлеченно писал письмо. Когда Рак и Эшлим проходили мимо, он поднял свое бледное, безобидное овечье лицо и повернулся.
– Мы никогда не сможем отсюда уйти. Никто из нас не сможет, – охотно сообщил он, словно они спрашивали его мнение.
Барменша сидела за прилавком и смотрела им вслед. Ее руки были сложены на коленях, перед ней стыла голубая чашка с шоколадом.
Эшлим проводил Рака до верхних ступеней лестницы Соляной подати. Антрепренер пожал ему руку; ему не терпелось умчаться обратно в Мюннед.
«Этому не будет конца, – напишет позже Эшлим, – особенно теперь, когда он побывал в чумной зоне».
И далее:
«У него была только одна надежда – что он заставит Одсли Кинг переделать эскизы для «Мечтающих мальчиков». Но я не думаю, что она смогла бы ему помочь, даже если бы ему удалось добраться до рю Серполе».
Сам Эшлим продолжал навещать Одсли Кинг. Однажды около полудня по ее настоянию он развел костер в маленьком саду на заднем дворе ее дома и вынес ее на улицу, чтобы она смогла полюбоваться этим зрелищем.
– Какая прелесть, – прошептала Одсли Кинг.
Ветра не было. За высокими кирпичными стенами – завешенные толстым ковром ежевики, сенны и красноватого плюща, они приглушали звуки стройки, доносящиеся со всех сторон, – воздух имел острый, совершенно восхитительный запах, а свет странным образом отдавал лимонной желтизной. Дым от костра, которым Эшлим очень гордился и воодушевленно подкармливал огонь сухими ветками ясеня и золотистыми побегами сенны, неподвижно висел над домом. Даже смешиваясь с дымом костров на стройке, он не терял того пряного, терпкого аромата, который можно почувствовать лишь осенью. Одсли Кинг с нежностью наблюдала за пламенем, чуть заметно улыбаясь каким-то воспоминаниям. Но когда Эшлим начал обрывать живые плети плюща, она с упреком заметила:
– Осторожней, Эшлим. Можно подумать, они связывают руки твоей мечте. Они будут мстить.
Но собственные мечты занимали ее куда сильнее.
– Давай лучше жечь мебель. В ближайшее время она мне не понадобится.
Эшлим осторожно следил за женщиной. Она что, дразнит его? Непонятно. Настроение у художницы то и дело менялось.
– Рисуй меня! – ни с того ни с сего потребовала она. – Не понимаю, как ты можешь тратить время, когда такой свет уходит.
Это был долгий, странный день.
Слишком тяжелый воротник шубы Одсли Кинг и бесцветный свет смягчали ее почти мужские черты, делали их мельче, пока она, точно ребенок, смотрела из окна на пламя. Эшлим, вдохновленный, напряженно работал: прежде его модель никогда не была такой усидчивой.
Тем временем Толстая Мэм Эттейла входила и выходила, излучая спокойствие, которое сделало бы честь каменному монолиту – она выносила и сжигала мусор. В огонь летели старые рамки, окровавленные носовые платки Одсли Кинг, стул, у которого не хватало ножки, картонная коробка, в которой, когда она порвалась, обнаружилась пачка бумаг, перевязанных старой лентой. Гадалка следила, чтобы все сгорало дотла. Ее умиротворенное лицо раскраснелось от жара пламени, подмышками появились темные пятна пота. Она походила на большую терпеливую лошадь, которая, оттопырив нижнюю губу, пристально глядит на пустое поле.
Эшлим тайком поглядывал на нее. Виделась ли она с Великим Каиром после той странной встречи на Монруж? Он не был уверен. И не умел читать мысли.
Потом на балконы выбрались старухи, чтобы смотреть в небо, точно животные, которых собираются утопить. Толстая Мэм Эттейла достала карты, разложила их на старом, покрытом сукном столе, и предсказала «хороший брак, плохой конец»– По соседству рабочие обрушили стену – скорее случайно, чем ради какого-то проекта, – и старухи, понимающе хихикая, смотрели, как пухлые облака пыли поднимаются к небу. Лучи света украдкой ползли по мастерской, точно стрелка по циферблату, пока не оказались позади мольберта Эшлима. Одсли Кинг снова отвернулась. Жар пламени словно оплавил ее узкое лицо, ее профиль, похожий на угольник, смягчил морщинки вокруг рта. Эшлим не осмелился просить свою модель изменить позу: уютное потрескивание огня рождало завораживающее ощущение, будто время замедляет ход… начинает идти вспять… Он взял уголь и принялся за новый набросок. Несколько минут он царапал по бумаге. И тут Одсли Кинг произнесла:
– Перед тем, как приехать в Город, я остригла волосы. Это было первым из многих моих символических жестов, которые оказались роковыми.
Она некоторое время размышляла над собственным утверждением, словно пытаясь оценить, насколько оно соответствует истине. Эшлим, в котором проснулось любопытство, искоса посмотрел на нее, но из осторожности ничего не ответил.
– Это была осень накануне моей свадьбы, – продолжала Одсли Кинг. – Слуги выносили мусор, который скопился в доме за прошлый год, и жгли его в саду – в точности как мы сейчас. Наши родители наблюдали, а дети бегали вокруг, гомонили или смотрели в алое сердце огня, и вид у них был такой серьезный. Как мы любили эти осенние костры!