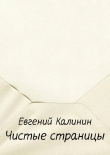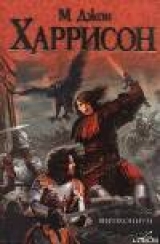
Текст книги "Вирикониум"
Автор книги: Майкл Джон Харрисон
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
Полинус Рак в своем неизменном пальто сидел на полу. Как его сюда занесло, Эшлим не знал. Лицо антрепренера обмякло и казалось измученным, руки перепачканы, он смотрел так, словно мир только что глубоко оскорбил его. Перед ним лежало несколько незавершенных набросков углем. Казалось, он надеется что-то прочитать в них и не может. Но на бумаге были только линии, проведенные так и эдак – и больше ничего.
А между коленей у него устроилась Одсли Кинг, она тоже смотрела на свои наброски, а Рак баюкал ее, как больного ребенка. Он обнимал ее, чтобы ей было удобнее сидеть. Его голова склонилась ей на плечо, и можно было подумать, будто он нашептывает ей на ухо какие-то слова. Закутавшись в старую шубу в последней попытке не дать жизни испариться, уйти в пустоту, которая всегда окружала ее, Одсли Кинг смотрела на наброски насмешливо, удивленно, и в уголках ее застывших, улыбающихся губ запеклась кровь.
«Я свободна!»
Эшлим вспомнил, как она говорила это вскоре после того, как прибыла из провинции и поселилась в Артистическом квартале.
«Я свободна, я наконец-то могу рисовать, рисовать, рисовать!»
Живопись наконец-то отняла у нее последние силы.
Все последние дни Одсли Кинг работала как одержимая, заполняя холст за холстом. Большинство из ее работ представляли собой простые, почти сентиментальные пейзажи, нарисованные по памяти. Сонный золотистый свет толстым слоем покрывал лезвие ножа, которым она чистила палитру. Казалось, в этой страстной безмятежности, удивительным образом уравновесив отчаяние и спокойствие, она хотела вернуть себе ту непохожесть, которую давным-давно утратила, сознательно или в силу обстоятельств. А может быть, она просто хотела вырваться из пустых, бесконечно долгих ночей чумной зоны? Выходит, карты не обманули ее? Выходит, она все-таки открыла эту дверь, окружив себя идеализированными пейзажами своей юности, и наконец-то решилась совершить побег из действительности – путь, который всегда презирала?
Эшлим не мог сказать наверняка. Скорее всего это было уже не важно.
Камень цвета меда, дуб и плющ, ивы и ручьи… Ее восторг изливался в них, затмевая свет желтых ламп, на полуслове обрывал намеки серого рассвета, пытающегося сообщить о своем приближении! Узкая тропинка, уходящая в никуда, засыпанная прошлогодними листьями, окруженная зарослями ежевики и молодой порослью. Простые южные пейзажи переполняла жгучая ностальгия, граничащая с болью. И их населяли не застылые, неистово напряженные, скованные фигуры автопортретов и «фантазий», а батраки и фермеры, чьи классические позы смягчала будничная непринужденность.
«Все это для меня так ново, – торопливо, небрежно нацарапала она на стене, возле которой стояли эти холсты. – То ли непознанно, то ли неузнанно. Как жаль, что я уже должна умереть».
И дальше:
«Умирать – это как с глаз долой. С глаз долой – с сердца вон».
Эшлим прочел послание самому себе, вслух. Моргнул. Встал перед Полинусом Раком и принялся разглядывать наброски на полу.
– И что такого вы в них нашли? – осведомился он, поскольку не видел решительно ничего интересного.
Измученные глаза антрепренера, голубые, точно у фарфоровой куклы, следили за Эшлимом, не узнавая, лицо оплыло. Внезапно из его груди вырвался жуткий звук, низкий, сдавленный рев – слов Эшлим не разобрал, – и он снова начал качать Одсли Кинг, туда-сюда, туда-сюда, пока она, словно очнувшись, не начала кивать в такт его резким, мерным всхлипам. Что-то наполнило ее тонкое белое лицо, вернуло жадность морщинкам вокруг губ, оживило длинные руки, некогда полные силы – не былая энергия, но пародия на нее. Эшлим не мог смотреть на горе Рака и отошел к окну.
– Вы пришли слишком поздно, – отстраненно проговорил он. – Незачем поднимать шум, ничего хорошего из этого не выйдет.
Почти рассвело. Небо приобрело странный, седовато-желтый оттенок.
– По какому праву вы вообще сюда явились? – Эшлим горько рассмеялся. – Приехали спасать свою карьеру с помощью ее новых картин? Или убеждать ее превратить «Мечтающих мальчиков» во что-нибудь повеселее, в угоду ленивым старухам из Высокого Города?
– Плевать я хотел на этих старух! – яростно выпалил Рак. Он вскочил и схватил Эшлима за плечи. – Я много раз пытался сюда придти! Я боялся, а вы отказались мне помочь. Но хотя бы сейчас дайте нам побыть вдвоем!
Эшлим насмешливо хмыкнул и освободился.
– Отправляйтесь к каналу и подышите свежим воздухом. Может, вам захочется туда прыгнуть.
– Вы мне не поможете? – спросил Рак уже мягче. – Мне кажется, она еще жива.
– Вы рехнулись, Рак.
Вместе они вынесли художницу на рю Серполе. Работа была непривычной, и они двигались медленно и осторожно. Снаружи на тротуаре собралась толпа, все смотрели в небо. Когда Эшлим поднял глаза, наступил рассвет, и он увидел двух принцев-великанов, правителей города. Великолепные, верхом на огромных белых лошадях, в шипастой алой броне они плыли по утреннему небу над Артистическим кварталом, точно новое созвездие. Один из принцев был ранен, и этой ране, наверно, никогда не суждено закрыться. Кровь капала на город, точно дождь из белых цветов – на город, который лишь сейчас начал просыпаться от долгой, серой, мучительной дремоты.
Эпилог
Однажды, много дней спустя, копаясь в ящике в поисках карандашей, которым вроде как полагалось там лежать, Эшлим обнаружил маску в виде рыбьей головы – ту самую, которую Эммет Буффо заставил его надеть во время их неудачного визита на рю Серполе. Никогда в жизни Эшлиму не доводилось испытывать такого ужаса.
«Бред какой», – думал он, в то время как маска смотрела на него с неким сожалением. При виде этой маски – толстогубой, тупой, с облезлой чешуей, – Эшлим почувствовал, как его переполняет что-то вроде стыдливой нежности к Буффо… и к самому себе – такому, каким он когда-то был. Маска вдруг напомнила ему о треске и шафране, о солнечном утре в Посюстороннем квартале и старике, который жил за Святой Девой Оцинкованной. Вещь следовало вернуть законному владельцу.
Старая мощеная площадь осталась такой, какой он ее помнил. Да, сегодня не было так тепло, зато сияло солнце. Бледный чистый свет последних декабрьских дней косо падал на булыжники и заливал почерневшую громаду старой церкви. Как и прежде, гомонили дети, играющие в «слепого Майка», Эшлим мог расслышать, как из соседнего дома долетают женский смех и звуки перебранки. Внезапно его охватило ликование, хотя он сам не понимал, почему.
«КЛЕТКИ», гласила полустертая вывеска над лавочкой. Эшлим остановился, улыбнулся, заглянув в маленькое пыльное окошко, где луч солнца окрасил чучела в цвет свежеопавших дубовых листьев, и вошел.
Птицы, тихие и напряженные, следили за ним с каждой полки. Они с умным видом склонили набок свои головки, да так навсегда и застыли в этом положении, стеклянные глаза поблескивали. Из рабочей комнаты доносился сладкий древесный запах старых книг и ромашкового чая. Эшлим пробрался между груд подержанного тряпья и остановился у подножия лестницы.
– Добрый день! – крикнул он.
Ответа не последовало, но художник чувствовал, что старик там. Встревоженный, пугливый, он старается дышать неглубоко и дожидается, пока Эшлим уйдет.
– Не бойтесь! – крикнул Эшлим. – Я как-то заходил к вам со своим другом, Эмметом Буффо.
Тишина.
Эшлим пожал плечами. Подожди он немного, и любопытство заставило бы старика спуститься. Возможно, он принес бы еще одно металлическое перо. Однако художник вытащил рыбью маску, аккуратно развернул и положил на рабочий стол рядом с мотком мягкой проволоки, которой предстояло помочь маленькому ястребу с полными ярости глазами развернуть крылья.
– Старик, я не могу здесь задерживаться…
Поморщившись, он перевернул несколько тряпок, которые валялись на полу. Среди них обнаружился кусок тяжелого гобелена. Из него мог получиться неплохой занавес. Эшлим нервно развернул ткань, помня урок, который получил во время прошлого визита. Гобелен был все так же покрыт пятнами, все так же сиял – когда-то эта вещь выглядела потрясающе. На нем был изображен старик, пожелтевший от старости, лысый, как яйцо. Он остановился в проходе между двумя огромными зданиями. Дорога под его ногами была усыпана панцирями насекомых; слева ехал на ослике ребенок – а может быть, и карлик: фигурка была слишком темной. Но этот малыш произвел на Эшлима особенно сильное впечатление – особенно его личико, почти полностью замазанное грязью. Художник поднес гобелен к свету, чтобы разглядеть получше.
Тут в комнате наверху шумно захлопали крылья. Внезапно лавочку словно наполнили тысячи теней.
«Большая птица влетела в открытое окно, – писал он позже в своем дневнике. – Мне показалось, что я смутно слышу голос, который что-то говорит мне из темноты. Я положил гобелен на место и поспешно вышел на улицу».
ПУТЕШЕСТВИЕ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В ВИРИКОНИУМ
В день назначения нового архиепископа телеоператор обнаружил на крыше Йоркского Кафедрального собора «труп, разложившийся до неузнаваемости». Человек пропал восемь месяцев назад из местной больницы. Согласно сообщению, он упал с башни, хотя никто не представлял, как туда можно забраться. Я узнал об этом из выпуска новостей местной радиостанции. Сообщение больше не повторялось – это Меня просто восхитило. За весь день ни на одном канале никто об этом происшествии даже не заикнулись. Впрочем, о церемонии, которая происходила в соборе, тоже.
На мистера Амбрэйсеса это произвело не столь сильное впечатление.
– Один шанс из тысячи, что нам от этого будет какой-то толк, – заявил он. – Один из тысячи.
Я все-таки поехал в Йорк, а он со мной. На то у него имелись свои причины: надо было зайти в лавку букиниста и к чучельнику. Улицы пестрели политическими плакатами. Уже во время церемонии муниципальные служащие кропотливо замазывали их по всему маршруту следования процессии. Человек на крыше, я как я выяснил, оказался обычным пациентом хирургического отделения, так что мистер Амбрэйсес был прав: я съездил впустую. Нас интересовали случаи, связанные с психиатрическими лечебницами и особенно с домами престарелых.
– Все мы хотим в Вирикониум, – любил повторять мистер Амбрэйсес. – Только старики хотят по-настоящему!
В ночь, когда мы возвращались домой, он добавил:
– Но здесь это никому не нужно. Неужели не видите?
Поезд на Лидс отходил в 11.52. Подростки набились в вагоны, как селедки в бочку. Короткие стрижки придавали старшим мальчикам смущенный и жестокий вид. Их лица – особенно подбородки, которые они старательно выпячивали – посинели и побелели холода. Девочки лукаво поглядывали на мальчишек, пересмеивались, потом опускали глаза и потуже натягивали перчатки с обрезанными пальцами. То и дело подростки высовывали головы из окон и кричали «Пошли все на…!», и ветер уносил их крики. Позже, выходя из поезда, мы видели, как они прыгали взад-вперед через невысокий металлический барьер – залитые желтым, как натрий, светом, – легкие, непостижимые и полные сил, как кузнечики на солнце. Чувствуя мое разочарование, мистер Амбрэйсес мягко заметил:
– Случается, что нам так хочется туда попасть, что мы непременно находим путь.
– Я еще не настолько стар, – отозвался я.
Мистер Амбрэйсес жил по соседству вот уже два года. Впервые я узнал о его существовании, когда смотрел новости. Тело под цветным одеялом, внезапно упавшее в футе от забора из рифленого железа; камера, наползающая на маленький красный мазок – словно у кого-то пошла кровь носом… Он вытер ее туалетной бумагой; потом как бы в недоумении перевел взгляд на вертолеты, щебень, на какую-то важную персону, входящую в здание, женщину в конце улицы… И тут за тонкой перегородкой послышался тихий, довольный смешок мистера Амбрэйсеса: «Хе-хе-хе». Я перестал следить за экраном. «Хе-хе-хе», – смеялся он, и я чувствовал себя так, словно смотрю фильм на незнакомом языке. Он-то смотрел только комедии положений и шоу из варьете.
В первый раз его смешок подействовал на меня как катализатор, обостряющий чувствительность к явлению, именуемому «мистер Амбрэйсес». Я начал замечать его повсюду, точно новое слово, которое только что узнал. В саду, где в застекленных дождем бетонных дорожках отразилось небо; в кафе «Мария» с каплями джема на пальцах – он слизывал их короткими клевками, точно ребенок или животное; в продуктовом отделе Солсбери с пустой металлической корзиной, которая висела у него на руке – там он разглядывал полку с мясными консервами… Повсюду был этот человек средних лет в грязном замшевом пальто. Казалось, ему совершенно нечего делать. Я видел его в автобусе во время однодневной поездки на Мэтлок Бат, в одной овчинной рукавице. Его брюки казались слишком велики, из-за чего задняя часть отвисала и болталась между ног, точно клапан палатки – возможно, потому что была пришита ярко-желтой ниткой, грубой, как проволока. В автобусе сидело множество пожилых дам, которые улыбались друг другу, кивали и читали вслух все, что было написано на указателях, словно одни придумывали пейзажи, мимо которых они проезжали, а другие повторяли, чтобы не забыть.
– Смотрите, это Джодрелльская антенна!
– Джодрелльская антенна…
– А вот А623!
– …А623.
В первый раз, когда мы заговорили, мистер Амбрэйсес сообщил мне:
– Своеобразие – не предмет договора. Своеобразие, которого вы достигли в результате соглашения – всегда тюрьма.
В другой раз я отправился покупать «вапону». Повсюду возвышались домики, которые все лето кажутся такими уютными – так и хочется туда зайти, но в первую же неделю сентября в них поселяются сырость и холод. Комнатные мухи, которые весь август бодро ползали по незрелым стручкам люпина под окном, теперь искали любую теплую поверхность – тепло притягивало их, как магнит. Особенно они любили пол возле электрокамина и пыльную заднюю сетку холодильника. Они облепляли даже стенки чайника, как только тот чуть-чуть остывал. Еду этим летом невозможно было оставить ни на секунду. По утрам, стоило мне присесть и вытянуть ноги, чтобы немного почитать, как мухи начинали ползать по моим икрам.
– Кажется, у вас та же проблема, – сказал я мистеру Амбрэйсесу. – Я пробовал их травить, но им все нипочем… – я продемонстрировал ему коробку «вапоны», украшенной изображением огромной мухи. – Может, повторить попытку?
Мистер Амбрэйсес кивнул.
– Обычно этому есть два объяснения, – начал он. – В первом нас просят представить некое место – трещину в бетоне в Чикаго или Нью-Дейли, смерч в пустом пригороде Праги, бутылку со скисшим молоком на Брэдфордском мысу, – откуда непрерывным потоком выползают мухи, точно дым, возникающий на каком-то ужасном фундаментальном уровне. Вот о чем спрашивают люди – хотя сами об этом не знают, – когда возмущенно вас спрашивают: «Откуда они только берутся, эти мухи?» Эти места похожи на дыры в стене нового дома, из которых торчит изоляция – что-то такое, что осталось от тех времен, когда этот мир только конструировали. Вполне адекватная модель процесса, чем-то даже симпатичная. Но она безнадежно устарела. Я предпочитаю другую. Она заключается в следующем: Вирикониум со скрежетом ползет мимо нас и тянет за собой огромный кусок своего мира, который цепляется за огромный кусок нашего мира. Энергия, которая при этом вырабатывается, принимает форму этих насекомых. Знаете, как искры, которые летят во все стороны, когда два огромных маховика чиркают друг о друга.
Вот как начинается один знаменитый роман:
«Я попал в Вирикониум в тот век, который может обнаружить себя лишь в собственных символах, в эпоху, когда каждый стремится выразить собственный опыт через символические события прошлого.
Я следил за собой как бы со стороны. Вот я поднялся на борт авиалайнера, который взмыл в воздух. Над Атлантикой раскинулось другое море – море из белых облаков, оно горело на солнце. Единственная вещь, которую мы узнали в этом бескрайнем белом пространстве – след другого авиалайнера, который летел параллельным курсом. Потом все исчезло. Нам предложили поесть, посмотреть фильм, потом другой. Капитан извинялся за неблагоприятные ветры, за турбулентность, хотя путешествие представлялось нам более чем спокойным. Казалось, он приносит извинения за свое трудное детство.
Свет в Вирикониуме похож на свет, который вы можете увидеть разве что на конвертах виниловых пластинок и цветных вклейках. Фотографическая точность всех линий и пустое синее небо – вот одна из наиболее характерных особенностей пейзажа Вирикониума. Кажется, что обычные предметы – книга, ваза с анемонами, чья-то рука – нарочно подсвечены так, чтобы выделяться на общем фоне. Эта подсветка словно подчеркивает неповторимость каждого из них. Их визуальная отчетливость превращается в некую метонимию реальности, которую мы чувствуем и в них, и в нас самих.
Я поселился в одном из высоких серых зданий, которые выстроились в линию на высотах над Мюннедом».
И конечно, вам не удастся просто взять и полететь туда.
Вскоре после поездки в Йорк я устроился на работу в городе, в кафе для туристов. Кафе называлось «Врата» и существовало при книжном магазине. Идея заключалась в следующем: вы можете зайти, пройтись вдоль полок, полистать книгу, а заодно выпить чашечку кофе. У нас было пять или шесть столов, покрытых синими скатертями, весьма ограниченное меню, в котором числилась только самопальная выпечка, и картины местных художников на стенах. В сырую погоду в середине дня, когда тринадцать клиентов обжирались печеньем и информацией на деревянных стульях, кафе казалось переполненным, а их пальто в углу повышали влажность в помещении. Но чаще кафе пустовало.
Однажды к нам зашли мужчина и женщина. Они сели неподалеку друг от друга, но за разные столики. И начали таращиться по сторонам, словно здесь все для них в новинку.
Мужчина был в коротком габардиновом жакете на молнии, одетом поверх зеленого вязаного пуловера и розовой рубашки. Из-за коричневой фетровой шляпы его голова казалась маленькой, а подбородок – очень острым. Явно немолодой, он обладал лицом без возраста: его гладкую загорелую кожу покрывали потеки грязи, что делало его похожим на маленького мальчика, измученного недавней болезнью, которая заодно наградила его морщинками вокруг глаз. Ему могло быть от тридцати до шестидесяти. Для одного он выглядел слишком старым, для другого – слишком молодым… В общем, с ним явно было что-то не так. Его взгляд быстро перемещался с предмета на предмет, словно он никогда не видел ни настенных календарей с изображением центра Галифакса, ни кресел, не тарелок; как будто он каждую секунду удивлялся и не мог понять, как его сюда занесло.
Я представил, как в один прекрасный день он покидает одну из ферм к югу от Бакстона, где ветер носится по Северной Стаффордширской равнине, и люди в поношенной одежде неделями сидят перед сломанным телевизором, слушая, как хлопают ворота. Потом мужчина наклонился к другому столику.
– Завтра случайно не пятница? – мягко спросил он.
– Что, простите? – отозвалась женщина. – Ах, да. Конечно, пятница. Да… – И когда он добавил что-то – слишком тихо, чтобы я мог услышать, – сказала: – Нет, фруктового пирога нет. У них здесь такого не бывает… Никаких фруктовых пирогов, у них такого не бывает.
Она коснулась его одним пальцем.
– Только не здесь.
Склонив голову набок и ловко держа ложку под углом, чтобы видеть дно своей кофейной чашки, она вычерпала оттуда полурастаявший сахар. Одновременно она поглядывала на других клиентов с неким возбужденным удовлетворением, точно эскимос или папуас в старом документальном фильме – застенчиво, зорко, взглядом, который словно говорил: «вам лучше уйти», с тем равнодушием, с каким делается нечто такое, что культурные люди считают недопустимым. Операция была произведена во мгновение ока; она успела даже проглотить сахар и облизнуть ложечку. Закончив, она откинулась на спинку кресла.
– Я подожду, пока принесут еще чая, – пробормотала она. – Я подожду.
Она так и не сняла ни свое пальто в желтую и черную клетку, ни красную вязаную шапочку.
– Хотите кофе? – и видя, что мужчина пристально, с какой-то болезненной рассеянностью разглядывает пейзажи на стенах, добавила: – Эти акварели – те, что на стене… надо приглядеться, чтобы понять, что это акварели. Прелестно.
– Не хочу я никакого кофе.
– А мороженое будете?
– И мороженого не хочу, спасибо. От него в животе холодно.
– Будет лучше, если вы пойдете наверх и посмотрите телевизор. Просто посидите перед ним.
– Почему я должен смотреть телевизор? – спокойно откликнулся мужчина, отводя взгляд от картины, изображающей городской мост под дождем. – Я не хочу ни чая, ни ужина. И завтракать каждое утро тоже не хочу.
Он на миг сплел руки, уставился в пустоту. Его глаза торжествующе сияли, как у мальчишки, получившего пятерку… Потом он ни с того ни с сего начал рыться в карманах.
– Здесь нельзя курить, – торопливо заметила женщина. – То есть я сомневаюсь, что здесь можно курить. Кажется, я видела табличку «курить запрещено», потому что здесь едят. Вы же видите, здесь никто не курит.
Когда они вставали, чтобы заплатить мне, он сказал:
– Славно, когда все меняется.
Тон у него был вежливый, но голос звучал мягко и печально, как у калеки, который проснулся в полдень, не понимая, где очутился, и спрашивает медсестру, которая только что сменилась: «Уже день, верно?»;
Они прибыли на автобусе из пригорода по другую сторону Хаддерсфилда – по словам мужчины, местечко называлось, то ли «Лок-вуд», то ли «Лонг-Вуд».
– Славно, когда все меняется, – повторил он, – особенно когда погода хорошая.
И прежде чем я открыл рот, добавил:
– Меня сегодня знобит, если вы успели заметить. У меня бронхиальная пневмония… Больше всего это похоже на бронхиальную пневмонию. Я уже год как болею. Год, а то и больше, и никто в этих «оздоровительных центрах» не может мне помочь. Верите? Когда на улице сыро, у меня легкие наизнанку выворачивает.
– Идемте, – перебила женщина. Хотя голос у него был таким тихим, что никто ничего не услышал, она усмехнулась и чуть заметно кивнула остальным посетителям, словно извинялась за своего спутника.
– Ничего страшного, – громко объявила она.
И подтолкнула его к дверям.
– Знаете, я ему не жена, – бросила она через плечо, обращаясь ко мне. – Скорее медсестра и спутница, вот уже года два. У него есть деньги, но не думаю, что соглашусь выйти за него замуж.
Она походила на волнистого попугайчика, который кивает и передергивает плечиками перед зеркалом в своей клетке.
Полчаса спустя я подошел к окну. Они все еще стояли на автобусной остановке. «Ничего у них не выйдет», – подумал я.
Смысл их фраз был тщательно спрятан в изломанных ритмах диалога, полного полунамеков. Их жизни так переплелись, подавляя друг друга, что каждое слово походило на волокно, которое высунулось из старого клубка и которое стараются тут же засунуть обратно.
В конце концов автобус пришел. Когда он отъехал от остановки, мужчина сидел на одном из передних мест на нижнем этаже и рассеянно разглядывал цветочную витрину, а его спутница – чуть дальше, по другую сторону от прохода, вздрагивая каждый раз, когда мужчина пытался закурить. Она пыталась привлечь его внимание к чему-то, находящемуся со стороны тротуара, чего он просто не мог видеть со своего места.
Когда я рассказал о них мистеру Амбрэйсесу, он заволновался.
– Тот мужчина… у него был такой шрамчик? Слева, у самых корней волос? Как полумесяц, который выглядывает из-под челки?
– Откуда мне знать, мистер Амбрэйсес?..
– Не важно. Это – доктор Петромакс. Когда-то это был человек потрясающих способностей. Он использовал свой дар с умом и вскоре узнал, какой толщины зеркало, в которое мы смотримся. Но у него сдали нервы. То, что вы видели – просто развалина. Он нашел вход в Вирикониум в уборной одного хаддерсфилдского кафе. Там на полу плитка из искусственного камня, а вокруг зеркала – белый кафель. Само зеркало было настолько чистым, что казалось дорогой в другую, более точную версию этого мира. Благодаря этой чистоте он и догадался, что смотрит на одну из уборных Вирикониума. Его охватило замешательство. Он уставился на самого себя… Да так и смотрит с тех пор. Ему не хватило духу пойти дальше. То, что вы видите, – пустая оболочка, из которой уже ничего не извлечь.
Он покачал головой.
– Что это было за кафе? – спросил я. – Вы знаете, где оно находится?
– В силу ряда причин вам от этого будет не больше толку, чем Петромаксу, – заверил меня мистер Амбрэйсес. – Так или иначе, у вас есть только то описание, которое я вам дал.
Он говорил о кафе так, словно оно находилось на другой стороне земного шара и не было отмечено ни на одной карте. Но кафе – это только кафе.)
– Думаю, я узнаю его. Там за барной стойкой висит фотография – кадр из старой комедии. Два седовласых джентльмена с тросточками улыбаются сутулой официантке!.. Но вам это не поможет.
– Этот человек – доктор Петромакс.
Мистер Амбрэйсес любил предисловия подобного рода. Оно звучало словно некое словесное приспособление, которое позволяло ему начать речь.
– Этому мальчику, – обыкновенно говорил он, – известно два неопровержимых факта, касающиеся нашего мира; но он их никому не сообщит.
Или:
– Та женщина хотя и кажется молодой, спит по ночам у причалов канала Изер. Днем она носит под одеждой предмет туалета, который сама придумала, чтобы он напоминал ей о людях и их желтых фонарях, так отчетливо отражающихся в воде.
На крутом берегу возле моего дома росла яблоня, давно одичавшая в мирном окружении дубов и бузины. Когда я впервые обратил на нее внимание Эйра Амбрэйсеса, он лишь пожал плечами:
– Для этого дерева у ботаников нет названия. И за последние десять лет на нем не распустилось ни одного цветочка.
Следующей осенью, когда теплые косые лучи струились сквозь шелковистый пух на усыхающих стеблях кипрея, сотни маленьких твердых красноватых плодов упали с ее ветвей в заросли папоротника: весной она цвела так обильно, что мои соседи окрестили ее «белым древом».
– В Вирикониуме она не цветет, – вздохнул мистер Амбрэйсес. – Там она растет во дворе, неподалеку от площади Обретенного времени, точно прекрасная рукотворная копия живого дерева. Если вы обернетесь и посмотрите через арку, то увидите широкие чистые тротуары, маленькие лавочки и выкрашенные белилами ящики с геранью… И все залито солнцем.
– Этот человек – доктор Петромакс.
Рильке пишет об одном человеке, который «знал, что сейчас от всего отрешается, не от одних людей. Еще миг – и все утратит смысл: стол, чашка, стул, в который он вцепился, все будничное и привычное станет непредвосхитимым, трудным и дальним. И он сидел и ждал, когда это случится. И уже не противился».[29]29
«Записки Мальте Лауридса Бриге», перевод Е. Суриц.
[Закрыть] В той или иной степени, как мне кажется, это относится ко всем нам. Но доктор Петромакс… Его растерянность позволяла предположить, что он не просто ранен – он выбросил белый флаг. Душевная боль и обида в глазах, побелевшая кожа вокруг рта – словно тот миг снова и снова вставал у него перед глазами, и он не мог его забыть, как бы ни затягивал себя в паутину той туземки в желтом пальто. Он не работал. Он постоянно бродил по Хаддерсфилду от кафе к кафе, и я понятия не имел зачем, хотя подозревал – какое заблуждение! – что он забыл, в каком из них находится та уборная с зеркалом, и терпеливо искал ее.
Я следовал за ним когда мог, несмотря на категорический запрет мистер Амбрэйсеса; и вот что он рассказал мне однажды днем в кафе-гриль «У Четырех кузенов»…
Когда я был ребенком, моя бабушка часто брала меня с собой. Я рос тихим мальчиком, у меня уже тогда начались проблемы со здоровьем, и она считала, что при случае со мной будет справиться не сложнее, чем с карманной собачкой. У нее было заведено: каждую среду она заходила к парикмахеру, а потом отправлялась на поезде в Манчестер и весь день ходила по магазинам. По этому случаю она всегда одевала особую шляпку, всю из перьев. Бледно-розовых, почти кремовых перьев, среди которых попадались павлиньи «глазки» потрясающего терракотового цвета. Перышки лежали плотно, точно все еще росли на грудке у настоящей птицы.
Она любила кафе – думаю, потому, что в них все так уютно, все по-домашнему, но это ни к чему вас не обязывает. Вы можете просто побыть сами с собой.
– Я люблю попить чаю в тишине и покое, – повторяла она каждую неделю. – Это так приятно – время от времени пить чай в тишине и покое.
Что бы там ни подавали, она всегда кашляла во время еды и некоторое время после, словно крошка попала ей не в то горло. И она никогда не снимала свой светло-зеленый плащ с перламутровыми пуговицами, обрамленными золотом…
Когда я вспоминаю Пикадилли…
Знаете, эту улицу сейчас каждую зиму оккупируют тучи скворцов. Зимние дни такие короткие, а они орут так, что машин не слышно. Живые существа так не кричат – это больше похоже на грохот горшков, – а на дорожках после них еще долго стоит густой запах плесени. Нет, раньше там пахло иначе. Запах марципана… или только что зажженной спички, или отсыревших шерстяных пальто, запахи сменяли друг друга на каждом углу. Голоса таяли в теплом влажном воздухе, превращаясь в гудение, в котором можно разобрать только слова женщины за столиком:
– В любом случае, пока вы доберетесь до…
А ее друг тут же отвечал:
– Это ведь о чем-то говорит, верно? Да.
Дождливым ноябрьским днем из-за этого чувствуешь себя так, словно ты не до конца проснулся.
Официантка принесла нам пепельницу. И поставила ее передо мной.
– Джентльмены всегда курят, – сообщила она.
Я смотрел на мою бабушку, надувшись и задаваясь вопросом, куда мы пойдем потом. В «Бутс»[30]30
Аптека Бута. Кроме аптекарских товаров, продаёт некоторые предметы домашнего обихода, канцелярские принадлежности, книги и грампластинки. Эти аптеки принадлежат компании «Бутс» – фармацевтической компании, основанной в 1888 году.
[Закрыть] она обнаружила, что на верхнем этаже снова все изменилось: там появились прихватки, часы, инфракрасные грили. Особенно ее расстроил сильный запах горелой пластмассы на галереях между Динсгейт и Маркет-стрит.
По всей длине помещения, в котором мы находились, тянулся ряд окон с цветными стеклами, сквозь которые были видны сады, где сгущались сумерки, дорожки, которые дождь покрыл жидким глянцем, отражающим последние осколки света на небе, скамейки и опустевшие клумбы, серые и выглядящие весьма подозрительно, натриевые лампы, которые загораются над оградами. Накладываясь на эту картину, в стекле отражалось кафе. Казалось, кто-то перетащил все стулья и столики в сад, где официантки за безупречно чистой стальной стойкой поджидают посетителей, натянув на лица привычное гостеприимное выражение, окутанные паром bain marie,[31]31
Специальный аппарат для приготовления на водяной бане, в том числе горячего шоколада.
[Закрыть] не подозревая о существовании сырого стекла, луж и черных голубей, которые крутятся, беспрерывно кланяясь, у их ног.
Как только я сделал это открытие, на меня снизошло какое-то удивительное спокойствие. Моя бабушка, казалось, отступила куда-то на задний план, продолжая завораживающе бормотать. Скрежет столовых приборов и металлических подносов доносился словно издалека, а я смотрел, как люди гуляют по саду, и смеялся. Эти прохожие могли без труда проходить сквозь железные ограды, а ветер и дождь словно не касались их. Они вытирали руки и садились, чтобы откусить кусочек сухого баттенбергского пирога и воскликнуть «М-м-м, вкусно!» – поскольку пирог действительно был хорош. Так они и сидели на холоде, улыбаясь друг другу. Конечно, им было куда веселее, чем нам. Мужчина, который сидел за столиком один, вскрыл письмо и начал читать его вслух.