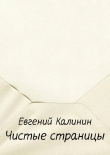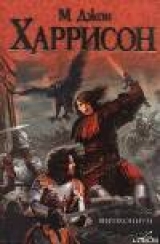
Текст книги "Вирикониум"
Автор книги: Майкл Джон Харрисон
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
БУРЯ КРЫЛЬЕВ
1
Луна смотрит вниз
Темная полоса прилива в устье одной из безымянных рек, что берут начало в горах за Кладичем…
Обрушенная каменная кладка почтенного возраста, венчающая островок-купол на прибрежной отмели, заливается легким румянцем. Взгляд Луны смущает ее. Когда-то здесь, в тени утесов эстуария, стояла башня. Она появилась слишком давно, чтобы кто-нибудь помнил, как это произошло. И никому из ныне живущих уже не понять, как можно выстроить башню из двухсотфутового обсидианового монолита. Десять тысяч лет ветер и вода ощупывали и обстукивали ее фасад, обращенный к югу, и не нашли слабого места. Ночью в ее верхнем окне мелькал желтый свет – то разгорался, то слабел, словно кто-то прохаживался там взад и вперед перед пламенем. Кто и с какой целью возвел ее в этом краю дождей – там, где зимой бури гонят белую воду вверх по Минчу, а рыбаки из Лендалфута стараются держаться подальше от берега? Непонятно.
Теперь башня разбита на пять кусков. Края камня не обколоты, не истерты: кажется, камень таял, как свечной воск. Каменная дорожка – когда-то она вела сюда с пляжа на западном берегу, где песок завален обломками скал, – теперь ушла под воду. Все, что напоминает о ее существовании – это странные чахлые растения, гигантские побеги морского болиголова, который зачем-то покинул уютное тихое устье с соленой водой и захватил берег, опутав своими бледными мясистыми стеблями руины башни и шеренги мертвых белых сосен.
В эти времена – Времена Саранчи, когда нам уже не принадлежит ничего, кроме пустоты внутри нас самих, во Времена Костей, когда нам остается лишь ждать, – сюда придет человек. Придет туда, где вот уже восемьдесят лет не было ни души.
Костер, что он разведет, разгорится не сразу, будет бледным и тусклым. Любой порыв здесь гаснет, любой возглас становится шепотом. Что-то при падении башни отравило здешний воздух, иссушило землю. Белый, болезненный и бесконечно тихий, болиголов выползает из воды, чтобы перебирать сор в разрушенных комнатах своими пальцами, похожими на непропеченное тесто. Кажется, башня разрушена полностью – и это знаменует крах всех хитроумных замыслов и всего, что было достигнуто с их помощью.
Но разве Времена Саранчи не призывают нас к терпению? Восемьдесят лет прошло с тех пор, как тегиус-Кромис сокрушил ярмо Кэнны Мойдарт, с тех пор как пали Гетейт Чемозит, Пожиратели Мозга, и среди нас появились Рожденные заново. И в глубине этой осенней ночи, от лица древней, исполненной горечи геологии, мы поведаем о событиях вселенского масштаба, событиях таинственных, свидетелями которых мы стали. Мы расскажем о противостоянии, которое решило судьбу как Земли в целом, так и той хрупкой точки опоры, что на заре своей юности обрели на ней Культуры Заката.
Ждите! Все когда-то происходит. Все когда-то произойдет. Только ждите!
Утесы эстуария надвигаются, черные, терпеливые. Воздух холоден, ожидание висит в нем, как туман…
Это час нашего старого врага, Луны. Ее легкие блики дрожат на воде среди бессмысленных и бесстрастных образов, которые рисует ветер. Она висит в небе, растянутая до боли, точно ткань на пяльцах… Вечная пленница его пределов с вечно смущенным, рябым, загадочным лицом старой карги. Та, что остается нашей спутницей миллионы миллионов лет.
Где-то между полуночью и рассветом – в час, когда больные срываются с высоких уступов собственного «я» и падают в темноту, – что-то внезапно отделяется от края ее заколдованного круга. Это видно невооруженным глазом. Оно и устремляется в ужасную пропасть, отделяющую ее от Земли… Всего лишь крошечный завиток пара, облачко пыльцы, пересекающее одинокий луч света в некой затемненной, пустой комнате за время, которое требуется, чтобы моргнуть, протереть глаза и настроить мозг на ожидание. Десять тысяч лет никто не замечал ничего подобного. Может показаться, что все осталось по-прежнему. Просто Луна в оправе утесов – напудренное лицо, с тоской выглядывающее из-за приоткрытой двери, – никогда не казалась такой белой, такой твердой. Память решает, что глаз обманул ее. Но мир уже никогда не станет прежним.
Проходит немного времени, и слабый, робкий свет дня дымком начинает сочиться сквозь мягкие жирные стебли. Он очерчивает упавшую колонку башни, и из зарослей болиголова выходит старик – неуверенно, нехотя, словно очнувшись от утомительных грез. Он выходит, чтобы взглянуть на небо, где на юге все еще висит Луна – набросок на белой кости, порочное, изрытое оспой лицо, на котором застыло мечтательное выражение. Старик вздрагивает и кутается в плащ. Некоторое время они смотрят друг на друга, словно соперники перед боем: человек и планета. Но тут восход опрокидывает свою кровавую бадью… и разом окатывает море, берег, болиголовы, старика. Кажется, что его плащ сверху донизу покрыт брызгами и потеками крови! Старик поспешно отворачивается, но лишь за тем, чтобы вывести из укрытия маленькую, грубо сработанную деревянную лодку. Ее киль скребет по гальке, весла падают в воду, становясь белыми под ее гладью. День разгорается, но старик все гребет и лишь изредка вздрагивает – слишком уж зловещим кажется небо. Вот и западный берег… Вытаскивая лодку на пляж, он задыхается от напряжения и что-то бурчит себе под нос… Ненадолго останавливается у кромки воды, чтобы последний раз взглянуть на башню, застывшую в своей долгой борьбе с разрушением. Потом пожимает плечами и начинает торопливо подниматься по лестнице, что давно Упирается в утес. Одинокая птица с оперением весьма любопытного цвета – кажется, рыболов-скопа – летит, хлопая крыльями, с сияющего юга, внезапно падает и тут же взмывает над островом, словно прощаясь. Во Времена Саранчи нам дано видеть такие вещи.
Рожденные заново думают не так, как мы. Они живут в снах наяву, преследуемые прошлым, которого не понимают, измученные правами и привилегиями, полученными при рождении, которые не имеют для них никакого значения, и насмешками душевной амнезии.
Эльстат Фальтор, первый из погребенных посреди Малой Ржавой пустыни, кого вытащил из тысячелетнего небытия Гробец по прозвищу Железный Карлик, ничего не помнил о своей прошлой жизни. На каждом шагу его преследовали и терзали сомнения, которые он не мог объяснить даже самому себе. Его тело, его кровь, самые его зародышевые клетки знали – по крайней мере, так ему казалось. Но в языке, на котором Фальтор разговаривал каждый день, не находилось слов, чтобы рассказать себе, на что походила его жизнь во времена холодного послеполуденного безумия. До него дошли только смутные намеки. Трепещущая сеть его нервной системы привычно ловила послания, рассеянные по тысячелетиям, но пыль последних подсказок рассеяли ветра времени.
В первые месяцы после своего возрождения он постоянно видел сны. Огромное серебряное насекомое, громко щелкающее, металлическое – он наблюдал все главные точки его жизненного цикла… Женщина, одиноко сидящая в комнате, такой высокой, что ее потолок превращался в сплетение теней, пряла золотую нить, которая, по собственной воле, мерцая, вдруг начинала подниматься у нее из рук, пока не заполняла целиком таинственное, огромное, шепчущее пространство у нее над головой. Эти образы не раз вставали у него перед глазами среди руин и изрытых рытвинами и колеями дорог Квошмоста с его забитыми гниющей рыбой складами и мертвыми детьми, во время долгого зимнего марш-броска через заледенелые перевалы Монарских гор, в разгар штурма Северо-восточных Врат. Они появлялись и заслоняли картину сражения: насекомое с ничего не выражающими фасетчатыми глазами и женщина, подобно пауку, прядущая драгоценную нить…
Часто Фальтор наблюдал, как без жалости кромсает ее панцирь или обагряет ее рукава кровью. Однажды, когда он с боем прорывался по улицам Вирикониума, чтобы над грудами трупов северян пожать руку карлику со странным именем Гробец, огни Протонного Крута на миг обернулись странным корчащимся мотком пряжи, который выпускала из себя женщина. Трескучая дуга-молния соединила прошлое с настоящим, прошив мозг. Ослепленный, Фальтор упал ничком и лежал как мертвый, не в силах разобрать, что реально: нежный шепот городских огней или гудящее золотое облако…
Но даже эти зацепки исчезали одна за другой – хотя лишь по ним можно было определить свое положение в бушующем море хаоса, что уносило Эльстата Фальтора прочь от гавани его второго детства. Он непрерывно вспоминал, но воспоминания возникали словно сами собой. Это напоминало бурную реку в ночи: время от времени какой-нибудь обломок сухой веткой всплывал на поверхность и снова исчезал среди плавучего мусора, в котором ничего не разобрать…
Чье-то лицо, качаясь в воздухе, точно пузырь, преследовало его среди сумеречных стеллажей фамильной библиотеки. Оно приближалось вплотную… Вздрагивало, как от толчка, под воздействием какого-то всплеска чувств, которые до этого времени таились под спудом, распадалось… И вновь отступало, с шипением втягивая воздух.
– Что ты делаешь? – спрашивали они… Кто?
Они были за стенами, но он не знал, где…
Спотыкаясь, Фальтор пробирался по артериям своего дома.
Мозг гудел и трепетал от неведомой мощи, которой в нем прежде не было. Он обнаруживал покои и тайные темницы, которых никогда не видел прежде. Руки высовывались из-за каждого поворота – и манили, подзывали…
Высокие бесформенные башни из живой плоти, выращенные из плазмы древних млекопитающих, трубили и стонали над заброшенными пустошами иного континента. Их жуткие насмешливые голоса переливались на ветру – то где-то в отдалении, то совсем рядом. «Естественная философия – это злоупотребление изобретательностью, – утверждали они, не давая отречься от этой ереси. – Это замок на песке, где царит вечная ночь…»
Город распластался перед ним во влажном, обманчивом свете дня, точно затопленный сад, где когда-то велись раскопки. Туда можно было попасть по лестнице из костей.
– Я спускаюсь!
Из этих скудных обломков мертвой культуры, которые лишь сбивали с толку, Фальтор пытался создать себе прошлое и обрести то, что есть у любого человека – некую точку зрения, основанную на опыте и позволяющую судить о собственных поступках. Но в итоге ему оставалось лишь сидеть на берегу потока своих воспоминаний и выуживать то, что проплывало ближе. Когда приходилось иметь дело с новой реальностью, реальностью культур Заката, эти находки редко помогали. Был ли вообще прок от его улова? Как сказать. Каждая из этих утопленниц, извлеченных из тины одного воплощения, могла заразить восприятие другого. Нормальные воспоминания представляют собой образ – звук, аромат, видение лица или места. То, что вспоминалось Фальтору, представляло собой скорее действия: он чувствовал, что тело вынуждено их выполнять, но исключительно с согласия разума. Казалось, мускулы помнили то, чего он не делал – но помнили и само действие, и отклик.
Так или иначе, прошло восемьдесят лет с тех пор как тегиус-Кромис сокрушил иго Кэнны Мойдарт, с тех пор как пришел конец Гетейт Чемозит, а с ними – и Восходу Севера. И Эльстат Фальтор, сперва просто один из Рожденных заново, наследие технологий, мощь которых он не мог в полной мере оценить, а позже лорд, пользующийся уважением консулов Пастельного Города, носился по предгорьям Монаров, словно спасал свою жизнь, не имея ни малейшего представления о том, почему он бежит и что заставляет его бежать.
Он был высок ростом, как все Рожденные заново, и худощав. Свободная рубашка из черного атласа позволяла видеть причудливой формы желтый рубец у него на груди – что-то вроде вензеля, знака Дома, к которому он принадлежал. Он носил весьма любопытной формы полусапожки на мягкой подошве, которые его народ предпочитал любой другой обуви, на поясе висел короткий энергоклинок – баан, выкопанный вместе с древними керамическими ножнами где-то в пустыне. Светло-русые волосы, длинные и жесткие, сейчас спутались и намокли, пот тонкой пленкой покрыл его птичье лицо. Он пробирался на Грядной Мшанник по опасным кручам – там, где начинается ущелье Россет, где низкие округлые холмы уже побурели по осени. У Лекарских Врат под его ногами рождались крошечные лавины. Он размахивал руками, точно ветряная мельница, чтобы сохранить равновесие, и серая пыль еще долго клубилась там, где он пробегал. Он в несколько длинних, мощных шагов-прыжков пересекал долины. Обычный человек не выдержал бы такой скорости, но Фальтор этого не знал. Взгляд его странных зеленых глаз был пустым и не останавливался ни на чем, и причиной тому была усталость – но усталость скорее души и ума, чем тела. В салонах Вирикониума, где пышно расцвели роскошь и глупость, он старался изображать «самого человечного» из Рожденных заново… Дурацкое – или, скажем так, бессмысленное – выражение. Если на его лице и появлялось что-то человеческое, так это отчаяние.
Тридцать шесть часов назад черное безумие, которому было невозможно не повиноваться, увело его из уютного дома на окраине Минне-Сабы и погнало по тихим предрассветным улицам города, по Протонному Кругу, к Северо-восточным Вратам – а потом к ледяным расщелинам Монаров, где показало зловещие пейзажи иной страны. Жаркий ветер крепчал, и в ушах Фальтора стоял его долгий металлический стон, а на горизонте ворочалось что-то высокое, тяжеловесное – и не давало остановиться. «Беги! Беги!» – шептало в каждой камере его сердца, вопило в дальних закоулках черепа и отдавалось эхом в каждом атоме гулко пульсирующей крови. Привычный мир покинул его. Часы бега заполняли время от пробуждения до сна. Разница между «теперь» и «тогда» была вопиющей. Она разверзлась перед ним, как пропасть, и он бежал по ее краю – напряженный, собранный – вечно…
Сто сорок миль, а может, и больше – вот длина пути, который он проделал по холмам, выписывая странные петли, и каждый поворот пробуждал в мозгу образы старых пейзажей. Но когда Фальтор спустился к Грядному Мшаннику, силы покинули его, и ощущения стали возвращаться одно за другим.
У ног сверкал ручей. Вдали блеяли овцы, которых пастухи гнали с горного дерна на зимнее пастбище в долину. В воздухе остро пахло торфом и вереском, ниже по склону дорожка ветвилась, образуя множество изгибов и петель. Она возвращалась, чтобы встретить саму себя, и в конце концов плавно спускалась к раскинувшемуся вдалеке городу. Усталость, что незаметно копилась все это время, сменилась смесью восторга и ужаса. Потом из мрачного ликования Фальтор вдруг рухнул в бездну растерянности. Точно так же он бежал тысячу лет назад… но от кого? Куда? Какие страхи и тревоги возникали у него в голове? И почему он радовался? Вот что странно.
Оказавшись под выступом, нависающим над Нижней Падубной Топью, Рожденный заново пошел шагом.
Бедра и лодыжки гудели. Он присел на камень у дорожки, чтобы размять мышцы, и его вниманием завладел Город. Город ждал; неподвижность и расстояние окутали его полупрозрачной вуалью. В тумане возникали вспышки света – мелькая ослепительными проблесками на изгибах Протонного Круга, словно выжигающие в глазах огненные пятна… наполняя сиянием Веселый канал в Низком Городе, где клумбы с анемонами полыхают в лучах заходящего солнца, точно витражи… подавая с сияющих ярусов Минне-Сабы, немыслимых пастельных башен и площадей квартала Аттелин сигналы, которые не поймет никто. Это был верх совершенства – творение, умело подсвеченное, преображенное, миниатюрное. Город привлекал его не тем, что обещал убежище – Фальтор не чувствовал себя беглецом. Он привлекал не своей двуличной фамильярностью, не старческой чудаковатостью и упрямством, с которым противостоял Времени, торжествуя из поколения в поколение – по крайней мере так казалось, – и не игрой света. Вирикониум, Пастельный Город! Немного загадочный, немного заносчивый, немного безумный. Истории, забытые, подобно истории самого Фаль-тора, превращали его воздух в подобие янтаря, в котором он застыл, как древнее насекомое, как искушающая загадка. В геометрии его улиц были зашифрованы послания-намеки, которые выжившие передавали друг другу… и настоящее этого города, подобно его собственному, являлось лишь следствием – или подтекстом – его прошлого, сном, мечтой, пророчеством, ненадолго предоставленной возможностью просто быть.
Эльстат Фальтор погрузился в мечты, обычные для человека, лишенного дома и крова. Таким он и казался – худощавый, неподвижно сидящий на камне, омытый багрянцем заката. На груди горел желтый вензель, на лице боролись замешательство, усталость и отголоски недавнего трепета. Дневной свет понемногу угасал. Звуки долины стали отчетливей и глубже, потом замерли. Прохладный ветерок повеял с ущелья Россет и крошечным зверьком зашелестел в зарослях папоротника. Когда Фальтор вновь поднял глаза, Город уже исчез, вечер был сер и холоден, а по тропинке шел старик в длинном плаще.
Эльстат Фальтор поднялся и потянулся, разминая затекшие конечности. Украдкой он изучал одеяние пришельца, ожидая увидеть Знак Саранчи, но не обнаружил ничего подозрительного и позволил себе убрать руку с рукояти баана.
– Здравствуй, старик, – сказал он.
Старик остановился. Его ноги были босы, одежда припорошена пылью. Он сутулился, словно проделал длинный путь, гонимый нуждой или неотложным делом, лицо почти исчезало в глубинах капюшона. Фальтор принял бы его за фермера, что хозяйствует на участке, сдаваемом внаем… А может быть, за мелкого лавочника-южанина, который покинул свой Квош-мост или Лендалфут, чтобы доставить приданое на свадьбу любимой дочери – слиточек меди в форме дельфина, скопленной за долгие годы, или маленький кусочек стали, за который отдал весь урожай своего единственного фигового дерева. Или он несет отрез политого слезами небеленого холста на похороны младшего сына? Но плащ старика был сшит из добротной ткани и заткан странными узорами. В угасающем свете дня они словно текли и напоминали график чьего-то переменчивого настроения, а может быть, просто превратностей судьбы. И…
– Нельзя бежать вечно, Эльстат Фальтор, – прошептал старик. Его глаза ярко блеснули из темноты под капюшоном. – Зачем ты впустую тратишь среди этих бурых холмов свое время – и время города, который тебя приютил?
Фальтор был заинтригован и немного озадачен. Странное место для подобной встречи… Он пожал плечами и улыбнулся.
– Зачем ты впустую тратишь свое время на расспросы, старик?
Старик вздрогнул… и вдруг быстрым движением вскинул голову и поглядел в южное небо прежде, чем заговорить снова. Пронзительный, беззащитный крик рыболова-скопы разбудил эхо в холмах… Но луна еще не засияла в небе.
Дворец, похожий на раковину – Чертог Метвена – замер на вершине спирали Протонного Кольца, что возносится к небу на сотне колонн из тонкого черного камня. В нем сидит Метвет Ниан, или Джейн, королева Вирикониума – в годы юности уведенная в ветреные березовые рощи и ледниковые озера болот Ранноча, преследуемая Гетейт Чемозит, дикая, как Дочь разбойника, который много тысяч лет назад промышлял в здешних местах…
И некому было охранять ее, кроме хромого, покрытого шрамами старика, самого старого из оставшихся в живых метвенов. Некому было вести ее, кроме поэта с мертвой металлической птицей. И некому было помочь ей быстрее пройти свой путь, кроме великана, который был карликом…
Метвет Ниан сидела перед пятью ложными окнами в зале с высоким потолком и полом из кристалла цвета киновари. Ее окружали странные, но невероятно ценные предметы – никто уже не помнил, как ими пользоваться: то ли механизмы, то ли скульптуры, отрытые в разрушенных городах Ржавой Пустыни за Дуиринишем. Занавеси, сотканные из бледного, дрожащего света беспорядочно двигались по зале, словно дожди из невидимых туч. А среди рожденных ими теней, похожих на сны, бродил Королевский зверь – один из гигантских белых ленивцев, обитателей южных лесов. По слухам, они были потомками выродившейся расы звездных путешественников, которых то ли пригласили, то ли обманом заманили на Землю в годы Послеполуденного безумия.
Метвет Ниан…
Восемьдесят лет прошло с тех пор, как У-шин, первый из ее питомцев, пал от ножа Кэнны Мойдарт и сам лег на нее, подобно печати, скрепившей окончательное поражение Севера. Вот уже два десятка лет тегиус-Кромис лежал мертвый в поле возле Нижнего Города, и над ним росли бессмертники. И Метвет Ниан уже немолода, даже по меркам Эпохи Заката. Но в ее лиловых глазах все еще можно разглядеть то, что осталось от девочки, за один год потерявшей и вернувшей себе Последнее Королевство мира. И в дремотном свете, где пять ложных окон показывали пейзажи, которых не найти нигде в Вирикониуме, годы ложатся ей на плечи легко, почти неощутимо, как ручонка ребенка, созданного воображением.
Окна мерцали изнутри. Снаружи была осень; под холодным лунным светом процессии людей с лицами насекомых тихо двигались по улицам.
Что-то странное происходило с Метвет Ниан, королевой Вирикониума.
Часто в эту мерцающую комнату приходило прошлое, чтобы с тихим упорством касаться ее, дергать за рукав в попытке привлечь ее внимание. Белые зайцы в сумерках среди мшанников Блестящего Лога или Тороватого Носа… Длинные бурые протоки торфяников Ранноча, похожие на росчерки гигантской кисти, оставившей надпись на непонятном языке… Пыль пустынь, бесшумно собирающаяся на холодных площадях Павшего Дранмора… Не больше и не меньше чем грустные отпечатки воспоминаний в ее мозгу. Она вспоминала древний крик рыболова-скопы, стихи тегиуса-Кромиса и его голос, рождающийся на грани ночи и утра.
Сегодня вечером это было нечто большее.
Окна мерцали. Окна сверкали, мигали, вздрагивали. Окна сказали:
– Метвет Ниан!
И все пять стали гладкими и темными.
– Метвет Ниан!
Окна заполнили дым, снег, жемчужно-серый свет – это мог быть восход над рушащимися сераками[9]9
Глыба рыхлого льда, вставшая вертикально во время схода лавины или ледника.
[Закрыть] на побережье Заокраинного Севера. Потом все задрожало, завертелось и пропало.
– Метвет Ниан!
Раскаленный, почти плавящийся песок, слюдяное небо, гладкие горбы барханов и сухие засоленные русла вековечного эрга.[10]10
Песчаная пустыня с барханами.
[Закрыть] В жарком воздухе висит прекрасный мираж Города – пастельные башни, стройные, как математические формулы, высокие, странным образом срезанные. Ветер бросается на них, словно ястреб на добычу.
– Метвет Ниан!
Словно смиряясь с неизбежным, королева шагнула к окнам. Странное ощущение: что-то то ли тянет, то ли зовет ее туда…
…и она видела саму себя – как она проходит сквозь них и выходит в некое иное время…
Теперь окна заливали ее зеленым сиянием, словно дворец, где она стояла, действительно был раковиной или кораблем, полным утонувших моряков, вечно кружащимся в пучине древнего моря – холодного и медлительного, словно гигантский моллюск. Все, что испускало свет, словно подернулось дымкой. Ленивец захныкал и в недоумении поднялся на задние лапы, раздраженно выпуская и втягивая когти, покрытые толстым слоем янтарного лака.
– Тихо, – сказала она. – Кто желает говорить со мной?
Ни звука.
– Метвет Ниан.
Глубоководная мгла нахлынула, вспенилась и умчалась, словно пена, которую сдул с волн невидимый ветер… чтобы смениться изображением пещеры – вернее, полуразрушенной комнаты, устроенной в пещере. Похоже, эта комната была битком набита пыльными чучелами птиц. Сквозь дыры в стенах струился лунный свет. Старик стоял перед ней, единый в пяти лицах, пятикратно отображенный. Его удлиненный куполообразный череп был желт и лишен плоти, глаза – ярко-зеленые, губы тонкие. Кожа была такой тонкой, так туго обтягивала кости, что казалась прозрачной, и они просвечивали сквозь нее, точно нефрит. Он стар, подумалось Метвет Ниан. Так стар, что нет телесных признаков, которые могут отразить его истинный возраст. Потому он и выглядит так величественно.
Одеяние старика покрывала удивительная золотая вышивка. Казалось, при малейшем дуновении ветра ее узоры шевелятся и текут, отзываясь на каждое движение ткани – и в то же время словно сами по себе.
Метвет Ниан задрожала. Она протянула руку – и коснулась холодного стекла.
Крик чаек и шум холодного серого морского прибоя на магнетитовом песке звенели у нее в ушах – далекие, давние звуки.
– Значит, это страна мертвых? – прошептала она, ероша пальцами белый мех ленивца. – Там, за окнами?
К востоку и югу от Монарских гор широкой полосой тянется пустошь, чье имя – когда у этих земель еще было имя – просто цепочка примитивных слогов, брошенных на влажный ветер, как вопрос. Это край пустынный, покинутый всеми, кто когда-то здесь жил. Это край, полный памятников и немых призраков народа, что старше Вирикониума, моложе Послеполуденных Культур и, возможно, более простодушен – племени пастухов, чей срок жизни был недолог. Они жили родовыми общинами, из года в год хоронили своих мертвецов на террасах холмов и знали о своем прошлом только одно: подобное ни в коем случае не должно повториться. О будущем они вообще ничего не знали.
Громкий несмолкающий звон кузниц Севера, где начали обрабатывать металлы, стал для них погребальным. Дело их рук – дорожки на горных хребтах и некрополи-близнецы – теперь казались делом рук природы, поросли утесником и молодым буком и стали единым целым с мрачным пологим склоном, длинными насыпями и неглубокими долинами, что незаметно спускаются к Ранночу и сливаются с ним.
Это место избежало отравленного прикосновения Полдня лишь с тем, чтобы тихо угасать. Кроншнепы скрашивают его печальную одинокую старость; зайцы прячутся в норах и играют в глубоких оврагах, промытых потоками воды в земле, которая тихо истощила сама себя. Это место не обращает внимания на путников и с нежностью ловит первые признаки ночи. Здесь в конце года, по вечерам, темнота спускается на землю, хотя небом еще владеют умирающие отблески заката. В воздухе разлито сияние, однако ему почему-то не хватает силы, чтобы что-либо осветить. Еще миг – и каждый откос до краев наполнится тенями и станет прибежищем бормочущих ветров и прозрачных застенчивых призраков, которые никогда не мечтали о Полдне и не знали железа – или наоборот, не знали железа и не мечтали о Полдне.
В один из таких осенних вечеров, через восемьдесят лет после Падения Севера, здесь можно было увидеть маленькую красную кибитку, которая остановилась на старой горной дороге в самом сердце пустошей. Из ее трубы валил серый дым. А из внушительных размеров свежевырытой ямы доносился лязг металла о металл…
Четырехколесная кибитка. В таких с давних пор странствуют ремесленники Мингулэя, перевозя свои огромные семьи и жалкое снаряжение по раскаленным от летнего солнца дорогам юга. Да, все в ней напоминало о юге – каждая планка, каждый гвоздь, каждая заклепка, даже отталкивающего вида завитки цвета электрик, которые, как живые, змеились по бортам. Для толстых спиц владелец выбрал канареечно-желтую краску, для покатой крыши – яркий, почти непристойный пурпур. Может, он хотел, чтобы это сияющее пятно бросило последний вызов мрачной, словно залитой умброй, пустоши? Казалось, веселые, неряшливые детишки только что выскочили из нее, шмыгая сопливыми носами, и разбежались по зарослям ежевики, чтобы найти ягод. Из трубы валил дым, пахло пищей. Пара пыльных пони, привязанных к облучку обрывком потертой веревки, щипали у обочины скудный дерн. Не интересуясь ничем, кроме самих себя, они лишь иногда поднимали уши, ловя голос своего хозяина. А тот под прикрытием гор свежего песка, что окружали яму точно крепостной вал, напевал какой-то заупокойный мотив с Устья реки. Время от времени монотонное гудение песни прерывалось отборной бранью.
Но дети так и не вернулись из зарослей папоротника – а ведь мы почти слышали, как их голоса замирают вдалеке, в густеющих сумерках, что опускаются на пустошь! Неутомимый хозяин кибитки упорно продолжает копать, потому что свет еще не покинул небо. Но тени становятся длиннее, кибитка тонет в них, ее труба больше не дымит. Пони топчутся на привязи. Из ямы летят комья земли и песка, вал вокруг нее растет. И тут происходит нечто странное.
Стихают удары лопаты, стихает глухой стук комьев…
И мощный белый луч беззвучно бьет из ямы прямо в небо, словно кто-то подает знак звездам…
И одновременно раздается возглас:
– ОУГАБУРИНДРА! БОРГА! ОУГАБУРИНДРА-БА!..
Крошечная фигурка в кожаных штанах металлоискателя вылетает из ямы, катится кубарем, точно лист конского каштана на мартовском ветру, и неуклюже приземляется на сваленную кучей упряжь в двух шагах от пони. Те скалят свои истертые желтые зубы в презрительной ухмылке и тут же снова принимаются с жадностью щипать дерн. Борода коротышки угрожающе тлеет, длинные белые волосы опалены, одежда обуглилась. Некоторое время он сидит на земле, словно его оглушили, потом вяло хлопает себя по колену, бранится – более грязной брани не слышали болота Кладича, – и снова валится навзничь, тихий, бесчувственный, дымящийся…
Луч по-прежнему бьет из земли, озаряя все вокруг, но его сияние мало-помалу тускнеет. Из белого оно становится фиалковым, розоватым – все слабее, все прозрачнее. Вот оно уже едва различимо в темноте… и гаснет окончательно.
Легкий порыв ветра взъерошил рябины и терновник, слегка тряхнул их и улетел восвояси.
Сам толком не понимая зачем и почему, Гробец по прозвищу Железный Карлик на склоне своих дней покинул Великую Бурую пустошь – землю, где с давних пор вел раскопки, – и встретил свою сто пятидесятую весну, пересекая Метедрин. Там, среди неистовых потоков талых вод и недолгого цветения лугов он вспоминал иные времена и иные места, где ему довелось странствовать.
Дивясь самому себе – надо же так расчувствоваться! – он внезапно понял, что ищет нечто совершенно определенное, однако нарочно задержался к югу от Ранноча, бездельничая и грея на солнце свои старые кости. «Еще раз – и хватит», – обещал он себе. Еще одно, последнее свидание с древним металлом, а потом – конец ночным приступам подагры. Правда, для подобных поисков место казалось несколько странным. Что можно найти в земле, которая тысячелетиями не знала ремесел? С чем он в последний раз возвратится в Пастельный Город? Вот уже двадцать лет он не видел ни Города, ни своего друга Фальтора…
И ничего не слышал о Знаке Саранчи.
…Когда карлик очнулся, было темно, и он лежал в своей кибитке. Озаренный оранжевым искусственным светом, над ним, словно вопросительный знак, склонился высокий старик в плаще с капюшоном. Его одеяние было заткано странными узорами – казалось, они шевелятся и корчатся при каждом его движении.
Гробец вздрогнул. Толстые скрюченные руки вдруг затосковали по топору, которым он не пользовался добрый десяток лет. Топор лежал у него под кроватью; там же, в сундуке, находилась его броня – так шла его жизнь после Падения Севера.