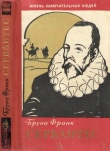Текст книги "С двух берегов"
Автор книги: Марк Ланской
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
– Обещаю.
– Подумай еще раз. Еще не поздно. Если есть хоть чуточку сомнения, скажи, и ты уйдешь в другую команду.
– Нет! Только с вами.
– Клянись свой родиной. Клянись жизнью матери.
– Клянусь.
Связного мне не дали. Но теперь, когда распределяли содержимое свертков, передававшихся от нас или к нам, я получал свою долю – несколько тоненьких листков кальки, на которых были скопированы разные участки топографических карт. И еще компасы – маленькие плоские коробочки из толстого картона с магнитными стрелками. Иногда еще попадались записки с зашифрованными адресами, именами, цифрами. Все это легко умещалось в марлевых карманах.
На Степана была возложена организация побегов. От него зависели их последовательность, направление, обеспечение безопасности. Это я тоже узнал несколько месяцев спустя. А в тот первый день, когда меня учили, как прятать листки, как в случае опасности одним движением опущенной руки срывать через штанину карман с ноги и затаптывать его в землю, как и при каких обстоятельствах самому распоряжаться полученным материалом, – в тот первый день я был счастлив, как никогда в жизни. Все оставалось прежним – и мрачный барак с голыми досками нар, и грязь, и оборванная, нисколько не согревавшая одежда, и вечное чувство голода, и изнурительная работа. Но исчезло самое отвратительное – сознание своей рабской покорности, беспомощности. С этим было покончено навсегда.
Я стал «солдатом, заброшенным в глубокий вражеский тыл, в особо трудные условия». Теперь я мог вынести любые испытания. Я не боялся эсэсовцев, не боялся никого на свете. Я воевал. Я рисковал жизнью, как рисковали ею солдаты на далеких фронтах. У нас была общая цель. Мы шли навстречу друг другу и были уверены в победе.
Для человека со стороны наша команда ничем не отличалась от остальных. Те же полосатые куртки, сквозь которые остро выпирали кости, те же стриженые головы, изможденные лица. Мы так же трудились не по силам, снимали и перетаскивали тяжелые детали станков. Окрики капо и мастеров не позволяли ни на минуту разогнуть спину. Во время работы мы мало разговаривали и выглядели такими же покорными каторжниками, как и все. И никто, ни одна живая душа не могла догадаться о тех силах взаимного притяжения, которые сближали нас куда крепче, чем родственные связи.
Предел выносливости – величина переменная. То, что ты преодолел сегодня, может надорвать тебя завтра. Поэтому мы зорко следили друг за другом, чтобы поспеть на помощь в ту минуту, когда у кого-то из нас силы вдруг, иссякнут, окружающий мир потемнеет и потеряет устойчивость, а земля уйдет из-под ног. Потерявший сознание при капо и контрольных мастерах приближал свой смертный час.
Особенно часто это грозило Болеславу Брудзинскому. Ему еще не было сорока лет, но выглядел он стариком. На допросе ему повредили почки. Острая боль почти не отпускала его. Мастера уже несколько раз требовали убрать его из команды. Но Степан уговорил капо, а тот свое начальство, что Болеслав – незаменимый специалист и без него не обойтись. Когда ему приходилось переносить тяжести, рядом оказывался Робер Колон или Ярослав Калинка. А чаще всего Степан усаживал его за верстак и совал ему какой-нибудь испорченный прибор. В приборах Болеслав разбирался плохо и поправлять все, что он успевал напортить, приходилось Ондрею Гурбе.
Без Болеслава мы не представляли себе нашей группы, так же как и без Степана. Он был коммунистом-подпольщиком еще до войны, воевал в Испании, много лет провел в тюрьмах, но сохранил ту душевную мягкость, которая покоряет людей быстрее, чем физическая сила. Даже жестоко страдая от боли, он, поймав на себе взгляд сострадания, спешил виновато улыбнуться и сказать что-нибудь шутливое, ободряющее, отвлекающее от дурных мыслей.
Степана мы любили и боялись. Болеслава любили и жалели. Степан был закрыт на все замки. Чувства Болеслава были распахнуты для каждого. Степан больше знал и дальше видел, он был мозгом и волей нашего маленького коллектива. Болеслав – его сердцем, чутким и щедрым. Он был единственным среди нас, с кем Степан советовался наедине и к чьей помощи прибегал, когда назревал очередной «бунт».
Чаще всего это случалось по вине Робера. Его привезли в лагерь всего полгода назад. Из него еще не высосали ни здоровья, ни вулканической энергии южанина, так недавно пившего вино и любившего девушек на благословенной земле Прованса. Механик из Тулона, он был на три года старше меня, но считал себя старым коммунистом и гордился тем, что его семья всегда голосовала за компартию и после поражения не покорилась ни Гитлеру, ни Петэну. О подвигах своего отряда франтиреров он мог рассказывать длинные истории, которые мало доходили до нас, потому что никто не владел французским так свободно, чтобы разбирать его быструю, бурную речь.
Роберу было труднее, чем другим, свыкнуться с каторжными условиями нашего существования. Он презирал терпение и осторожность и требовал ясности в главном: «Когда мы убежим?» А Степан не только не называл срока, но вообще никаких обещаний не давал. Помогать другим, а самим оставаться на положении подъяремной скотины Робер считал величайшим безобразием и вопиющей несправедливостью.
У него было несколько планов побега, из которых особенно ему нравился один. От мастерской, в которой мы работали, до шоссе, куда стягивались колонны заключенных, чтобы шествовать в лагерь, тянулись полтора пустынных километра. Этот отрезок пути наша команда шла лишь в сопровождении трех охранников и капо. Если бы мы перед выходом вооружились остро отточенными напильниками и молотками, нам, по мнению Робера, ничего не стоило перебить немцев, обезоружить их и скрыться в ближайшем лесу. Хотя наш численный перевес сам Робер считал небольшим, но преимущество внезапности и заранее согласованных действий должно было решить схватку в нашу пользу.
Робер сначала изложил свой план самым молодым: Яну Важеку, Эриху Чодежу и мне. Нам его идея пришлась по душе. Возможность рукопашного боя, овладение оружием, свобода – ради этого стоило рискнуть. Ободренный нами, Робер подступил к Степану, Тот, когда разобрался, в чем суть плана, сказал коротко: «Нет!» – и отвернулся. Вот после этого Робер и впал в бунтарское состояние, он ходил мрачный, поблескивая черными глазами из-под смуглого лба.
Потолковать с ним Степан поручил Болеславу. При этом разговоре я присутствовал не без пользы для себя. Тихим голосом, к которому поневоле нужно было прислушиваться, Болеслав как бы вместе с Робером обсуждал детали задуманной операции. Сам он не смеялся, но другим становилось смешно, когда он рисовал живую картину, как истощенные, обессиленные двенадцатичасовым рабочим днем заключенные с железяками в руках нападают на откормленных солдат, вооруженных автоматами.
– Достаточно одному из них увернуться, нажать на спусковой крючок, и все мы будем бежать не в лес, а в рай, – заключил Болеслав разбор первой стадии плана.
Робер соглашался, что риск есть, но уверял, что шансов на удачу больше.
– Хорошо, – соглашался Болеслав, – есть шансы. Убежали мы в лес. А что нас ждет в этом лесу, ты знаешь? Куда мы из него подадимся в своих фраках? Что будем есть?
– Главное убежать, – твердил Робер, неопределенно махая рукой на запад. – С оружием пробьемся.
Болеслав перечислял ближайшие населенные пункты, занятые немецкими гарнизонами.
– Даже те группы, – напомнил он, – которым мы даем маршруты, помогаем картами, связями, иногда проваливаются и люди оказываются на виселицах. А ты хочешь просто так, вслепую ринуться на верную гибель. Но и это не главное. Даже если бы нас сопровождал один часовой, а дорога через лес была бы открыта в горы, мы все равно не могли бы убежать.
– Почему? – изумился Робер.
– Потому что есть такая штука, которая называется дисциплиной. Слышал ты о ней? Ты ведь коммунист. Нам доверен важнейший участок борьбы. Оставить его без разрешения – значит совершить предательство. Сколько людей отдало свой жизни, пока мы сколотили организацию. Есть Центр. Кстати, это он спас тебя от работы в карьерах, от верной смерти и направил к нам. Он руководит и мной и тобой. Он уверен, что мы не подведем. А мы наплюем на него, все развалим только потому, что Роберу захотелось поиграть в прятки со смертью. Ты считаешь, это правильно?
– Но я не могу больше. Я не хочу умереть в этом лагере, – с отчаянием сказал Робер.
– Ты не умрешь, если найдешь силы, чтобы выдержать. Мы обязательно убежим. Получим разрешение и убежим. Ты веришь мне?
Робер склонил голову и после этого несколько дней ходил успокоенный. До следующего плана.
По-иному бунтовал Эрих Чодеж. Искуснейший слесарь никак не мог примирить свою совесть с работой на врагов. Степан поручил ему изготовление самых точных деталей. Начинал он работать с увлечением, но потом все свое мастерство направлял на то, чтобы незаметно сделать какую-нибудь пакость, которая немедленно вывела бы станок или машину из строя. Обнаруживали его проделки либо Степан, либо Ондрей Гурба, скрывший от немцев свою инженерную специальность и тоже числившийся в нашей команде слесарем.
С Эрихом разговаривал Степан.
– Пойми ты, что мы не имеем права плохо работать. Нас разоблачат, разгонят, и вместе с нами развалится важнейший участок борьбы. Есть люди, которым поручено ломать без непосредственного риска для их жизни. Они в свое время сломают и то, что мы чиним. А наше дело чинить. Да так чинить, чтобы немцы были довольны и доверяли нам. Это наш долг, долг не перед нацистами, а перед Центром.
Эрих соглашался сразу, но отказался окончательно от попыток навредить немецким станкам только после того, как Степан пригрозил ему, что отчислит из команды.
Недавно мы встретились с Робером в Вене. Была международная конференция участников Сопротивления. Он стал солидным, медлительным, занят большой партийной работой. Мы долго сидели за бутылкой вина и вспоминали. Я напомнил ему и разговор с Болеславом. Он охватил руками поседевшую голову и с удивлением, сказал: «Какой я был дурак! Какой дурак!» Я заметил, как легко признают себя дураками люди спустя двадцать лет и как упорно не соглашаются они с этим, когда говорят или делают дурацкие вещи. Мы помянули Болеслава, Степана, Ондрея Гурбу, Карела Скоблу и долго молчали, растроганные одним и тем же видением…
Представь себе. Маленькая группка замученных людей плетется по бесконечной дороге. Мы идем по ней каждый день, в зной и стужу, под дождем и снегом, явные невольники и тайные солдаты. Идем, опустив головы, с трудом передвигая ноги. По пути сливаемся с другими командами, также окончившими работу. Мы уже где-то в середине длинной колонны. Впереди покачиваются незнакомые спины. Шарканье деревянных подошв заглушает хриплое дыхание, надрывный кашель, сдержанные стоны, окрики эсэсовцев, лай собак.
Мы идем точно по графику, рассчитанному образованными немецкими специалистами, докторами разных наук. Они предусмотрели все: и меру физической выносливости человека, и нормы ежедневного отсева, и технологию утилизации этого отсева, и прибыль монополий.
Ты их можешь найти сегодня в любом городе, в любом офисе Западной Германии: инженеров, юристов, врачей, коммерсантов, государственных деятелей – бывших архитекторов и строителей «упорядоченной» Европы. Они процветают и опять готовы считать, калькулировать, изобретать, сочинять законы и правила для нового, совсем уж «нового порядка».
Мы идем, затерявшись в потоке заключенных. Справа от меня Робер. Его губы крепко сжаты, как будто слиплись навечно. Я знаю, о чем он думает. И он уже почувствовал мой взгляд, чуть повернул голову, подмигнул, шевельнул локтем и углубился в свои планы. Слева – Болеслав. Сегодня я отвечаю за его благополучное возвращение в лагерь. Он старается меня не утруждать, но я сам вижу, как начинают заплетаться его ноги, и подхватываю, перекидываю его руку через свою шею, прижимаю к себе. С другой стороны его оберегает Ондрей. Три, четыре шага, и Болеслав высвобождается от нас, что-то сердито бормочет и снова идет как здоровый. Сзади – Степан, Эрих, Карел, Ян. Они тоже на страже. Он дойдет, Болеслав. И отстоит часы проверки на плаце. И доберется до барака. И утром опять будет с нами. Мы не дадим ему умереть.
Вот этого никак не могли предусмотреть специалисты Третьего рейха, лучшие знатоки физиологии, психологии и других логий, созданных человеческим разумом. Нас девять человек. Мы родились в разных странах, говорим на разных языках. Мы лишены всего. Наши тюремщики сделали все, чтобы превратить нас в тупых животных или диких зверей. Но простые, полные глубокого смысла слова коммунистов Степана Русса и Болеслава Брудзинского сплотили нас, сделали сильными. Какие специалисты могут взвесить и рассчитать могущество слов, выражающих истину?
Мы идем. У каждого из нас приклеен к ноге марлевый карман. Ни автоматы, ни собаки, никакая машина смерти не помешает нам пронести сегодня и передать еще одной группе антифашистов путевки свободы. Впереди вышка часового. Нужно приготовиться ко всему. А вдруг обыск догола? Такого давно не было, но кто знает…
Письмо затянулось. К тому же я убедился, что иные воспоминания воскрешают не только былые события, но и былую боль… Вернусь к Степану в следующем письме…
11
Вспоминая сейчас прошлое, все лучше понимаю, что тогда, в Содлаке, сам того не подозревая, я смотрел на людей, меня окружавших, сквозь туманные очки благодушия. Свыкнувшись с мыслью, что война для меня кончилась, я и свое комендантство принял как должность, вроде бы специально придуманную для того, чтобы дать мне время психологически подготовиться к возвращению на мирные рельсы.
К этой внутренней демобилизации располагал и тихий облик города, и доброе отношение ко мне жителей, а сильнее всего, пожалуй, близость Любы. Впервые за годы войны я с утра до вечера видел рядом с собой девушку, смотревшую на меня ласкающими глазами, старавшуюся угадать каждое мое желание, и считавшую меня самым умным и честным человеком на свете.
Если раньше я далеко не заглядывал, а будущее, до которого хотелось обязательно дожить, ограничивалось только желанным днем окончательной победы, то теперь, когда победа была совсем близкой, а мне отвели роль стороннего наблюдателя, мысли все чаще стали забегать вперед. С некоторой растерянностью я задумывался над тем, что буду делать, как стану жить, когда сниму шинель и все придется начинать сначала. И в этих мыслях, то ненадолго исчезая, то вновь появляясь, присутствовала Люба.
Если бы меня спросили, красива ли она, умна ли, я не знал бы, что ответить. Она ворвалась в мою жизнь, распахнув дверь, не постучавшись. И если бы я попытался объяснить себе или кому другому, как примагнитила она мои чувства и мысли, наверняка соврал бы. Полюбил, и все. С первого дня полюбил, хотя признался в этом и себе не сразу, а ей еще позже.
Ничего удивительного в этом не было. Уж если так получилось, что наши судьбы сошлись на случайном перекрестке военных дорог, и мы оба оказались в чужом городе, под одной крышей, то почему бы нам было и не полюбить друг друга? Мало ли мужчин, годами тянувших железную лямку войны, сходились с женщинами, случайно встреченными в дни передышек между боями? Всякое бывало. Сходились и на короткий час, бесследно исчезавший из памяти, и влюблялись накрепко, на всю жизнь, которую потом обрывала прицельная пуля или шальной осколок. Сам был грешен и других никогда не осуждал.
Уже в первый вечер, когда ушли последние посетители, когда мы остались вдвоем в моем кабинете и она стала рассказывать о своей жизни в неволе, чувство жалости привязало меня к ней куда крепче, чем иное многолетнее знакомство.
Когда ее выволокли из родной избы и повезли в Германию, ей только-только исполнилось шестнадцать лет. Везли их в товарных вагонах с наглухо закрытыми дверями. Сколько человек было втиснуто в вагон, Люба сказать не могла. Только по ночам двери с грохотом раздвигались и узницам выдавали «корм» – точно рассчитанный рацион. Человек среднего здоровья по этим расчетам не должен был умереть с голоду. Ведь везли очень нужную Германии рабочую силу. Среднездоровыми были не все, многие заболевали. Когда раздвигались двери, их уносили.
Я выпытывал подробности. Люба начинала плакать, негромко, чуть всхлипывая, но заводила надолго, слез у нее хватало. А я, дожидаясь, пока она перестанет сморкаться, шагал по толстому ковру – не мог спокойно сидеть на месте. Меня снова томила тоска несбывшейся мечты – воевать до последнего дня, добивать врага в его городах, на его дорогах.
Любу с большой группой русских женщин направили в огромное имение, владелец которого воевал на Восточном фронте. Работали с рассвета дотемна. Жили в сараях. Первые дни кормили так плохо, что они скопом пошли через поля и парки к дому, в котором жила «гнедиге фрау» – хозяйка имения. Иногда ее видели: верхом на серой лошади, в спортивных брюках и высоких сапожках, с хлыстом в руке, она объезжала свои владения, моложавая, красивая блондинка.
Дом был велик и показался Любе дворцом. Помещица вышла на балкон в окружении многочисленной челяди.
Порой мне казалось, что Люба пересказывает какой-то старый исторический роман… Солдаты угоняют беззащитных женщин и девчонок с родных мест, превращают их в крепостных, Детей отрывают от родителей. Вопли избиваемых. Сотни тысяч угнанных из разных стран работают на господ, баронов, помещиков… Какой это век?
Я уже видел и слышал Томашека, знал все, на что способны гитлеровцы. Но то происходило в лагерях, за колючей проволокой. Обыватель мог прикидываться ничего не ведавшим и не слышавшим о печах Биркенау. Но большой помещичий дом, помещица на балконе – и толпа голодных, оборванных женщин, вымаливающих у нее еду… Такие, как Люба, жили в неволе почти у каждого кулака, изнемогали на старых, всем известных заводах. Их не могли не видеть. Видели! И – ничего, считали нормальным. Вот этого я понять не мог.
Помещица выслушала переводчика и ушла, ничего не сказав. Женщин прогнали со двора, но кормить стали лучше. Второй раз они побывали на этом дворе уже не по своей воле. Их привели. Вперед вытолкнули пожилую, истощенную женщину. Кто-то из надсмотрщиков уличил ее в том, что она припрятала кочанок капусты.
На этот раз помещица говорила долго. Она объясняла, что воровать стыдно, что чужое брать нельзя и только в отсталых, варварских странах этого не понимают. Она сказала, что преступницу ждет тяжелая кара, и предупредила, что если такое повторится, наказаны будут все. Виновную увели, и больше ее не видели.
Рассказывая об этом, Люба опять заплакала не столько от жалости к женщине, сколько от обиды – она вспомнила, как начисто ограбили их село немецкие солдаты, как везли в Германию эшелоны ворованного русского добра. И муж «гнедиге фрау», когда приезжал на побывку с фронта, привозил целый грузовик краденых вещей.
Люба сидела, забравшись с ногами в широкое кресло, рассчитанное на телеса «деловых кругов», всхлипывала и вдруг, ни с того ни с сего, начинала улыбаться сквозь слезы. Она уверяла меня, что ей очень повезло. Не умерла в поезде, пока везли. Не попала к одной из тех ведьм-хозяек, о которых с ужасом рассказывали невольницы, побывавшие в разных местах. Одна такая ведьма жила рядом с тем хутором, куда Любу увезли после того, как в имении окончилась уборка урожая. Все знали, что она засекла насмерть работницу. А Любе везло. Ее бауэр – старый молчаливый немец – не бил и не ругался. Нужно было только работать не покладая рук, ухаживать за коровами, доить, кормить. И жена у него была, по словам Любы, добрая. А к работе Люба привыкла и не жаловалась.
– Чего ж ты плачешь? – спросил я. – Раз везло, скажи им спасибо.
– Как вы не понимаете, Сергей Иваныч? – с удивлением смотрела она на меня. – Повезло, что живой осталась, вас дождалась. Сколько раз слышала от своих товарок: нет, не дождаться, никогда нам свободными не быть, лучше смерть. Вам этого не понять.
– Куда уж мне!
– Я вот сижу тут и не верю, честно – не верю. Может, все снится… Ничего страшней неволи нет. Сколько я слез в эти подойники обронила…
– Представляю себе.
– Вы не смейтесь. Мы только тем и жили, что знали: вот придут наши, освободят. Кто надежду терял, те вешались, под поезд бросались. А кто и молитвы вспомнил. Встанут на колени и молятся, ей-богу, не вру. А я ни разочка надежды не теряла. Идешь поздней осенью, в деревяшках на босу ногу, до косточек промерзшая, а ихние ребятишки бегут сзади, кричат: «Русс швайн!» – свинья, значит. Я иду, а они кричат: Дни считала – сколько, думаю, осталось под ними жить? Три года ждала, – легко, думаете?
– Не думаю.
– Я и школы кончить не успела, когда нас угнали. Все, что на уроках учили, еще памятным было. А тут – ни книжки, ни кино. И все по чужой воле, все чужое…
Было в ней что-то не по годам ребячье, будто с того дня, когда ее вытащили из подвала, время для нее нет только остановилось, но и пошло вспять. За годы войны, оторванная от родины, от друзей, от всего, что просвещает человека, тянет его вверх, она многое забыла и ничего не приобрела, кроме горького опыта подневольной жизни. Я мысленно сравнивал Любу с ее однолетками, служившими в нашей армии связистками, регулировщицами, и дивился, насколько те выглядели старше ее и умом и речью.
Сердило меня, что пережитые страдания не озлобили Любу. То ли по молодости, то ли характер такой, но не могла она говорить о своих мучителях с тем ожесточением, какого я ждал от нее. Она только удивлялась, что есть на свете люди, способные порабощать и держать в неволе других. Когда я подсказывал ей подходящие, на мой взгляд, слова: «ненависть», «месть», она задумчиво молчала, и я видел, что они не находят отклика в ее чувствах.
– Ну, попалась бы сейчас тебе эта «гнедиге фрау», как бы ты с ней разговаривала?
– А чего мне с ней разговаривать? Да провались она пропадом, чтобы я глянула на нее. У меня нынче такая радость, все так мило на свете.
От Любы я узнал, что бывшие ее хозяева за несколько дней до прихода наших войск бросили свои имения и хутора и убежали на запад.
– И эта фрау удрала? – поинтересовался я.
– А как же! Первая. Ее имение тут неподалеку. А коровы остались, и свиньи, и все добро. А коровы какие! – восклицала Люба. – И все недоенные, некормленные. Они-то при чем?
– Придут наши трофейные команды, учтут, отправят к нам. У нас во многих районах ни одной живой скотинки не осталось, все либо поели они, либо сюда угнали. Теперь возвращать будем.
– Да это когда придут! А доить каждый день нужно, пропадут…
Пока я молча ходил по кабинету, раздумывая, что делать с брошенным имуществом, Люба заснула. Свернувшись котенком, она дышала ровно, раскраснелась. Я походил, походил и тронул ее за плечо: «Вставай!» Она вздрогнула, испуганно открыла глаза, не сразу меня узнала. Потом улыбнулась.
– Иди ложись. Место себе нашла?
– Нашла-а, – зевая, протянула она и, сонно пошатываясь, вышла из кабинета.
ИЗ ПИСЕМ СТЕФАНА ДОМАНОВИЧА
Октябрь 1963 г.
…Летом 1944 года и мы за колючим ограждением чувствовали, что история отсчитывает последние месяцы «тысячелетнего» рейха. В одном его владыки преуспели: за дюжину лет они истребили больше людей, чем сделали это за целое тысячелетие все завоеватели и палачи, вместе взятые. Во всем остальном – просчитались.
Даже если бы к нам не доходили вести извне, уже по обстановке в лагерях, по поведению эсэсовцев можно было догадаться, что дела гитлеровской банды ухудшаются с каждым днем. Зачастили комиссии. Поспешно перебрасывали заключенных из лагеря в лагерь. Вне очереди пропускали эшелоны со смертниками, подлежавшими немедленному уничтожению. Самые свирепые из нацистских недочеловеков совсем осатанели, изощряясь в издевательствах и пытках. Некоторые, из более дальнозорких, видимо, стали задумываться о грядущей расплате, меньше горланили, реже появлялись перед заключенными.
Только наш капо был по-прежнему деловит, строг и самоуверен. Благодаря нашему трудовому усердию, его авторитет в глазах начальства вырос, к своему званию он прибавил частичку «обер», а фактически выполнял обязанности командофюрера. Такой пост обычно занимал кадровый эсэсовец, но времена изменились, и почетную должность доверили уголовнику, доказавшему свою преданность и умение заставить работать специалистов. Да и команда наша была столь мала, что отряжать для нее строевого нациста, наверно, сочли лишним. Вместо прута капо обзавелся пистолетом. Ходил он гордый, неприступный и покрикивал на нас ничуть не тише, чем раньше.
Он же добился для нас неожиданного перемещения. Нас перебросили в крошечный филиал одного из бесчисленных отделений огромного лагеря. Заключенных здесь находилось немногим больше сотни, но проволока, вышки, охрана – все было по единому, хорошо знакомому нам плану. Филиал устроили около обширного поля, заваленного останками американских и английских самолетов, сбитых или потерпевших аварию над германскими городами. Их свезли сюда не зря. Гитлеровских инженеров интересовали авиационные приборы и вооружение противника. Хотя большая часть самолетов представляла собой груду обгоревшего и сплющенного металла, дотошные агенты Мессершмитта и Юнкерса справедливо считали, что кое-что ценное можно из них выковырять.
Работа была ответственной, и до нас ею занимались сами немцы. Но наступили трудные времена, немецкие рабочие понадобились на фронте, и наш капо вызвался наладить дело с таким же успехом, с каким мы ремонтировали станки.
Мы оказались на особом положении. Подсобные бригады растаскивали и сортировали обломки. Более или менее уцелевшие листы алюминия вырезали и паковали отдельно, а остальной лом обматывали проволокой и тоже подготавливали к погрузке.
Раз в день по железнодорожной ветке подходила пассажирская мотодрезина с открытой прицепной платформой. Заключенные загружали ее ломом и сопровождали километров за шестьдесят на узловую станцию. Там платформу разгружали, и дрезина с людьми возвращалась обратно.
Наша команда занималась только одним делом. Мы тщательно осматривали кабины летчиков, чаще всего то, что от них осталось. Мы ходили изрезанные и оцарапанные острыми краями растерзанного металла, но никогда еще не переживали такого душевного подъема, как в эти дни. Раньше всех изменился Степан. Он как будто оттаял, и мы убедились, что он может тепло, дружески улыбаться. Болеслав шепнул каждому из нас: «Скоро!» Робер стал насвистывать любимые песенки, и глаза его наполнились нетерпеливым ожиданием. Даже суровый Ондрей, во всем подражавший Степану, позволил себе помечтать вслух, как будет здорово, когда это произойдет.
Интересным человеком был Ондрей Гурба. Он никогда ни в какой партии не состоял, ничем, кроме механики, не интересовался, и в лагерь, как он полагал, его бросили по недоразумению. Один, втайне от всех, он очень точно продумал и совершил свой первый побег. Он добрался до родного города и только там понял, как трудно одному. Он не знал, как жить в подполье, с кем связаться, как себя вести, чтоб выжить. Он все еще надеялся найти тихий уголок и отсидеться, пока в этом сумасшедшем мире установится порядок. Но первая же попытка получить помощь у ближайшего друга, «честнейшего человека», хорошо устроившегося при оккупантах, закончилась провалом. Его выдали, вернули в лагерь и палками навсегда выбили из него беспартийность. Ондрей стал преданным учеником Степана и каждое его решение принимал как приговор высшей инстанции.
У него был гибкий, находчивый ум прирожденного изобретателя. Он мог рассчитать и подготовить любую операцию, не упустив ни одной мелочи. Ему и поручил Степан техническое обеспечение предстоящего побега.
Еще перед тем как мы приступили к новой работе, Степан предупредил нас: «В кабинах, кроме пулеметов и пушек, может найтись и личное оружие. Сдавать Ондрею». И мы нашли это оружие: отличные пистолеты с полными обоймами, ножи, электрические фонарики, карты. Трудно описать то наслаждение, которое испытывал каждый из нас, впервые почувствовав в руке тяжесть заряженного пистолета. И как трудно было расставаться с ним, передавать Ондрею, чтобы тот проверил его исправность и спрятал в тайник до заветного дня.
Жуткие минуты переживали мы, когда попадали в самолет, сохранивший следы трагической гибели экипажа. Разорванные, обугленные тела пилотов прикипали к металлу. Полные благодарности и скорби, хоронили мы прах этих неизвестных солдат вместе с частями самолетов.
Чтобы оправдать доверие, оказанное нашему капо, мы старательно демонтировали уцелевшие приборные доски, снимали манометры, тахометры, высотомеры, авиагоризонты, гирокомпасы. Иногда, после долгого раздумья, Ондрей приказывал раздробить какую-нибудь деталь, показавшуюся ему новинкой и потому особенно полезной для гитлеровцев.
Однажды Эрих подозвал Степана к самолету, который только что стали осматривать. Это был истребитель, одна из тех машин, которые после аварии падали либо в мелкую речку, либо в топкое болото и при падении не взрывались. Судя по толстому слою засохшей грязи, истребитель вытаскивали из трясины, в которую он погрузился по хвостовое оперение, обломав пропеллер и крылья. На помятом киле Эрих разглядел контуры красной пятиконечной звезды. Самолет был советским.
Степан вгляделся и с непривычной юношеской резвостью стал обмывать и протирать киль истребителя. Лицо его просветлело, губы вздрагивали, глаза не отрывались от звезды, проступавшей все отчетливей. Мне казалось, что он вот-вот заплачет – так велико было потрясение, испытанное им от встречи с невольным посланцем родины. Прямое попадание снаряда разворотило двигатель, но в кабине не нашли ничего. Летчик, видимо, успел выброситься с парашютом. Степан сам облазил каждый уголок самолета. Он ощупывал проводку, отдельные детали, над чем-то задумывался, покачивал головой, усмехался. Все, что было у него на душе, отражалось сейчас на лице, вырвавшись из-под долгого, неумолимого контроля. Он сам разбил каждый прибор, чтобы ни один, даже самый простой, не попал в руки врага.
Проверить, все ли мы снимаем и в какой сохранности, было невозможно. Никакой нацистский эксперт не рисковал лезть за нами в лабиринт развороченного, зубастого металла. Мы могли бы превращать в негодный хлам все подряд, если бы от качества нашей работы не зависело наше будущее.
Раз в неделю, кроме платформы с ломом, загружался еще и вагончик дрезины. В него мы втаскивали большие, крепко сколоченные ящики, в которых лежали надраенные нами до блеска, переложенные стружкой приборы. Мы же и сопровождали их до станции, чтобы сдать ценный груз с рук на руки. Отдельно упаковывались пулеметы и пушки, которые, согласно приказу, должны были сдаваться, в каком бы состоянии их ни нашли.