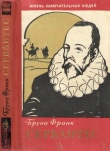Текст книги "С двух берегов"
Автор книги: Марк Ланской
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Стефан никогда столько не работал, как в эти дни. Сутками из своего кабинета в комендатуре не вылезал, совсем почернел. Поэтому я уверенно доложил:
– Ночей не спит, только этим и занимается.
– И ты не спи. Я бы мог следователя в помощь прислать, но, честно говоря, боюсь, что вы со Стефаном за его спину спрячетесь и сами ручки сложите. А в этом деле главная сила – местные жители. Без их помощи толку не будет. Мобилизуйте всех, объясните задачу и добейтесь успеха. Ты меня слышишь?
– Так точно.
– На сегодняшний день это твоя первейшая забота. За нее отвечаешь головой. Все!
И до этого разговора проклятая «задача» не вылезала у меня из головы. Как всегда, когда поселится в башке трудный вопрос, живет он там безвылазно днем и ночью, зудит, как комар, чем бы ты ни занимался, и начинают вокруг него клубиться смутные предположения, этакие туманности без формы и содержания.
Кутерьма, поднятая Стефаном вокруг Бауэра, раздражала меня, отвлекала от главного – от раскрытия убийства Терезы. Я собирался тотчас же отправить эсэсовца в СМЕРШ, пусть там разбираются, кто он есть. Но пришел Стефан и сказал, что Бауэр во всем признался.
– В чем именно?
– В том, что он не рядовой, а штурмбанфюрер, что действительно ездил по лагерям и учил убивать.
– С чего это он вдруг признался?
– Поговорили по душам, убедил, что деваться ему некуда, только хуже будет, если станет запираться… Он и признался.
К сообщению Стефана я отнесся с недоверием и приказал привести Бауэра.
Теперь он сидел на том же месте, где вчера, и подробно рассказывал, кем и где служил, в каких лагерях и когда бывал. Как положено, старался приуменьшить свои злодеяния, ссылался на то, что действовал по приказу и убил лишь нескольких человек, все равно обреченных на смерть.
Он уже не прятал своих рук, прикрывал ими глаза, как бы в сильном волнении и сожалея о содеянном, нервно теребил рыжеватую шевелюру.
Я даже не слышал, что мне переводил Стефан, все смотрел на руки Бауэра, и туманность вокруг убийства Терезы вдруг рассеялась, вернее наоборот, уплотнилась, приобрела различимые очертания верной догадки.
– Скажите, Бауэр, почему вы рубанули по шее Терезу? – спросил я и сам удивился наивности своего вопроса. Светловолосый, широкоплечий человек, которого Гохард видел в то утро в лесу, и Хаммерман из рассказа Томашека, и Бауэр, сидевший передо мной, слились в моих глазах воедино. Его рука-молоток как будто склеила разрозненные мысли. Чего я не мог понять, это причины убийства. Не верилось, что из-за грубой провокации такой матерый волчище стал бы рисковать жизнью. Потому я так прямо, без всякой подготовки и брякнул.
Стефан не сразу перевел мои слова. Он тоже не ожидал такого поворота. Но тут же моя догадка перешла к нему, он сам поверил в нее и взглянул на меня с завистью – не ожидал от меня такой проницательности.
Бауэр так побледнел, что только лепестки шрама остались розовыми и выделялись на лице, как приклеенные.
– Какую Терезу? – чуть слышно спросил он.
– Нойхойзер.
Он явно струсил и тянул время, чтобы прийти в себя от нежданного удара.
– Никогда не видел эту женщину, – сказал он.
– И мужа ее не видели?
– Мужа знаю. Вместе лежали. А жену его…
– Когда Нойхойзер выписался из клиники?
– Не знаю, я ушел раньше.
– Врете! Вас видели в Содлаке в день убийства Терезы. А муж ее исчез еще раньше. Куда он делся?
Бауэр уже почуял, что следователь из меня никудышный, допрашивать не умею, и приободрился, стал отвечать уверенней.
– Это мне не известно.
– Но вы признаете, что восемнадцатого апреля еще были в Содлаке?
– Нет. Я ушел из города пятнадцатого.
– Расскажите день за днем, где вы были и что делали до момента, когда вас поймали.
Этот вопрос я задал, чтобы самому разобраться в мыслях, пока он будет врать. Эх, если бы мертвую Терезу осмотрел специалист! Он бы сразу доказал, что ее не просто задушили, как определил Герзиг, а убили именно ударом твердого, как железо, ребра ладони. А как теперь это докажешь? Я был уверен, что убил он. Убить мог только такой душитель, как Бауэр. Но ведь одной уверенности мало. Прямых доказательств нет. И причина, почему он пошел на такое, тоже неясна.
Бауэр медленно называл даты, деревни, задумывался, тянул время.
Я вспомнил, как следователь Савельев проводил проверку показаний Буланова под открытым небом, и решил последовать его примеру.
– Вот что, Стефан. Пошли мотоциклиста за Гохардом. Пусть привезут его к месту убийства Терезы. А мы поедем с этим типом.
Вся несложная операция была разработана нами по дороге. Когда мы приехали в лес, Гохарда еще не было. Франц отвел Бауэра в кусты, примерно к тому месту, где его мог видеть в то утро старый инженер. А мы со Стефаном пошли встречать мотоциклиста. Вскоре он подъехал. Из коляски выбрался встревоженный Гохард. Теперь уже втроем мы пошли обратно.
– Покажите нам, господин Гохард, где именно вы увидели того человека, который убегал от вас.
– Это я помню! Я все отлично помню!
Когда мы поравнялись с кустами, где Франц прятал Бауэра, я подал ему сигнал.
– Посмотрите направо, Гохард! Смотрите! – крикнул Стефан.
Инженер увидел мелькавшую вдали широкую спину и резко выделявшуюся среди зелени рыжеватую голову бегущего Бауэра. Это зрелище так ошеломило его, что он чуть было не побежал в другую сторону, как бежал несколько дней назад. Он хотел закрыть руками лицо, но Стефан повторял:
– Смотрите, Гохард, смотрите!
В это мгновенье, повинуясь команде Франца, Бауэр оглянулся, и мы увидели розовое пятно его лица.
– Держите его! – закричал Гохард. – Держите! Это тот человек! Тот самый!
Он смотрел на нас, пораженный нашей пассивностью, весь во власти вновь пережитого страха.
На дорогу вышел Бауэр, а за ним Франц с пистолетом в руке. Я на всякий случай приказал ему держать оружие наготове. Бауэр старался изобразить крайнее недоумение.
– Бауэр! Этот человек, – Стефан показал на Гохарда, – видел, как вы убегали отсюда после того, как убили Терезу Нойхойзер. Он узнал вас.
– Он ошибся… Я здесь не был… Я не бежал… – испуганно бормотал Бауэр.
– Ложь! Вы бежали. Вы! – выкрикивал Гохард. – Я никого ни с кем не путаю. Вы бежали. И волосы ваши, и оглянулись вы точно так же, как тогда. Я не путаю!
– А в клинике вы его видели? – поинтересовался Стефан.
– Видел. Каждый день видел. И перед самым уходом видел.
– А вы, Бауэр, утверждаете, что покинули город пятнадцатого.
– Он ошибся, он ошибся… – твердил Бауэр.
Я приказал мотоциклисту отвезти Гохарда домой, а мы поехали в комендатуру.
Я был уверен, что Бауэр поймет всю бессмысленность дальнейшего запирательства и во всем сознается. Но когда мы в моем кабинете возобновили допрос, он занял прежнюю позицию – упрямо все отрицал.
Стефан переводил мои вопросы и его ответы, пока не потерял терпение. Он придвинулся ближе к Бауэру и вполголоса что-то сказал по-немецки. Эсэсовец мгновенно утратил самообладание. Он смотрел на Стефана с непонятным мне откровенным страхом.
– Что ты ему сказал? – спросил я.
– Потом, дай мне с ним договорить, – досадливо отмахнулся от меня Стефан. И снова, раздельно произнося слова, повторил Бауэру последнюю фразу.
Долго смотрели они друг другу в глаза, и такая чувствовалась напряженность в этой дуэли взглядов, как будто решалась судьба обоих. Наконец Стефан встал и решительным жестом показал на дверь. Бауэр приподнялся, но сразу же упал в кресло и тихо произнес что-то, полностью удовлетворившее Стефана.
– Он будет говорить.
– А что ты ему сказал?
– Ну какая разница? Попросил как следует… Сказал, что мне стыдно за него, за его вранье… Уговорил, в общем…
Бауэр, на этот раз менее бойко, запинаясь, рассказал, как убил Терезу.
– Пока я лежал в клинике, все боялся, что туда нагрянет полиция и меня разоблачат. Поэтому я решил бежать. Я считал, что добраться пешком мне будет легче, если на мне будет обмундирование советского солдата и документы. А лицо Герзиг забинтовал бы так, чтобы я мог не раскрывать рта. Я по-русски не говорю. Брюки и сапоги в клинике нашлись, а гимнастерки на мои плечи не было. И документов не хватало. Справку из госпиталя можно было оформить, а удостоверений не осталось. Поэтому мы разработали операцию «приманка». Несколько дней я высматривал одинокого солдата, который клюнул бы на девушку… Подвернулся этот сержант.
– А что за девушка?
– Племянница Герзига, фрейлейн Марта, работала у него в клинике старшей сестрой.
– Пусть рассказывает дальше.
– Сержант пошел за Мартой к тем кустам, за которыми я прятался. А я уже приготовил маску с хлороформом.
– Где вы взяли хлороформ?
– У Герзига.
Всякий раз, как Бауэр называл имя профессора, Стефан бросал на меня косой взгляд, напоминавший мне о наших недавних спорах.
– А не проще ему было убить сержанта, такому специалисту по этим делам?
Бауэр обеими руками оттолкнул эту мысль:
– Зачем убивать?! Я никого не хотел убивать. Если бы я его убил, вся полиция и военное командование стали бы искать человека в его гимнастерке. Я бы провалился сразу. А так я думал, что когда он проснется, сам будет молчать и гимнастерку найдет другую.
– Почему же он убил Терезу и сунул ей в руку сержантский погон?
Бауэр болезненно поморщился, попросил воды, пожаловался, что очень болит раненое плечо. Дали ему воды. Предложили прилечь, если трудно сидеть. Повязка на плече держалась нормально, и рана не могла помешать ему отвечать на вопросы. Он лег на диван, и мы подождали, пока он поудобней устроится.
– Я был в таком состоянии, – начал он снова, – что не соображал, что делаю. Мы разошлись с Мартой в разные стороны. Я побежал в клинику переодеваться и вдруг столкнулся с той женщиной. По ее лицу я понял, что она видела, как я раздевал сержанта… Она так смотрела на меня… Она могла подумать, что я его убил… Она хотела бежать, и у меня не было другого выхода… Она бы всем разболтала, и меня бы взяли…
– Ничего не соображал, а погон сунуть догадался. Спроси, для чего он это сделал?
– Чтобы стали искать русского, не меня.
– А почему он все-таки бежал не в гимнастерке и красноармейских сапогах, а в гражданской одежде?
– Это я уже потом сообразил. Понял, что, когда найдут женщину с погоном, мне никак нельзя будет появиться в советской форме, каждого будут проверять. Сам себе помешал… Ничего другого не оставалось, как бежать в штатском..
Не все концы сходились с концами в его рассказе, напрашивались другие вопросы. Но я решил, что всю правду из него вытянут более опытные следователи, а мне нужно немедля обезвредить Герзига.
– Ладно. В основном все стало на место. Отведи его и возвращайся, поедем забирать Герзига с его племянницей.
Пока Стефан ходил, я позвонил Шамову и доложил, что убийца Терезы, немецкий эсэсовец, пойман и признался.
– Лихо! – с радостным изумлением воскликнул Шамов. – Я же всегда говорил, что великий сыщик в Содлаке погибает. Молодец, Тараныч, гору с плеч свалил. Спасибо, друг. Сейчас пришлю за ним конвой. Гляди, чтобы не сбежал, как тот американец, – не удержался он, чтобы не кольнуть меня. – И протокол допроса пришли.
– Какой протокол? – оторопел я.
– Ты же говоришь, что он признался. Значит, допрашивали его, или так, без слов догадался?
– Допрашивал, но записать не успели… У меня времени в обрез, нужно еще в клинику ехать, там главари сидят.
– Какие еще главари?
– Профессор этот проклятый всему голова. А протокол сами заведете, все равно будете наново допрашивать.
– Ну, знаешь, гусь-хрустальный, – Шамов даже подходящих слов не находил, – ты только никому не говори, что вел допрос и при этом ни строчки не записал – мухи будут смеяться. Молись богу, чтобы он у нас не отперся от своих показаний.
– Не отопрется, – уверенно пообещал я.
Бауэр действительно не отперся.
ИЗ ПИСЕМ СТЕФАНА ДОМАНОВИЧА
Март 1965 г.
…Какими неумелыми и близорукими следователями были мы с тобой, когда радовались победе над Бауэром. Не знаю, как ты, а я очень гордился своей хваткой. Еще бы! Разве без меня он заговорил бы? Ты тогда спрашивал меня, почему он начал признаваться? Я что-то врал. Пора рассказать, как это было.
Ты помнишь первый допрос? Бауэра не сломили ни твоя уверенность, что он сапером никогда не был, ни показания Томашека. Скорей всего Томашек заставил его еще упорней отрицать все – живой свидетель был страшен, он олицетворял неминуемое возмездие. А реальных, прямых улик у нас не было, это он тоже понимал. Когда ты приказал увести его и пообещал отдать в руки ваших контрразведчиков, меня это мало успокоило. Я боялся, что он уйдет от виселицы. Нужно было заставить его заговорить, и единственный дуть, который я нашел, ты наверняка отверг бы. Поэтому я пошел на риск.
Поздно ночью в подвале, куда мы посадили Бауэра, я устроил небольшой спектакль. Мы раздобыли крепкое дубовое кресло с подлокотниками, похожее на те, которыми пользовались в гестапо. Мы раздели Бауэра до исподнего и крепко привязали к этому креслу – руки, ноги – все так, как делалось у них.
Янек зажег паяльную лампу и направил ее на клещи, плоскогубцы, шило, гвозди – на все, что нашлось в инструментальном ящике. Было в этом что-то от дешевой самодеятельной театральщины. Я боялся, что Янек начнет ржать в самый неподходящий момент. Но в целом обстановка для привязанного Бауэра получилась многообещающая. Лампа угрожающе шипела, металл стал наливаться малиновым жаром, запахло окалиной. Янек снял с себя рубаху, и его волосатые руки выглядели устрашающе даже без всяких инструментов.
Я хорошо знал, как пытали в гестапо, и с видом специалиста излагал программу «допроса»: показывал ногти на руках Бауэра и делал дергающие жесты, тыкал в места, куда будем потихоньку вгонять иголки.
В успехе я не сомневался. Я знал, что он все выложит до того, как мы поднесем к нему какую-нибудь раскаленную штуковину. Он не мог не помнить, как корчились его жертвы, сидя в таком же кресле. Потому и страх перед пыткой у него должен был быть во много раз сильней. Палачи не могут не быть трусами, никакой внутренней точки опоры для сопротивления физической боли у них нет.
Я вижу, как ты морщишься, читая эти строки. Да и я сейчас дивлюсь, как пошел на такое. Впрочем, так же дивлюсь, вспоминая, с какой легкостью убивал из засады каждого, кто попадал в прорезь мушки. Когда ненависть уходит из сердца в архив воспоминаний, многое становится непонятным.
Ты спросишь: «А если бы он не испугался? Пытал бы ты его?» Нет, конечно. В этом заключался риск: а вдруг не испугается? Пришлось бы со стыдом сворачивать свой балаган и признаться в поражении.
Но когда Янек черными рукавицами подхватил раскаленные клещи, плюнул на них и слюна, пискнув, мгновенно испарилась, в глазах Бауэра я увидел такой страх, какой появлялся только в лагере у людей, отправляемых в крематорий. Он красноречиво задергал головой: «Не нужно, так скажу».
Как я и ожидал, он заговорил, как на исповеди. Он не только подтвердил все, что говорил Томашек, но дополнил его, уточнил, вспомнил детали. Вот тут-то и сказалась моя неопытность и неуверенность. Вместо того чтобы держать его под угрозой и задавать новые вопросы, я приказал Янеку погасить лампу, записал показания Бауэра, получил его подпись и только предупредил, что если он завтра перед тобой пойдет на попятную, я уже одним показом орудий пытки не ограничусь.
Прозрел я на следующий день, но было уже поздно. Когда тебя осенило, что это он убил Терезу, я ни минуты в этом не усомнился. Он стал врать, и я напомнил ему, что паяльная лампа осталась на месте и клещи будут пущены в ход. Он снова заговорил. Тогда только я сообразил, что вчера он бросил нам кость и мы ею удовлетворились. Возникло подозрение, что признание в убийстве Терезы – вторая кость, что он еще многое скрывает. Но ты торопился закончить допрос и не дал мне времени для нового, разговора с ним в подвале. Ты отправил его к своим прокурорам, и не думаю, что им он сказал больше.
А как много важного могли бы мы узнать тогда же, двадцать лет назад! В Бауэре жила еще дисциплина гитлеровской шайки, секрет всей организации людоедов он скрывал до последнего, и он ушел в могилу со своей последней тайной.
О себе он рассказал почти все. Скрыл самую малость, которая казалась нам несущественной. Он не признался, что фамилия у него чужая, что никакой он не Бауэр. И мы не настаивали, поверив дешевой сказке, что он присвоил документы своего покойного брата, который действительно был солдатом и сапером. А в этой «малости» таилась та ниточка, которая вела в святая святых последнего гитлеровского заговора.
Если бы заставили его признаться, что он не Бауэр, а Бергер, мы бы вспомнили, что под такой фамилией на кладбище Содлака рядом с другими похоронен штурмбанфюрер. Мы бы задумались: как же так? Бергер похоронен, и Бергер жив, сидит перед нами? Кто же лежит под его именем в могиле? Если жив Бергер, то, может быть, живы и остальные «захороненные» в Содлаке? В таком случае нужно огласить их имена, объявить розыск, не дать уйти! Ничего этого мы не сделали: не узнали, не задумались, не подняли тревоги.
Сколько усилий пришлось потратить, сколько лет ушло, прежде чем тайное стало явным. Конечно, легко быть умным сейчас, владея засекреченными документами, располагая данными о пластических операциях, фиктивных захоронениях и прочих уловках гитлеровской камарильи. А тогда мы еще очень мало знали. В 1945 году нам казалось, что члены разгромленной фашистской банды бегут кто куда, охваченные паникой. Мы и допустить не могли, что существовал хорошо продуманный план их спасения, заранее разработанные маршруты, подготовленные убежища, подставы, проводники, деньги.
Теперь я мог бы с закрытыми глазами провести тебя по горным тропам, которые вели спасавшихся эсэсовцев в деревушки Австрийских Альп, в монастыри северной Италии, в порты, откуда открывались дороги в заповедники Латинской Америки и Южной Африки. Канцелярия Бормана спасала свои кадры не из слюнявой жалости к сообщникам. Она смотрела далеко вперед, в наш сегодняшний день, когда каждый уцелевший нацист снова стал козырной картой в руках реваншистов.
Помнишь, мы удивлялись, почему Хубе и компанию оставили в Содлаке, зная, что туда придут советские войска. Очень просто! Если бы эта кучка физически здоровых убийц, чьи имена и лица были хорошо известны, стала метаться между лагерями для военнопленных, дело могло кончиться для них печально. Даже попав к американцам, они в те месяцы не были гарантированы от суда и наказания. Слишком велик еще был накал борьбы, слишком громко стучал в сердцах народов пепел Освенцима и Майданека.
У Герзига было спокойней. У него при желании можно было вообще освободиться от своей физиономии и взамен получить другую.
Но и не в этом самое существенное. Вовсе нет. Уж очень ценными были кадры, доверенные Герзигу. Спасти их нужно было наверняка. И спасти так, чтобы они… исчезли. Для этого их нужно было обеспечить чужими, но полноценными документами. Не фальшивками, а подлинниками. Чтобы при проверке не всплыло настоящее имя того же Бергера, его нужно было похоронить. И не где-нибудь на поле боя, под случайным кустом, а на приличном кладбище. И закрепить факт смерти свидетельством авторитетной клиники. И зафиксировать этот факт в официальном порядке, в полиции.
В случае каких-либо сомнений достаточно было назвать кладбище и город, в котором бдительно следит за порядком русский комендант…
Нам с тобой не хватило прозорливости. Среди других мы упустили Хубе. Так же, как Бергер, он был похоронен и остался живым…
32
Мы ехали в клинику, уверенные, что застанем Герзига врасплох. Удивили нас широко раскрытые ворота и полное безлюдье на дворе. Мы ходили из кабинета в кабинет, из палаты в палату и не находили ни души. Только на втором этаже лежал весь перебинтованный человек, воспаленными губами повторявший одно и то же слово: «Тринкен… тринкен…» Видимо, давно уже никто не поил его.
В канцелярии распахнутые створки шкафов, выдвинутые ящики и разбросанные бумажки свидетельствовали о том, что здесь торопливо разбирали архив. В гараже я убедился, что отсюда недавно выехала машина – еще свежими были и пятна смазки на бетонном полу, и следы шин.
Я бросился к телефону. Шамова на месте не было. Приказал дежурному немедленно оповестить все посты на дорогах и во что бы то ни стало задержать немецкую санитарную машину вместе с находившимися в ней людьми.
Меня окликнул Стефан. Он стоял на крыльце сторожки и махал мне рукой.
В небольшой комнате на койке больничного образца лежал Лютов. Лицо его было красно-бурым, глаза уставились в потолок. Правый, стеклянный, смотрел как живой, а левый – как глаза всех мертвых людей.
Стефан поднял с пола осколки ампулы и показал мне.
– Яд, – сказал он. – Очень сильный яд. Отравился.
Франц, осматривавший комнату, поднес мне исписанные листки бумаги:
– Тебе. Письмо.
Я узнал крупный, прямой почерк Лютова.
Этот примечательный документ храню до сих пор.
«Многоуважаемый Сергей Иванович!
Не ведаю, когда письмо это попадет в Ваши руки, и сам сознаю его ненужность, но не могу уйти в мир иной, не написав Вам.
Не более чем пять минут назад видел сквозь оконце свое, как с великой поспешностью отбывал мой заклятый покровитель профессор Герзиг. Нечто встревожило его с утра. Отпустил он весь персонал и с помощью двух «больных» приступил к сборам в побег. Да, иначе чем «побег» я его отъезд назвать не могу. И кавычками обозначил «больных» потому, что только повязки на головах приобщали их к раненым, а судя по живости их движений и выносливости, показанной при загрузке машины, пребывали они в полном здравии. Сомнений нет, бежали враги. Опасные враги! И я ничего не сделал, дабы помешать им. А ведь мог! Единственное, чем мог помочь русской армии.
Давно, еще до знакомства с вами, догадывался я о зловещей роли моего хозяина. Хотя и не было у него ко мне доверия и в лечебный корпус вход мне был заказан, странные события, происходившие в палатах, не могли остаться неприметными даже для моего, ни к чему не причастного взора. Куда-то исчезали мельком виденные мной ходячие пациенты, кого-то прятали в морге, среди ночи приходилось мне открывать ворота наглухо зашторенным машинам неких высокопоставленных лиц. Не прекратил Герзиг своих тайных махинаций и после Вашего прибытия в Содлак.
Напрасно майор Шамов заподозрил меня в злокозненных действиях. Никогда я не фискалил и всегда презирал наушников. Но должен признать (с опозданием уразумел), что оскорбление, нанесенное мне, пусть в малой мере, было заслуженным.
Много лет опорой мне служило неверие. Жил в неверии, как в иночестве, от всех и от всего отрешенный. Все войны и революции, и прочие злодейства, творимые человеком, полагал неотъемлемой привилегией его пакостной натуры. Посему ничто не могло удивить меня или принудить к действию.
Вновь заставила меня увидеть благость души человеческой милая Любаша, бесхитростная девушка, одаренная божественной добротой ко всему живому. Ей земно кланяюсь в свой последний час.
И Вы удивили. Не разберусь чем. То ли бескорыстием, столь не свойственным лицам, облеченным властью, то ли простодушной прямотой, с коей Вы утверждали справедливость, то ли чем другим.
Глянул я на себя со стороны и не получил удовольствия от сего зрелища. Снизошло убеждение, что дурно жил. Человек, покуда дышит и ест, не может пребывать в блаженной непричастности к добру и злу. Уже молчанием своим помогал я Герзигу в его черных делах. Иноческая гордыня помешала мне насторожить Вас. Каюсь, но поздно.
Не подумайте, что вновь обрел я веру в возвышенный смысл жизни. Нет, не обрел. Но и неверие в человека рухнуло. По сей причине не покой, а смятение сопровождает меня в эту минуту, когда, гонимый телесной немощью и душевной мукой, готовлюсь переступить смертный порог.
Не обижайте Любашу, Сергей Иванович. И не поминайте лихом штабс-капитана Лютова».
Ни в этот день, ни в последующие Герзига не задержали. Нашли пустую санитарную машину, сброшенную в глухое ущелье, а пассажиры исчезли бесследно.
ИЗ ПИСЕМ СТЕФАНА ДОМАНОВИЧА
Июнь 1965 г.
…След отыскался. На прошлой неделе я побывал во Франкфурте-на-Майне и удостоился приема у профессора Герзига. Хотя ему много за семьдесят, он сам оперирует, очень занят, и пришлось заручиться солидной рекомендацией, чтобы отнять у него полчаса драгоценного времени.
Даже когда я назвал свою фамилию, упомянул Содлак и 1945 год, он продолжал смотреть на меня сквозь голые стекла очков, как на впервые увиденного человека.
– Мне нужно проконсультироваться с вами, господин профессор, по поводу одного, весьма странного медицинского казуса.
Я протянул ему фотокопию регистрационной карточки, изъятой у него в твоем присутствии много лет назад. Он издали взглянул на нее, но не шевельнул пальцем. Я положил ее на стол и пододвинул к нему поближе.
– На этом документе ваша подпись, господин профессор. Надеюсь, вы не поставите под сомнение ее подлинность.
Он безмолвствовал.
– Из этого документа следует, что ваш бывший пациент Ганс Эрвин Хубе был доставлен к вам после тяжелого ранения, в безнадежном состоянии, и умер тридцатого марта тысяча девятьсот сорок пятого года… Некоторых лиц заинтересовал такой вопрос: как мог умерший и погребенный Хубе воскреснуть?
Я выжидал, выискивая на его лице признаки беспокойства. С таким же успехом я мог вглядываться в египетскую мумию.
– Мне кажется, господин профессор, что в ваших интересах объяснить это чудесное воскрешение до того, как им заинтересуются влиятельные газеты.
Я вовсе не был уверен, что газеты заинтересуются этим делом, но мне нужно было сбить с него броню молчания. Он действительно заговорил:
– Вам следует обратиться к своим коллегам – полицейским. В обязанности врача никогда не входила проверка документов поступающих больных.
– Вы хотите сказать, господин профессор, что документы могли быть подложными и под именем Хубе скрывался другой человек?
– Я сказал то, что сказал: меня не интересует, кто под какими документами умирал или выздоравливал.
– Может быть, вас заинтересует судьба другого вашего пациента, Нойхойзера? Он исчез после того, как был похоронен Хубе. Он пошел встречать свою жену и пропал. А жену его встретил и убил другой ваш пациент – Бергер, кстати тоже числившийся умершим. После этого вы уехали из Содлака, даже не попрощавшись с комендантом.
Почему-то последнее замечание вызвало у него раздраженную реплику:
– Я не был арестованным и не нуждался в разрешении на выезд.
– Я только восстанавливаю последовательность событий и хочу с вашей помощью выяснить, куда девался муж Терезы Нойхойзер?.. Установлено, что человек с его документами оказался в американском лагере для военнопленных, был оттуда отпущен и несколько лет жил, как бывший солдат Нойхойзер. А потом, когда минули самые опасные для него годы, он вдруг вспомнил свою настоящую фамилию и превратился в Хубе. Вы следите за изложением фактов?
– Напоминаю, что время, отпущенное для беседы с вами, истекает.
– Постараюсь не выйти из регламента. Итак, возник вопрос: куда девался Нойхойзер? Не документы, а человек? Документы присвоил Хубе. Естественно предположить, что, заменив Нойхойзера в жизни, он предоставил ему свою могилу. Кого-то ведь нужно было хоронить. Не так ли, господин профессор?
– У вас плохая память, господин полицейский. Придется повторить, что хоронили умерших, а выпускали выздоровевших… А с какими документами, врачам было безразлично.
– Я только на вашу память и рассчитываю, господин профессор. И еще на логику. А она подсказывает, что все, приписанное в этой истории болезни Хубе – тяжелое ранение, безнадежное состояние, – относилось к другому человеку, к Нойхойзеру.
Я ждал ответа с затаенным волнением. Он долго раздумывал, но не увидел ловушки.
– Вполне возможно, что так и было.
Я достал фотокопию письма Нойхойзера жене и положил перед ним.
– Все могло быть так, господин профессор, если бы из этого письма не стало известно, что Нойхойзера ранили легко и за несколько дней до смерти он был здоров. Между прочим, этот же факт подтверждал в вашем присутствии и господин Гохард. Он жив. Тогда вам удалось выдать его за психически неполноценного человека. Сейчас сделать это будет трудней.
Впервые костлявые, высушенные старостью руки Герзига пришли в движение. Они занялись очками, медленно протирали стекла и не сразу водрузили дужки на место.
– Не понимаю, почему я должен выслушивать ваши полицейские домыслы?
– Хотя бы из любопытства, господин профессор. Неопровержимо, что эта история болезни, скрепленная вашей подписью, фальшивка. Она не отражала состояния здоровья ни Хубе, ни Нойхойзера. Очевидно и другое: чтобы группенфюрер СС Хубе не боялся пользоваться документами солдата Нойхойзера, этому солдату нужно было умереть. И он умер. А тут некстати появилась его жена. Представляю себе, как вы перепугались, господин профессор. Ведь грозило разоблачение. Сказать ей, что муж умер, вы не могли. Тогда нужно было бы показать ей могилу. А над могилой Нойхойзера уже стоял крест с фамилией Хубе. Пришлось поручить опытному душителю Бергеру убрать ее… Зато другие солдаты вермахта умирали без осложнений. Умирали, оставив свои документы и места в жизни штандартен– и штурмбанфюрерам… И всех их умертвили вы, господин профессор.
Пока я выкладывал все, что думал об этом достойном сподвижнике Виртса, Менгеле, Клейна и других дьяволов от медицины, он успел вернуть самообладание. Он уже сообразил, что документальная основа для его обвинения слишком бедна. Он не зря увез из Содлака архив последних месяцев. Единственная «история болезни» Хубе была слишком тонкой ниточкой, чтобы за нее ухватился кто-нибудь из прокуроров ФРГ, они и за прочные канаты берутся с неохотой.
Я не заметил, как он нажал кнопку, но в кабинете появился дюжий санитар.
– Помогите господину найти выход, – сказал Герзиг.
На этом мы расстались.
…Если не выпускать из-под микроскопа Ганса Эрвина Хубе как контрольную бациллу, можно проследить все метаморфозы, которые происходили с носителями коричневой чумы за послевоенные годы. От стадии «Спасение», через промежуточную «Внедрение», они вступили в решающую: «В поход за власть, к новой войне!»
На днях я по зову Франца приехал на один из предвыборных митингов НДП. Мы уплатили по две марки за вход и очутились в большом зале, заполненном людьми. Да, не зверями в черных мундирах и с бесчеловечностью в глазах, не одряхлевшими вояками в перелицованных мундирах. Нет. Места в огромном амфитеатре занимали обыкновенные люди, которые ничем не выделились бы на улице любого города или на любом другом собрании.
По их лицам и рукам нетрудно было догадаться, что вместе с обычными бюргерами сюда пришли и крестьяне, и рабочие. Да, и рабочие. Но особенно меня удивило количество студентов и совсем молодых представителей вполне интеллигентных профессий: учителей, юристов. Они не могли быть участниками войны, не могли пройти изуверской школы гитлерюгенда. Что же привело их сюда?