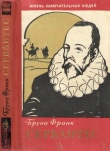Текст книги "С двух берегов"
Автор книги: Марк Ланской
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– Но почему он не дождался жены в клинике?
– Это легко понять, когда муж давно не видел свою жену… А задерживать его я не считал себя вправе… Все равно не дождался бы, – добавил Герзиг многозначительно. Губы его сложно изогнулись, изображая глубокую скорбь и отвращение.
– Почему же он ее не встретил, если ушел раньше? Она была совсем недалеко от клиники. Почему потом сбежал? – опять со строгостью следователя вмешался Стефан.
Герзиг снял очки, долго протирал стекла, вернул их на место и проверил, прочно ли улеглись дужки за хрящами ушей. Ответил он, глядя прямо в лицо Стефану:
– Я никогда не служил в полиции и расследованием преступлений не занимался… Может быть, вы сами ответите на эти вопросы, когда найдете убийцу среди ваших русских друзей.
Кулаки Стефана сжались в бессильной ярости. Даже Франц как будто приготовился к прыжку. Я решительно встал.
– Едем!
– Одну минутку, – сказал Стефан и повернулся к Герзигу: – Покажите мне историю болезни Хубе.
Герзиг усмехнулся и неторопливыми движениями стал перебирать карточки большого формата. Одну из них он протянул Стефану. Карточка была с обеих сторон испещрена мудреными медицинскими терминами, и профессор, наверно, с ехидством ожидал, как будет выглядеть полицейский, вникающий в историю болезни.
Но Стефан небрежно сложил карточку пополам и вместе с отобранными удостоверениями личности сунул в карман.
– Я не могу этого допустить, господин комендант, – сердито поднял голос Герзиг. – Медицинские документы должны храниться в архиве лечебного учреждения.
– За исключением тех случаев, когда они нужны следственным органам, – отпарировал Стефан.
– Вам их вернут, как только следствие будет закончено, – успокоил я Герзига, хотя и сам не знал, о каком следствии идет речь. Не знал этого и Стефан. Но прежде чем уйти, он распорядился:
– Ни одного раненого без моего разрешения из клиники не выписывать!
В машине он долго не мог успокоиться, ругал Герзига на разных языках. Опять стал всматриваться в удостоверения захороненных нацистов и спросил Франца:
– Что ты об этом думаешь?
– Очень все странно, – ответил Франц. – Не могу понять, почему он не хоронил их тайком? Зачем заявлял в полицию, когда уже было известно, что через несколько дней сюда придут русские? Ведь этим он сам наводил подозрение на себя…
– А, дьявол его знает, – с досадой сказал Стефан. – Наверно, хотел подчеркнуть свою лояльность и показать, что бояться ему нечего… Или педантичность подвела. А может быть, ни то ни другое… Как бы там ни было, – обратился он ко мне, – прошу тебя, закрой это фашистское гнездо. Отправим раненых в госпиталь, а сам Герзиг пусть убирается.
– Ты хочешь поссорить меня с местной интеллигенцией и лишить Содлак всякой медицинской помощи. Дюриш мне докладывал, что Герзиг принимает больных безотказно. Все довольны.
– Еще бы! Когда ты пригрозил. Он и клизмы будет сам ставить, лишь бы никто посторонний в клинику не заглядывал.
– Важно, что он помогает, делает то, что ему приказано. А закрыть… Это проще всего.
– Но нельзя терпеть этого нацистского лейб-доктора! – с отчаянием воскликнул Стефан.
– Только потому, что у него подохло несколько эсэсовцев?
– А откуда мы знаем, скольких он спас?
– Мы ничего не знаем.
Какое-то время ехали молча. Стефан встряхивал головой, не то отгоняя навязчивые мысли, не то сокрушаясь из-за моего упрямства. Новое его предложение прозвучало совсем уж неожиданно:
– Убери хотя бы из комендатуры Лютова. Подыщем другого переводчика, похуже, но своего, не предателя родины.
– При чем тут Лютов? И никакой он не предатель. Когда-то воевал на стороне белых, четверть века назад. С тех пор ни в чем не провинился. Почему я должен гнать его, если есть от него польза?
– Но живет-то он у Герзига! И зависит от него со всеми потрохами. Он ведь наркоман.
– Кто?
– Лютов. Это всем известно. Говорят, что таким его Герзиг сделал, а может, сам привык, но без морфия он жить не может. А весь морфий у герра профессора. За одну ампулу твой переводчик все на свете продаст. Наверняка шпионом у Герзига служит.
Эта новость многое объяснила мне в поведении и характере Лютова. Но усомниться в его искренности мне что-то мешало. И уж меньше всего он был похож на шпиона. Да и что он мог передавать Герзигу? Даже если этот профессор связан с нацистами, ничего полезного для них он через Лютова получить не мог. В разговорах, которые переводит штабс-капитан, ничего секретного нет, о них и так весь город знает. К служебным бумагам у него доступа нет, и сам он ничем, его не касающимся, не интересуется…
– Такого переводчика ты мне не достанешь. Пришлет Шамов другого, этого уволю. А пока нет у меня оснований.
Вспомнил я еще Любины слова «жалко же старика», но приводить их не стал. Стефан обиженно замолчал.
ИЗ ПИСЕМ СТЕФАНА ДОМАНОВИЧА
Ноябрь 1964 г.
…В одном из писем я послал тебе фотографии Нойхойзера и Хубе – солдата, исчезнувшего после убийства его жены, и генерала СС, у могилы которого мы стояли в Содлаке.
Недавно я видел покойного группенфюрера живым и невредимым. Я узнал его сразу, хотя на нем не было генеральского кителя, опоясанного лакированным ремнем, не было широкой повязки со свастикой на левом рукаве, не было фуражки с орлом на вздернутой тулье. В скромном темном костюме, белом воротничке он казался ниже ростом. И лицо, каких тысячи, – лицо много пожившего, но еще крепкого дельца, умеющего владеть собой.
И тогда, двадцать два года назад, он был таким же спокойным, деловитым, только без этих чисто выбритых морщин, отделяющих второй, отвисший подбородок. Его окружала многочисленная свита, и смотрел он куда-то выше наших голов. Он не мог смотреть иначе – наши головы свисали у самой земли. Все мы, сколько нас было на огромном аппельплаце, стояли на четвереньках и прыгали, как лягушки.
Нас было слишком много, чтобы все могли расслышать команду, поданную голосом. Поэтому притащили большой барабан, и рослый ротенфюрер бил по нему с такой силой, что гул разносился по всему лагерю.
Бам! Прыжок… Нужно было оторвать ладони от мокрой липкой земли, как можно быстрее подтянуть колени, оттолкнуться носками и снова прижаться коленями к земле, чтобы хоть на несколько секунд дать отдых мышцам.
Незадолго до этого прошел шумный весенний дождик, оставив на плаце много мелких лужиц, и сейчас руки расплескивали грязную воду, брызги попадали в глаза, на губы. Бам! – Прыжок. Бам! – Прыжок. Я прыгаю рядом с Казимиром Поворским, священником из Польши. Он много старше меня и раньше прибыл в лагерь. Лицо его сначала покраснело, а после третьего прыжка стало зеленым. Бам! – Прыжок. Еще один. Еще…
Но темп прыжков показался Хубе недостаточным. Он дал команду, и удары барабана стали чаще: «Бам! Бам! Бам!» Я стараюсь сохранить силы и сокращаю дистанцию, на которую можно выбросить руки. Я ни о чем не думаю. Я не хочу прислушиваться к нестерпимой боли, которая пронизывает все тело. И ноги, и спина, и руки, и шея требуют покоя. Они требуют от меня: «Остановись! Мы больше не можем! Есть ведь предел человеческим силам!» Нет, не должно быть предела. Я помню: остановка – смерть. А я не хочу умирать.
Бам! Бам! Прыжок. Прыжок. Прыжок… Казимир Поворский упал. И прыгавший впереди упал. Бам! Бам! Бам! Я уже не вижу ни желтой земли, ни воды, не чувствую брызг. Я только слышу удары барабана и ругань капо, избивающих палками лежащих. Наверно, я сделал лишний прыжок, не сразу услышал, что барабан перестал бить, и получил удар по голове.
В ушах гудел замолкший барабан, и я едва расслышал команду: «Встать!» Только теперь я огляделся. Как много людей осталось на земле.
Такого еще не бывало. «Гимнастика» практиковалась и раньше. Но впервые ее устроили после работы, когда мы только вернулись в лагерь, шатаясь и поддерживая друг друга. Это Хубе решил лично проверить, сколько среди нас ослабевших, зря хлебающих баланду Третьего рейха.
Не пора ли еще кому очистить жизненное пространство? Оказалось, что таких много. Он был доволен результатами проверки, а начальство лагеря стояло с виноватыми лицами.
Заключенные из тотенкоманды оттащили лежавших. Мы сомкнули ряды. «Лечь!» Мы бросаемся плашмя на землю. «Встать!» Мы поднимаемся. Не все. «Лечь! Встать!»
Он двинулся к нам. Именно в эти минуты я запомнил его на всю жизнь. Он шел вдоль рядов, скользя взглядом по нашим фигурам. Время от времени он на мгновение останавливался, а шагавшие рядом с ним эсэсовцы выталкивали из шеренги человека и отводили в сторону. Иногда он задерживался на несколько мгновений, и тогда отводили группу.
Он приближался ко мне. Я старался не смотреть ему в лицо. Мне казалось, что, встретившись с ним глазами, я остановлю его внимание на то роковое мгновение. Я выпрямился и как мог выпятил грудь. Я хотел выглядеть молодцом, способным принести еще много пользы великой Германии. Мне еще рано умирать. Я хочу жить. Я еще молодой и сильный.
Шаг. Еще один… Остановка. Идет… Проходит мимо.
Мы расходимся по баракам. А сто двадцать отбракованных повели на территорию блока № 7. Их ждала смерть.
Несколько лет спустя, проходя денацификацию, он с гордостью утверждал, что не убил ни одного человека. Он был лишь инспектором ВФХА – главного административно-хозяйственного управления СС. Правда, старшим инспектором. Разумеется, в его обязанности входило посещение лагерей. Но он только выполнял свой долг. Он следил за порядком и соблюдением законов. Разве это преступление? Денацификаторы нашли, что инспектор не мог быть преступником. Его освободили и назначили пенсию – 1293 марки в месяц.
И вот он приближается к ленточке, увитой пармскими фиалками, разрезает ее поданными на подносе ножницами и первым входит в царство цветов. Он – почетный председатель Общества любителей цветоводства. Он – тонкий знаток и авторитетный ценитель. Еще бы! Агенты его фирмы покупают цветы в Голландии, Южной Америке, Италии. В его собственных оранжереях выращиваются редкостные тропические экземпляры.
Пригласил меня присутствовать на открытии выставки цветоводства Франц. Он хотел, чтобы я своими глазами увидел это зрелище: через восемнадцать лет после своих похорон Хубе стоит, окруженный благоуханием цветов и уважением сограждан.
Цветовод Хубе интересует меня не как заключенного № 68035, а как историка, потеснившего чувство слепой ненависти, чтобы дать место зрячей тревоге. Он любопытен во многих отношениях. На его примере видно, с каким запасом прочности создавалась система спасения будущих теоретиков и практиков неонацизма.
Еще задолго до 1945 года самые дальновидные из подручных Гитлера понимали, что катастрофа неизбежна. Они еще кликушествовали вместе с фюрером, еще расстреливали и вешали сомневающихся в победе, а сами готовились к переходу в подполье, создавали финансовую базу, примеряли маски, придумывали новые лозунги, искали новых покровителей.
Они даже перестарались. Они готовились к более длительным и трудным испытаниям. Знать бы им, что не пройдет и пяти лет после капитуляции, как нацисты начнут объединяться под разными вывесками, а эсэсовцы станут устраивать легальные сборища. Может быть, они и не затрудняли бы Герзига рискованным кладбищенским маскарадом.
Хубе всегда любил цветы, но не всегда был старшим инспектором ВФХА. Начинал он с меньшего и за короткий срок сделал умопомрачительную карьеру – уж очень был старательным и способным служакой.
Степан столкнулся с ним еще в 1941 году, вскоре после пленения. Пожалуй, ни о ком он не говорил с такой ненавистью, как об адъютанте начальника, лагеря, молодом Гансе Эрвине Хубе.
У адъютанта было много свободного времени, и он развлекался как мог. Он очень любил цветы. Пеплом сожженных людей он удобрял цветники, которые разбил у домов, где жило начальство. Он уже тогда хорошо разбирался в цветоводстве, и клумбы пестрели до поздней осени. Корзины с лучшими экземплярами он посылал своей любимой жене.
Еще Хубе любил изобретать. Стоявшие в его кабинете никелированные тиски для раздавливания пальцев приводились в движение специальным механизмом. Каждый палец можно было раздавить отдельно, а при желании – и все сразу. Он же придумал капельницу с подогревом. Капали в нос. Простую воду, но нагретую до точки кипения. После двадцатой капли допрашиваемый сходил с ума, и его убивали, как непригодного к работе.
Все это и многое другое из далекого прошлого стало известно не сразу. Я не искал Хубе, потому что считал его покойником. Но остались в живых многие свидетели. Они прослышали о денацифицированном и процветающем предпринимателе Хубе и стали писать прокурорам. Писали из Варшавы, Белграда, Вены, даже из Мюнхена. В ФРГ образцовый правовой порядок. Там очень внимательно и долго изучают каждый документ. Там очень чутко относятся к каждому обвиняемому и боятся причинить ему лишнюю боль.
Следствие тянулось четыре года. Хубе даже попытались взять под стражу, но он внес залог в тридцать тысяч марок, и его отпустили, дабы не захирела торговля цветами, украшающими жизнь.
Франц оказался в центре событий. Со свойственной ему энергией он подталкивал тяжелую колымагу боннской Фемиды, переписывался со свидетелями, находил новых, консультировался с юристами, информировал многих журналистов, сохранивших интерес к такого рода делам. Довести Хубе до тюрьмы он теперь считал делом чести, делом, порученным ему Степаном.
Когда наконец день процесса был назначен, он известил меня. Но приехал я зря. На первом же заседании председатель суда объявил, что «судопроизводство откладывается на неопределенное время ввиду неблагополучного состояния здоровья подсудимого». В этом не было ничего удивительного или неожиданного. Весь состав суда, включая знаменитого защитника, еще не так давно служил в органах гитлеровской юстиции. Мы видели, как фрау Хубе поцеловала в лоб своего мужа и бережно повела к машине. Она села за руль, и, они уехали. Немногие зрители и журналисты, пересмеиваясь, двинулись к выходу.
В тот же день Франц получил два анонимных письма, угрожавших ему смертью, как «большевистскому агенту, пачкающему родное гнездо». Таких писем у него немало. Никому из домашних он их не показывает и подшивает в отдельную папку. Он продолжал методичный нажим, написал протесты в высшие инстанции. Некоторые показания свидетелей, поданные в письменном виде, были опубликованы в зарубежной печати.
В Бонне стараются соблюсти чувство меры. Когда наглость и цинизм следственных органов переходят ту невидимую грань, за которой начинаются прямые аналогии с Третьим рейхом, следует команда: соблюдать декорум. Через пять месяцев было объявлено, что состояние здоровья подсудимого улучшилось и судебное заседание возобновляется.
Нужно было иметь нервы из нержавеющей стали и ртуть в жилах вместо крови, чтобы спокойно слушать, как протекал этот процесс. Судей не интересовал тот период деятельности Хубе, когда он служил в ВФХА. Считалось, что этот вопрос был исчерпан во время денацификации. Организация массовых убийств, инспектирование лагерей, обучение и поощрение палачей – все это оставили за рамками обвинительного заключения. Ведь гуманнейшее западногерманское правосудие даже не знает такого понятия, как «военный преступник». Военный может быть только героем, и что бы он ни делал на территории противника, это не может быть преступлением.
Итак, речь шла о том, мог ли такой респектабельный человек, верный слуга отечества, как Эрвин Хубе, лично совершать убийства ни в чем не повинных людей, или не мог.
Сам Хубе отрицал все. В его обязанности адъютанта входила только забота о физическом здоровье и культурном обслуживании заключенных. В представленных его защитником документах можно найти похвальные отзывы о созданном им хоре и о концертах, которые регулярно устраивались в лагере.
Чтобы поддержать жизненный тонус работавших людей, он, Хубе, устраивал оздоровительные вольные движения (я вспомнил: «Бам! Прыжок! Бам! Прыжок!»). А главное, чем он занимался, это разведение цветов. Он стремился украсить однообразный ландшафт лагеря и порадовать заключенных ароматами расцветающих роз. Не случайно и в настоящее время посвятил он свою жизнь цветоводству.
Когда прокурор отвлекал его от цветов к фактам насилия, убийств, издевательства над беззащитными людьми, он возмущенно утверждал, что все эти факты – злостный вымысел врагов Германии. Он заявил, что считает себя глубоко оскорбленным предъявленными обвинениями и привлечет зачинщиков процесса к ответственности за клевету.
Приведу только несколько коротких записей допросов отдельных свидетелей.
Допрашивали старушку, приехавшую из Польши. Она видела, как Хубе убил женщину на глазах ее мужа.
А д в о к а т. Какого числа и какого года случилось происшествие, о котором вы рассказываете?
С в и д е т е л ь н и ц а. 14 сентября 1941 года.
А д в о к а т. Скажите, свидетельница, помните ли вы, что произошло 14 сентября не 1941, а прошлого, 1963 года?
Старушка мучительно пыталась что-то припомнить, но только растерянно пожала плечами.
А д в о к а т. Не можете. Не кажется ли вам странным, что события почти двадцатипятилетней давности вы помните ясно, а то, что случилось всего год назад, выпало из вашей памяти?
С в и д е т е л ь н и ц а. Но то, что происходило тогда, я не могу забыть.
А д в о к а т. Почему же? С вами ничего страшного не случилось. Вас направили на работу. Вы остались живы… Хорошо, оставим вопрос о памяти открытым. Вы уверены, что селекцию производил именно этот человек, который сидит перед вами на скамье подсудимых? (Кстати, «скамья» представляла собой весьма удобное мягкое кресло.) Приглядитесь к нему. Разве он похож на того, кто встречал вас на перроне?
С в и д е т е л ь н и ц а. Он, конечно, постарел, изменился… Прошло больше двадцати лет.
А д в о к а т. Вот это мне и нужно было выяснить. Значит, вы не можете с точностью утверждать, что именно подсудимый находился тогда на платформе, где выгружался эшелон.
С в и д е т е л ь н и ц а. Он только был моложе. Но это был он, все знали, что это Хубе.
А д в о к а т. Фамилия еще ни о чем не говорит, недоразумения всегда возможны. Важен факт: лицо подсудимого не похоже на лицо человека, производившего селекцию в тот день, который интересует судей. Перейдем к самому факту. На каком расстоянии от места происшествия вы находились?
С в и д е т е л ь н и ц а. Недалеко, мы ехали в одном вагоне с той несчастной парой.
А д в о к а т. Я не спрашиваю, с кем вы ехали, а о расстоянии, на котором вы находились от места происшествия. Вам, видимо, трудно понимать простые вопросы, но постарайтесь вспомнить, в скольких метрах вы стояли от той, как вы говорите, пары, когда служащий, производивший селекцию, остановил их?
Старушка задумалась. Смятение чувств отражалось теперь не только на ее лице, но и во всей сгорбленной фигуре. Она испуганно смотрела то на судей, то на адвоката, размахивавшего перед ее глазами черными крыльями своей мантии.
С в и д е т е л ь н и ц а. Я точно не помню… Может быть, десять или пятнадцать метров…
А д в о к а т. Этого вы тоже не помните. С вашей памятью я бы не решился выступать в суде. Значит, вы не могли видеть, как и почему служащий отделил женщину и увел.
С в и д е т е л ь н и ц а. Это видели все.
А д в о к а т. Суд интересует не то, что видели все, а то, что видели вы. В своем показании вы пишете, что видели, как служащий пытался изнасиловать женщину. Скажите, а не стыдно было вам смотреть на обнимающихся мужчину и женщину?
С в и д е т е л ь н и ц а. Он ударил ее кулаком по голове, она упала, и он навалился на нее. Это видели все. Мы не могли не видеть.
А д в о к а т. Еще раз напоминаю вам, что нас не интересует, что видели те, кого здесь нет. Вы понимаете, что такое акт насилия? И вы утверждаете, что видели его? Спокойно смотрели, и никто вам не мешал? Разве так могло быть?
С в и д е т е л ь н и ц а. Нас стали угонять. Но мы видели, как он ее убил. Мы слышали выстрел.
А д в о к а т. Не торопитесь. Зафиксируем то, что вы сказали. Вас стали угонять, и вы не могли видеть, почему служащий борется с женщиной, почему он выстрелил, защищался ли он от физического воздействия этой женщины или выстрел произошел случайно, то есть был ли это акт самообороны или несчастный случай. Это вам не известно.
Старушка молчала. Теперь уже все черты ее исстрадавшегося лица были скованы страхом.
А д в о к а т. Последний вопрос. Как нам известно, вы после освобождения из лагеря длительное время находились на излечении в психиатрической клинике?
С в и д е т е л ь н и ц а. Нет. В психиатрической клинике я никогда не была, я лечилась у невропатологов.
А д в о к а т. От чего вы лечились?
С в и д е т е л ь н и ц а. Я долго боялась собак. Меня ими травили в лагере, и я боялась. Всех собак боялась. Не могла ходить по улицам. Меня лечили гипнозом. Я перестала бояться…
А д в о к а т. Вот это нам и нужно было знать. Вы признаете, что вышли из лагеря в психически неуравновешенном состоянии и не могли контролировать свое поведение. (Обращаясь к судье.) Я, господин председатель, считаю, так же как и прокурор, что свидетельница не нуждается в дополнительной психиатрической экспертизе. Картина и без того ясная: провалы в памяти, алогичность показаний достаточно полно характеризуют ее как свидетеля обвинения. У меня больше вопросов нет.
Вскоре старушку отпустили. Не удивлюсь, если после этого суда она действительно попадет в психиатрическую клинику.
По этому эпизоду должен был выступать еще один, особенно опасный для Хубе свидетель. Он работал машинистом на том паровозе, который привез эшелон, и видел все от начала до конца. Сейчас он живет под Нюрнбергом на пенсии, и сбить его с позиций было бы не так легко. Но на заседание суда он не явился. Огласили только его заявление, что в связи с тяжелым заболеванием он выступить свидетелем не может, а от своих предварительных показаний отказывается.
Позднее Франц посетил его. Тяжелая болезнь старого железнодорожника не мешала ему ковыряться в своем, огороде, где и произошла беседа. Он был честным человеком и не запирался. Да, очень уважаемые и умные люди убедили его, что своими показаниями он нанесет вред немецкому народу и обрадует только врагов нации. Он понял, что сейчас все патриоты должны сплотиться, чтобы восстановить достоинство своего великого прошлого. Нельзя позорить государство воспоминаниями об отдельных эксцессах, неизбежных во всякой войне Коммунисты уже отняли часть Германии, собираются захватить то, что осталось, и помогать им – преступление.
Так отпадал свидетель за свидетелем, эпизод за эпизодом. Остановлюсь еще только на одном, потому что участник его – наш старый знакомый Адам Томашек. Какое-то время он был в том же лагере, где и Степан, но друг с другом они так и не познакомились. Зато оба знали Хубе. Один эпизод особенно запомнился Томашеку, и Францу удалось добиться включения его в число свидетелей.
В нескольких словах суть этого, пункта обвинения такова. На лагерной кухне работали отец и сын, привезенные из Чехословакии. Отец, видимо, сумел пронести с собой кой-какие ценности, подкупил форарбейтера и устроил сына рядом с собой. Отцу было пятьдесят четыре года, сыну – двадцать лет. Кто-то донес об этом Хубе, и он лично явился на кухню.
Как раз в это время Томашек, тогда еще могучий мужчина, устанавливал дополнительный бак для баланды и стал свидетелем того, что произошло.
Хубе подошел к сыну и приказал окунуть голову отца в только что наполненный водой котел. Сын смотрел на него, не понимая. Хубе стал избивать его плеткой так, как умел избивать только он, зверея с каждым ударом, нацеливаясь в глаза, губы, снова о глаза, и все сильней, жестче, с оттяжкой от плеча до плеча. Отец сам подошел к котлу и окунул в воду лицо. Он, наверно, думал, что Хубе просто решил поиздеваться над ними, и хотел умилостивить его покорностью.
Но Хубе плеткой подогнал молодого чеха к отцу и показал, куда и как нужно положить руку, чтобы голова старика не могла вырваться из воды. Юноша, у которого один глаз уже был выбит и все лицо в крови, опустил ладонь на шею отца. Хубе захватил его кисть и надавил. Рукой сына он топил отца в котле с водой.
Томашек не помнит, сколько времени рука сына лежала на шее отца. Когда Хубе решил, что дело сделано, он отшвырнул сына в сторону. Захлебнувшийся старик упал на пол. Он был мертв. Вот тогда его сын схватил огромный половник и бросился на Хубе. Адъютант убил его выстрелом в живот. Обоих поволокли к рву, где тогда сжигали трупы.
А вот как допрашивали Томашека по этому эпизоду. Сначала уже знакомые тебе вопросы о том, когда, какого числа, в каком часу это происходило. Затем – на каком расстоянии стоял свидетель? Убежден ли он, что молодой адъютант и господин Хубе одно и то же лицо?
Томашек за это время оправился от голода и болезней, стал более походить на нормального человека, чем тогда, когда ты с ним познакомился, но ужас, в свое время пронизавший все клетки его мозга, живет в нем до сих пор. Он долго отказывался ехать в ФРГ, пока его не убедили, что Гитлера и гитлеровцев здесь давно нет и бояться ему нечего. И вдруг он увидел рядом с собой не только страшного Хубе, развалившегося в кресле, но и людей в судейских нарядах, смотревших на него теми же гитлеровскими глазами.
А д в о к а т. На каком языке говорил адъютант с теми заключенными, о которых идет речь в обвинительном акте?
Т о м а ш е к. На немецком.
А д в о к а т. Как же вы понимали смысл их разговора, если и сейчас объясняетесь с судом с помощью переводчика? Может быть, вы тогда отлично знали немецкий язык, а за это время забыли?
Т о м а ш е к. Я знал много слов. И сейчас знаю много, но не все. Мне без переводчика нельзя.
А д в о к а т. Но тогда у вас переводчика не было. Значит, вы не могли понять каждое слово, которое произносил адъютант. Я правильно вас понимаю?
Т о м а ш е к. Каждое я не понимал, но…
А д в о к а т. Подождите. Господин председатель, прошу запомнить: свидетель признался в том, что не мог понять, о чем разговаривали адъютант и заключенные во время рассматриваемого инцидента. Свидетель! На каком же основании вы утверждаете, что адъютант приказывал одному заключенному топить другого?
Т о м а ш е к. Это можно было понять без слов. Он бил по лицу и показывал руками, как нужно делать.
А д в о к а т. Господин Хубе! Чем вызвал ваш гнев заключенный, работавший на кухне?
Х у б е. Я уличил его в попытке утаить часть продуктов, предназначенных для кормления заключенных, и возможно, что, не сдержавшись, я ударил его.
А д в о к а т. Благодарю вас, господин Хубе. Свидетель! Вам перевели ответ подсудимого? Теперь вы понимаете, как превратно истолковали разговор адъютанта с заключенными?
Т о м а ш е к. Он бил его, чтобы тот утопил отца. Продуктов еще в котле не было. Вода только начала нагреваться.
А д в о к а т. Это не имеет значения, какова была вода. Важно другое: вы ничего не поняли из того, что видели. Кто же, в конце концов, держал голову заключенного, посмевшего окунуть свое грязное лицо в воду, предназначенную для изготовления пищи?
Т о м а ш е к. Он держал, Хубе.
А д в о к а т. Я вас спрашиваю, чья рука была на шее заключенного, окунувшего свою голову в воду?
Т о м а ш е к. Рука была сына, но…
А д в о к а т. Достаточно! Рука сына! Вы подтверждаете, что этот озверевший заключенный своей рукой держал голову отца под водой, пока тот не захлебнулся.
Т о м а ш е к. Но его руку прижимал Хубе. Если бы не Хубе…
А д в о к а т. Как вы могли видеть, прижимал ли адъютант руку изверга или, наоборот, пытался оторвать ее от шеи отца? Господин Хубе! Разве вы не пытались спасти несчастного старика?
Х у б е. Конечно! Но этот преступник был в таком состоянии, как вы правильно выразились, озверения, что я ничего не мог с ним сделать. Поэтому он потом и бросился на меня.
А д в о к а т. Благодарю вас, господин Хубе. Картина ясна. После убийства отца заключенный пытался убить вас, и вы были вынуждены применить оружие.
Факт убийства молодого чеха на кухне был зафиксирован в одном из документов, найденных нами в архиве. Только поэтому Хубе не мог его отрицать. Адвокату пришлось найти версию, чудовищную по нелепости, но вполне устроившую судей.
Т о м а ш е к. Это неправда! Хубе утопил! Хубе убил! И вы! Вы вместе с ним. Вы такой же, как он! Фашист!
Томашек кричал во все горло. На его губах выступила пена. Он потрясал кулаками в бессильной ярости и кричал, кричал, пока председатель суда не приказал вывести его из зала.
Процесс продолжался восемь дней. Хотя многие пункты обвинения остались неопровергнутыми, Хубе оправдали «ввиду отсутствия у подсудимого субъективного сознания вины в момент совершения преступления». Приговор был встречен воплями энтузиазма. Дамы плакали от умиления и тянулись к Хубе, как к мученику, избежавшему тернового венца…