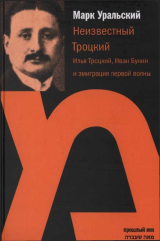
Текст книги "Неизвестный Троцкий (Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны)"
Автор книги: Марк Уральский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц)
Мое предложение написать статью о Толстом он выслушал с интересом.
— Но что Кнут понимает в Толстом? Это задание по плечу Квидамсону! – съехидничал Андреас Хаукланд, недолюбливавший Гамсуна.
Тот метнул в сторону Хаукланда гневный взгляд, процедив сквозь зубы: «Меня знает в России каждый интеллигентный читатель, но кому там ведомо имя Квидамсона?»
После такого обмена комплиментами для присутствовавших не оставалось сомнений в готовности Гамсуна дать статью для монографии. Окончательный ответ он обещал прислать в ближайшие дни <...>. Два дня спустя в моем распоряжении был этот ответ. Но каково было его содержание? Трудно себе вообразить нечто более наглое и возмутительное.
«О сумасшедшем старичке Толстом не желаю писать. Подпись. Кнут Гамсун».
Естественной реакцией на эту оскорбительную выходку мог быть крупный скандал. А поскольку русское общественное мнение, как правило, крайне болезненно реагирует на неуважение со стороны Запада к своим культовым фигурам, Гамсуну это грозило потерей имиджа. Ведь именно в это время русская критика весьма неодобрительно встретила выпущенную на русском языке книгу его путевых очерков о России139, увидев в ней «немало наивностей, неточностей, а иногда и просто ошибок». Даже такой горячий поклонник Гамсуна, как А. Куприн, сетовал: «Увы! талантливый писатель все-таки не избежал здесь исторической клюквы и самовара»140.
Судя по рассказу И.М. Троцкого, норвежские литераторы были шокированы выходкой Гамсуна не менее, чем сам журналист:
Возмущенные его недостойным поступком, они меня буквально умоляли не оглашать письма и избавить литературную семью Норвегии от скандала.
Лишь много лет спустя я рассказал в печати об этом позорном инциденте, который Гамсун, кстати, никогда не опроверг.
В статье «Каприйские досуги» И.М. Троцкий пишет,
что Бьерн Бьерсон, авторитетный журналист и театральный деятель, и вдобавок сын знаменитого писателя, классика норвежской литературы, ознакомившись с содержанием письма Гамсуна, умолял меня не предавать его гласности.
Однако из упоминавшейся выше статьи И.М. Троцкого141 следует, что о выходке Гамсуна он все же вскоре рассказал писателю Зудерману, который отреагировал на это словами «Нехорошо! Очень нехорошо!».
Но в печать, благодаря порядочности И.М. Троцкого, информация об этом не просочилась и скандал удалось замять.
Однако Илью Троцкого, для которого Лев Толстой являлся символом величия русской литературы, а то и культуры в целом, выходка Гамсуна задела буквально за живое. Он всю свою жизнь не мог ее ни забыть, ни простить. К тому после Второй мировой войны Гамсун однозначно стал персоной нон грата142.
И вот спустя полвека, стоя уже «у гробового входа», он вновь вспоминает этот инцидент в статье «Каприйские досуги»:
Произведениями <Кнута Гамсуна> русский читатель в ту пору упивался. Московский художественный театр удостоил Гамсуна постановкой двух его пьес: «У врат царства» и «У жизни в лапах». И этот потенциальный наци и предатель
В наши дни антитолстовский выпад Гамсуна смотрится банальной акцией художника-модерниста, демонстративно низвергающего очередного классика «с парохода современности».
Молодой Гамсун позиционировал себя как бунтарь, ницшеанец, ниспровергатель авторитетов и борец с фальшивой моралью, процветающей в насквозь прогнившем и, по его мнению, вырождающемся индустриальном обществе. Его буквально бесило, что Толстой – превозносимый во всем мире классик русской литературы, вдобавок ко всему стремился быть вождем, «мыслителем и учителем жизни». «В сказочном царстве» он запальчиво объявляет:
Что мне, насколько я понимаю, не нравится, это – попытки великого писателя стать философом. Это превращает его творчество в позу. ...Философия Толстого является смесью старых банальностей и его собственных, удивительно несовершенных затей143.
Отметим еще несколько «знаковых» фактов.
Во-первых, в эпоху ницшеанского и скандинавского бума «в России был и человек – и очень даже известный человек, – который никогда не восхищался ни Ницше, ни Ибсеном, ни Гамсуном. Это был Лев Толстой»144.
Во-вторых, Гамсун всю жизнь активно отстаивал концепцию субъективной прозы, утверждая при этом, что писатель – это своего рода психоаналитик, занимающийся скрупулезным исследованием души современного человека. Из русских писателей, по его мнению, с этой задачей блестяще справился только Достоевский:
Никто не проник так глубоко в сложность человеческой натуры, как Достоевский, он обладал безупречным психологическим чутьем, был ясновидцем. Нет такой меры, которой можно было бы измерить его талант, он – единственный в своем роде145.
В-третьих, Гамсун в молодости был способен на всякого рода эксцентричные выходки, и на этот счет существовало много анекдотов. В своих же оценках писатель часто руководствовался сиюминутным настроением. Так, в одном из писем Дагни Кристенсен он – человек, публично заявлявший: «Достоевский – единственный художник, у которого я кое-чему научился, он – величайший среди русских гигантов», – с пафосом восклицает:
Меня поражает, какой плохой мыслитель Достоевский, такой же плохой, как и Толстой. Нашим европейским мозгам трудно понять болтливое несовершенство этих двух великих гениев146,
– а в 1928 г., когда в Советском Союзе отмечалось 100-летие со дня рождения Толстого, Гамсун в ответ на просьбу от Министерства культуры высказаться по этому поводу сразу же направил телеграмму, в которой говорилось:
Я глубоко чту память о Толстом147.
«Скандинавская нота» в публицистике: Стриндберг и Эллен Кей
Что же касается Августа Стриндберга – человека еще более конфликтного и склонного к эпатажу, чем Гамсун148, страстного полемиста, умевшего, как никто другой, наживать себе врагов, то И.М. Троцкий, будучи в личном плане его полной противоположностью, тем не менее испытывал к нему симпатию. Это чувствуется из тона его статей «Август Стриндберг» и «Встреча со Стриндбергом», в которых он описывает свою встречу с ним в 1910 г., состоявшуюся в связи с тем же заданием редакции «Русского слова» в рамках «толстовского» проекта, о котором речь шла выше.
Статья «Август Стриндберг» начинается с забавного анекдота из серии «Истории о писателях»:
В Христиании, на Театральной площади, у входа в Национальный театр высятся два великолепных памятника: Бьернстьерне Бьернсона и Генриха Ибсена.
Еще при жизни писателей благодарные норвежцы поставили им памятники. <...>
Норвежцы рассказывают, что жизнерадостный и кипучий Бьернстьерне Бьернсон, проходя мимо своего памятника, неизменно снимал перед ним шляпу, приветствуя возгласом: «Здорово, старина!»
Нелюдимый и угрюмый Ибсен, наоборот. Только один раз посмотрел на свое бронзовое отображение, круто повернулся и ушел, и с тех пор далеко обходил свой памятник. <...>
Мне вспомнились Бьернсон и Ибсен лишь по ассоциации, когда я в Стокгольме разыскивал следы внимания шведов к их не менее знаменитому корифею скандинавской и мировой литературы – Августу Стриндбергу. Тщетны были мои поиски.
Скоро десять лет, как Стриндберг умер, но ни шведская общественность, ни шведский литературный мир ничем не проявили желания увековечить имя крупнейшего из скандинавских художников пера. В прежней квартире Августа Стриндберга на Drottninggattan (улица Королевы) <...> живет сейчас какой-то мирный шведский купец, имеющий очень смутное представление о значении и творчестве покойного писателя, а на фасаде дома, не видно хотя бы скромной дощечки с надписью, – что здесь, мол, жил, творил и скончался Август Стриндберг149. <...> Меня изумило такое отношение к Стриндбергу. Шведы не только дорожат своими выдающимися людьми, но и умеют их ценить. В Стокгольме, Гетеборге, Мальме не найдется ни одной свободной площади, на которой не красовался бы тот или другой монарх, государственный деятель, народный борец, писатель, художник или композитор.
Тем более поражает это сознательное забвение Стриндберга150.
Далее в этой же статье И.М. Троцкий с явным восхищением рисует обобщенный образ этого, по его определению, «мрачного художника»:
...рядом с поэтом, драматургом, беллетристом и едким сатириком в вулканической натуре <этого человека> уживался строгий мыслитель, химик и лингвист, <чья> эрудиция была всеобъемлюща. Он написал историю шведского народа, обнародовал работу по китайскому языку, написал труд об отношении Швеции с Китаем и татарскими народами, обративший на себя серьезное внимание Парижской академии наук. Стриндберг был превосходный садовод, исследователь, обладатель изумительных по разнообразию и богатству гербария и аквариума. Он работал по восемнадцать часов в сутки и мозг его как будто не знал усталости. <...>
После скитания по Франции и Италии и многих лет жизни в Германии Стриндберг доживал свои последние годы в Стокгольме. Он жил отшельником, никого почти не принимал, прекратил даже переписку со своими прежними друзьями <...>, <но> не мог отказаться от одного – резкой и страстной полемики со своими противниками. Полемики, отравившей закатные дни его бурной жизни и безмерно умножившей число его врагов. <...>
Мой приезд в Стокгольм случайно совпал с моментом, когда покойный писатель скрестил шпаги со своим соотечественником, популярным путешественником и исследователем Тибета – Свеном Гедином.
Суть конфликта состояла в том, что Стриндберг фактически обвинил ученого-путешественника в мошенничестве, утверждая, будто тот не сделал никаких открытий, а все его публикации о Памире – фантазии.
Со своей стороны Гедин,– не менее страстный полемист,
не остался в долгу и, со своей стороны, воздвигнул против Стриндберга гору обвинений в научном дилетантизме, сознательном извращении истины и преднамеренном желании скомпрометировать его во мнении научного мира Европы. <...>
Научный и литературный Стокгольм раскололся на два лагеря: гединистов и стриндбергистов. Последних было очень немного и ряды их с каждым днем таяли.
Газеты, за небольшим исключением, поносили Стриндберга на все лады и клеймили его, как клеветника и злостного инсинуатора.
Дальнейший текст, в котором описываются события тех лет, в обеих статьях Ильи Троцкого практически идентичен. Ниже цитируется более поздняя – «Встреча со Стриндбергом» (1929).
Для меня, человека со стороны, полемика эта казалась «в чужом пиру похмельем». Мне обидно и больно было за любимого писателя, и я всячески старался держаться в стороне от этого «домашнего спора», в котором, по правде говоря, и смыслил мало.
Я написал Стриндбергу письмо с просьбою меня принять и в тот же день получил приглашение его навестить.
Большинство моих литературных знакомых принадлежали к враждебному Стриндбергу лагерю <...> <и> не скрывали своих к нему чувств.
– <...> Этот человек в своей ненасытной ненависти к людям никого не щадит. Он опасный лицемер, страдающий манией величия, и его необходимо обезвредить. Да, мы знаем, что Германия и Россия от него в восторге, что на него там молятся. Все это прекрасно, но от этого нам не легче... Он оскверняет собственное гнездо...
Моя защита Стриндберга подливала лишь масла в огонь. <...> Корректные и гордые шведы не могли мириться с демоническим началом, определившим натуру Стриндберга151.
В статье «Август Стриндберг» (1923) И.М. Троцкий по памяти рисует подробный словесный портрет знаменитого шведского писателя:
И вот я в кабинете у Стриндберга. Как сейчас, хотя этому уже двенадцать лет, вижу высокого грузного старика с выпуклым лбом, стальными серыми глазами и нервным ртом, прикрытым седыми свисающими усами. Две поперечные складки на лбу, сходившиеся у переносицы, придавали лицу выражение глубокой трагичности152.
Как подчеркивает в своих статьях И.М. Троцкий, Стриндберг был категорически не согласен с клишированными определениями его личности как опасного смутьяна, человеконенавистника и скандалиста, сознательно очерняющего в своих писаниях образ человека, который согласно иудеохристианской духовной традиции является отражением Творца. Свою аргументацию, явно учитывая национальность собеседника,
Стриндберг строит на примерах из русской литературы, не забывая при этом – что весьма показательно! – в одном ряду с Достоевским, Толстым, Чеховым и Горьким поставить также имя своего норвежского коллеги Кнута Гамсуна:
«Достоевский, мир которого простирается между Богом и дьяволом, небом и адом, вылавливает из человеческого моря Карамазовых, Раскольниковых, Мышкиных, Свидригайловых и Смердяковых – людей с явным психопатологическим уклоном. А, между тем, все это живые люди. Они среди нас: на улицах, в домах, в ресторанах, в театрах, повсюду... Герои Достоевского – страдальцы. У них искаженные лица, они корчатся в судорогах мук, живут в лихорадочном бреду, губят свои и чужие жизни. Но разве кто-либо сомневается в подлинности этих людей, в их наличии в жизненном быту?
Толстой взирает с любовью на Анну Каренину, по-отечески грустит по рано погибшей маленькой княгине Болконской, недоволен Левиным, творит Нехлюдова. Чехов с сатирической улыбкой на устах зарисовывает своих обывателей и мещан. Горький устами Сатина утверждает, что «человек – звучит гордо». Гамсун в «Голоде» бросает вызов бездушному человечеству.
А я устами своего «фантастического звонаря»153 заставляю говорить так называемое «всечеловечество». В чем здесь усматривают ипохондрию и человеконенавистничество? Конечно, я не смотрю на мир через розовые очки и не пью подсахаренной воды. Рисую людей таковыми, каковы они суть. И если в моем изображении люди вырисовываются негодниками, лицемерами и обывателями, то такова, по-видимому, их природа».
Стриндберг говорил долго и страстно. <...> Его речь была беседою человека с самим собою, криком души в темной ночи. <...> Статьи о Толстом он не написал. Отказался»154.
Стриндберг с молодых лет страдал тяжелым психическим расстройством. С годами болезнь прогрессировала. Описывая и анализируя ее симптомы, философ Карл Ясперс, бывший и крупным психиатром, ставит диагноз «шизофрения». Когда Троцкий навещал Стриндберга, тот находился в крити
ческой фазе своей болезни. Сам факт, что писатель принял у себя дома русского журналиста и имел с ним продолжительную интеллектуальную беседу – пусть и состоящую в основном из его монолога, однако с глазу на глаз, уже был чудом. Вот, к примеру, описания нескольких попыток подобного рода общения со Стриндбергом в последние годы его жизни, приведенные в книге Ясперса.
<В 1907 г.> Стриндберга разыскал Макс Рейнхардт. «Стриндберг, однако, его не принял. Как он сказал, он никого не принимает, он просто не выносит, когда на него кто-то смотрит! Он даже отказался появиться на балконе по случаю большой манифестации рабочих в его честь, несмотря на то что депутация от них приходила трижды... Он, однако, был в эти дни словно бы чем-то возбужден. К большому удивлению немногих близких к нему людей, он даже прошелся со мной по улицам Стокгольма... Но поначалу наотрез отказался зайти ко мне в Гранд-отель – хотя бы в порядке ответного визита вежливости. «Я не умею тебе объяснить, почему я не хочу идти. Это словно какой-то злой рок!» В конце концов как-то вечером он все-таки пришел. Когда я подвел его к заранее заказанному столику, он сказал: «Смотри! Это тот стол, за которым мы последний раз сидели с моей женой. Я знал, что ты непременно выберешь этот стол. Потому и отказывался». Это было совершенно в его духе: его мистицизм цвел пышным цветом... Он дошел до того, что рассказал мне, как он своими ночными молитвами перед распятием замолил одного скверного человека до смерти». <...> Автор еще одного сообщения <...> попытался посетить Стриндберга в 1911 году. «Я знал, что получить доступ к Стриндбергу трудно... Он жил совершенно один, почти прячась от людей, и отворял дверь лишь нескольким близким друзьям... Собственно, почти никто не знал, где он живет; одни полагали, что Стриндберг серьезно болен, другие – и таких было большинство – что он страдает манией преследования и к нему не следует приближаться. <...> На следующий день я его разыскал. На двери не было никакой таблички, шнурок звонка был снят. Я трижды – словно по уговору – постучал в стену возле дверной рамы и стал ждать. По прошествии некоторого времени планка на щели почтового ящика, прорезанной всего в каком-нибудь метре от пола, осторожно приподнимается сизоватым пальцем, и в щели появляются глаза и седая бровь. «Я пришел, чтобы засвидетельствовать свое почтение одному из могущественнейших шведов», – говорю я и просовываю в щель мою визитную карточку. Снова проходит много времени. За дверью – мертвая тишина; я стою, не шевелясь, и жду; я чувствую, что этот одинокий поэт стоит по ту сторону двери, прикидывает так и этак и колеблется.... Наконец дверь тихонько отворяется, и появляется Стриндберг. Он пристально на меня смотрит. «Я болен, – говорит он шепотом, – Я, вообще-то, никому не открываю»155.
В заключение статьи «Август Стриндберг» И.М. Троцкий пишет:
Стриндбергу – художнику поставит памятник потомство, для которого герои его драм и романов будут не скопированные из шведской повседневности еще живые и знакомые люди, со всеми их слабостями и недостатками, а бессмертные стриндберговские образы156.
Это предсказание русского журналиста сбылось ровно через девятнадцать лет. В 1942 г. в стокгольмском парке Тегнерлунден (Tegnërlunden) Стокгольма был открыт памятник Стриндбергу работы Карла Эльда. Скульптор создал экспрессивный монумент, на котором Стриндберг символически изображен в виде отдыхающего обнаженного титана, прорвавшегося на волю из толщи огромной скалы. Следует отметить, что, относясь к Стриндбергу с большим пиететом, И.М. Троцкий, тем не менее, написал немало суровых строк в его адрес. Так, например, он сурово осуждает писателя за женоненавистничество и нападки на Эллен Кей157 – всемирно известную христианскую пацифистку и сугубо реалистического литератора, которая была по духу ему куда ближе, чем параноидальный экспрессионист и мистик Стриндберг.
Свою первую статью об Эллен Кей – репортаж о посещении писательницы на ее вилле в местечке Странд, И.М. Троцкий опубликовал еще в далеком 1910 г.158 Текст написан в характерной для журналиста импрессионистической манере, крупными мазками:
Обрывистые скалы, покрытые могучими соснами, крутые тропинки, извилистые серебряные ручейки, звонко падающие в шхеры и причудливо извивающиеся между камнями. Панорама первобытной красоты.
Тронулись в путь. Более часа блуждали мы по безмолвному и прохладному лесу, топкому мху, капризным дорожкам, пока достигли заповедной виллы, прилепившейся над обрывом горы. Из-за деревьев густого сада выглянул небольшой двухэтажный домик в старо-шведском стиле, с бельведерами, башенками и балкончиками, выкрашенный в красный цвет и покрытый черепицею.
Обстановка усадьбы до чрезвычайного скромна и изящна. Много прекрасных цветов, картин, бесконечное количество книг и море живых цветов.
– Очень, очень рада вас видеть, господа!.. Усаживайтесь... Добрались-таки... Ко мне не всякий отваживается пробраться. Отпугивают горы. Я уж привыкла...
Эллен Кей говорила не спеша, мягким, грудным голосом, и ее живые черные глаза искрились живой, мягкой улыбкой. Глядя на здоровый румянец писательницы, сохранившуюся фигуру и молодые глаза, как-то не верится, что ей уж скоро стукнет шестой десяток, и лишь совершенно седые волосы выдают ее преклонный возраст.
Подыскивать тему для разговора не приходилось. Эллен Кей, после первых обычных расспросов и обмена впечатлениями, заговорила о женском воспитании. <...>
– Я поставила себе целью жизни, по мере сил и возможности, пером и словом способствовать расширению тех социальных рамок, в которые втиснута женщина. Бороться против уродливости воспитания современной европейской женщины необходимо всеми доступными нам средствами. При высокой культуре Франции и Германии, эти две страны, например, не перестают культивировать ограниченных, самодовольных женщин-кукол и женщин-кухарок. <...>
Как это ни странно, но факт тот, что даже самый культурный европеец старается если не совсем обойти вопрос женского равноправия, то по возможности отодвинуть его на задний план. Эмансипация женщины, в широком значении этого слова, должна быть завоевана самою женщиною. Достичь же этого возможно лишь путем разумного, правильно поставленного воспитания. Необходимо с ранних лет убить в девушке мысль, будто она рождена лишь только для того, чтобы служить аппаратом, продолжающим род человеческий, и чтобы жить на иждивении у мужчины. Материнство ни в какой мере не мешает женщине работать на общественно-политической арене. Это так ясно и старо, что доказывать верность подобного тезиса значило бы ломиться в открытые двери. <...>
Сумбурность русской жизни, по-моему, принесла женщине громадную пользу. Пусть вам мои слова не покажутся парадоксом. В водовороте политических страстей русская женщина удивительно быстро отыскала свое место. Все это, заметьте, при условиях примитивнейшего воспитания. Теперь представьте себе, в какие формы при систематическом воспитании выльется общекультурная работа женщины, если с нее снимут цепи запретов и откроют двери ко всем отраслям политическо-общественной жизни... <...>
Долго еще на эту тему говорила симпатичная писательница, горячо доказывая право женщины на всестороннее развитие своего интеллектуального «я» и взывая к печати поддерживать ее в этом стремлении.
В некрологе же И.М. Троцкий, забыв, по-видимому, об этом своем первом посещении писательницы, писал:
С Эллен Кей мне <довелось – М.У.> встретиться несколько раз. Впервые я ее слышал в 1911 г. на пацифистском конгрессе в Стокгольме. Она выступала с речью на банкете делегатов конгресса <...>она говорила о мире и разоружении. Говорила со всей убеди-
тельностью гуманистки и противницы войны. В ее словах звучал подлинный пафос. <...> покойная писательница Берта Зутнер, автор романа «Долой оружие», <...> трепетала от волнения.
– Вот то, чего я не сумела высказать в своей книге. Вот кому следует проповедовать идеи мира!..
Впрочем, чего только не проповедовала Эллен Кей!? Она являлась неустанной поборницей женского социального и политического равноправия. Близко стояла к рабочему движению, боролась против огрубения литературных нравов, насаждала гуманизм в его чистейшем виде.
В своих исследованиях творчества Гете она обнаружила <...> недюжинные способности мыслителя. <...>
Стриндберговский роман-памфлет «Черные знамена» <...> вызвал незалечимый надрыв в душе Эллен Кей. В героине романа Пай, Стриндберг со всей мощью своего мрачного таланта <...> изобразил ее злым демоном и исчадием ада. <...> Ответом покойной писательницы на непростительную выходку Стриндберга явилось молчаливое удаление из Стокгольма. Она ушла из центра бурлящих литературных страстей <...> в провинциальную глушь, где тихо работала и творила.
И маленькое местечко Странд, куда Эллен Кей удалилась, стало помимо ее воли литературной «Меккой», шведской «Ясной поляной». Кто только не приезжал в далекое северное убежище <...> писательницы? Из каких стран света не наведывались туда интеллектуальные пилигримы, искавшие общения с престарелой мыслительницею? Шведы, французы, русские, англичане, американцы и даже японцы и китайцы находили в Странд дорогу. <...>
...культ обожания голого, – говорила мне в одну из <наших> встреч <...> писательница, – шокирует. <...>
Вечные ценности в литературе и искусстве определяются не модою и не успехом сегодняшнего дня. Бернард Шоу тоже борется против губительных условностей одряхлевшего английского общества. И ваши Толстой, Достоевский и Горький тоже против извращенной общественности. Но едкая сатира Шоу, религиозная этика Толстого и острый психоаналитический нож Достоевского проникают в самые глубины человеческого самосознания. Они не оскорбляют элементарного эстетического чувства, не заставляют отворачиваться, а действуют облагораживающе. Я сама всю жизнь искала новых путей. Но разве новаторство, реформизм и «богоискательство» требуют «оголения»?
С точки зрения характеристики личности самого И.М. Троцкого представляется важным отметить, что разделяя в целом нравственную и литературную позицию шведской писательницы и осуждая женоненавистника Августа Стриндберга, он, тем не менее, не склонен умалять величие его литературного гения. Более того, Троцкий всячески старается выставить поступки Стриндберга в лучшем свете, обращая внимание читателя на его оправдательные высказывания:
Мне не могут простить романа «Черные знамена». Утверждают, будто Густаф аф-Гайерстам покончил из-за этого романа с жизнью, а Эллен Кей ушла от людей. Вздор! Герой «Черных знамен» тип собирательный, а героиня Пай только по созвучию сродни Кей. Я не пишу памфлетных романов.
Весьма интересным в контексте «русской нобелианы»159 представляются приводимые И.М Троцким высказывания Стриндберга о том, что «Горький достоин Нобелевской премии». В более поздней статье «Каприйские досуги» он, развивая эту тему, цитирует слова Стриндберга, который заявляет, что
не задумался бы выступить с предложением о присуждении нобелевской премии Горькому. И если я этого не делаю, то виной тому мой конфликт со Свен Гедином. Он настолько обострен, что всякая инициатива, исходящая от меня, сразу же подвергается уничтожающей критике влиятельных поклонников Свен Гедина. К чему же обрекать Горького на роль жертвы наших внутренних распрей.
Как мы уже знаем (см. раздел «Максим Горький»), в 1912 г. И. Троцкий рассказал об этом Горькому лично во время своего визита к нему на Капри в компании с И.Д. Сытиным160.
Сам Горький высоко ценил Стриндберга. В своем кратком некрологе о нем (газета «Dagens Nyheter», Stockholm, 15 мая 1912 г.) он писал:
Август Стриндберг был для меня самым близким человеком в европейской литературе, писателем, наиболее сильно взволновавшим мое сердце и ум»161.
Стриндберг пытался трансформировать литературу в науку, цель которой – экспериментальное исследование «анатомии души»162. И.М. Троцкий приводит высказывания писателя на эту тему, в том числе и его слова о «человеческой сущности»:
По моему мнению, человек таит в себе столько звериного, атавистического и первобытного, что никакою цивилизациею из него этого не искоренить. Разумеется, исходя из подобной предпосылки, трудно мне изображать людей, как прообраз Божий.
В 1928 г., когда в Европе расцветал тоталитаризм, высказывания Стриндберга звучали как пророчества, и русский журналист, уверяя читателя, что
...шведская общественность Стриндберга-человека простила. Простила человеческие недостатки великого художника и драматурга, лично страдавшего от своей гениальности и недюжинности,
– причисляет его имя к списку «Толстой, Достоевский, Ибсен, Бьернсон, Сельма Лагерлев», – тех, кого принято называть «гуманистами», и кто, по мнению Эллен Кей, будут читаться и через двадцать и через тридцать лет, – ибо творчество этих писателей, – пребывает под знаком вечности.
Осип Дымов
Окончив Екатеринославское Высшее горное училище, И.М. Троцкий какое-то время проходил военную службу в Севастополе, в качестве вольноопределяющегося. В это же время он начал публиковать свои первые статьи в газете «Крымский вестник». Затем, как уже говорилось, он обретается в Петербурге, где заводит литературные знакомства и сотрудничает с газетой «Русь». Эти факты он сообщает в биографической справке, написанной им при вступлении в парижскую масонскую ложу «Свободная Россия» в 1937 г.163 В 1905 г. И.М. Троцкий уезжает из Петербурга в Вену, чтобы, как это было принято среди выпускников тогдашних русских высших учебных заведений, довершить свое образование в Европе. В то время столица Австро-венгерской монархии, претендовавшая на роль «культурного центра» немецкоязычной Европы, переживала свою «золотую осень».
И.М. Троцкий поступает вольнослушателем в Венский политехнический институт на факультет «Машиностроение» и одновременно – по свидетельству Осипа Дымова164, тоже в 1907 г. объявившегося в Вене, подвизается в качестве «сотрудника венских газет (больших)».
Фигура Осипа Дымова сегодня практически не появляется на литературном горизонте: как прозаик и драматург он прочно и незаслуженно забыт. И только солидное подробно комментированное Владимиром Хазаном издание Иерусалимского еврейского университета Осип Дымов «Вспомнилось, захотелось рассказать... Из мемуарного и эпистолярного наследия», дает представление об этом удивительном человеке, писавшем на двух языках (русский и идиш), дружившим с самым широким кругом выдающихся деятелей русской культуры, многие из которых – Леонид Андреев,
А.Н. Толстой, А. Волынский, Собинов, Шаляпин, А.С. Суворин, Мейерхольд, Вл. Ив. Немирович-Данченко... – не только считали его «своим», но и – что в художественно-артистической среде явление редкое! – по-настоящему любили.
От рождения он звался Иосиф Исидорович Перельман, но, решив быть русским литератором, посчитал необходимым дистанцироваться от своей «биографической данности» и обзавестись псевдонимом. Помог ему в этом Чехов со своим рассказом «Попрыгунья», в котором фигурирует некто «доктор Дымов» – человек милый, деликатный, трудолюбивый, но, по мнению ярких личностей, составлявших окружение его жены, ничем особо не примечательный. И лишь после его трагический смерти оказалось, что это «был великий, необыкновенный человек. Какие дарования! А какая нравственная сила! Добрая, чистая, любящая душа, – не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил...» Трудно судить, как глубоко персонифицировал себя Осип Перельман с любимым героем Чехова, но с псевдонимом он сжился настолько, что он стал фамилией его семьи: его жена, и дочка по жизни тоже были Дымовыми».
И.М. Троцкий писал165, что Имя Дымова появилось в литературе в ту эпоху, когда первые ряды на русском Парнасе, рядом с Л.Н. Толстым, занимали такие корифеи, как Чехов, Горький, Бунин, Андреев, Мережковский, Куприн, Сологуб, а в поэзии Бальмонт, Брюсов и Гиппиус.
В отличие от своих старших собратьев по перу и хороших знакомых Дымов не являлся ни «властителем дум» русского общества, ни глашатаем нового литературного направления. В его новеллах и рассказах царил камерный мир, стихией которого были «клочки» событий, настроений, переживаний, – «коротенькие образы, коротенькие мысли, коротенькие чувства и мелькание, мелькание, мелькание без конца»: суть этого мира К.И. Чуковский назвал «мистицизмом обыденности»166.








