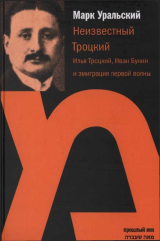
Текст книги "Неизвестный Троцкий (Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны)"
Автор книги: Марк Уральский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
В августе 1927 г. из-за разногласий с издателем, желавшим видеть газету более откровенно монархической и в большей степени ориентированной на массового читателя, П. Струве покинул свой пост, а вместе с ним – в знак солидарности, прекратили сотрудничать с «Возрождением» Ильин, Ольденбург и Бунин, в 1925-1927 гг. печатавший здесь цикл «Окаянные дни». Гукасов назначил главным редактором газеты Ю.Ф. Се-менова – малозначительного публициста либерально-консервативной ориентации, однако активного общественника и видного деятеля масонского движения (масон высоких степеней ложи «Друзья любомудрия», член-основатель ложи «Золотое руно», секретарь ложи «Юпитер»). При нем более тесно стали сотрудничать с газетой З. Гиппиус, Б. Зайцев, Д. Мережковский, продолжали публиковаться прозаики А. Куприн и Тэффи, Осоргин и Набоков-Сирин, А. Амфитеатров и И. Шмелев, а из близких по жизни И.М. Троцкому литераторов – А.Ф. Аврех, Дон Аминадо, Маклаков, Вас. Немирович-Данченко, А.А. Яблоновский.
Литературно-художественным отделом газеты вплоть до 1932 г. заведовал авторитетный критик, поэт, бывший редактор прославленного петербургского «Аполлона» С. Маковский. С 1927 г. и до своей кончины в 1939 г. литературно-критический подвал «Книги и люди» и хроникальную рубрику «Литературная летопись» вел В. Ходасевич. Хроника готовилась им совместно с Н. Берберовой под общим псевдонимом Гулливер.
Следует отметить, что в своем большинстве литераторы с именем: Адамович, Дон Аминадо, Осоргин, Набоков-Сирин, Тэффи, Ю. Терапиано, Г. Иванов, печатались как в «Возрождении», так и в «Последних новостях», но, как правило, избегали появляться на страницах изданий правоконсервативного толка.
Особый слой эмигрантской периодики составили общественно-политические и литературные журналы. Журналы были дешевле, их легче было издавать и распространять по подписке. Большинство журналов легко возникали и так же легко исчезали. Первым большим литературным журналом русской эмиграции была «Грядущая Россия». Первый опыт не слишком удался: вышло всего два номера в Париже в 1920 г., еще до крымской катастрофы. Журнал редактировался М.А. Алдановым, А.Н. Толстым и народником Н.В. Чайковским и имел общедемократическую направленность. А главное – он стал своего рода школой для собирания лучших литературно-журналистских сил зарубе-жья. На страницах «Грядущей России» А.Н. Толстой публиковал первые главы своего романа «Хождение по мукам», М.А. Алданов – роман «Огонь и дым». <...> Журнал не смог встать на ноги не из-за своего содержания, а вследствие финансовых трудностей. Но он успел выработать самою идею возврата к культуре «толстого» литературного журнала, на которой вырос весь русский интеллектуализм XIX в. Прямым преемником «Грядущей России» стал самый популярный и долговечный «толстый» журнал эмиграции – «Современные записки». Сам выбор названия нового журнала демонстрировал обращение к опыту журналистики прошлого века. Наиболее знаменитые журналы XIX в. назывались «Современник» и «Отечественные записки». Из этих двух названий и было составлено имя <нового> журнала. Этот журнал оставался самым влиятельным и читаемым весь период своего существования: с 1920 по 1940 г. Он стал известен во всем мире, его комплекты содержатся во многих библиотеках, сохранились архивы редакции. <...>. Редакционный комитет состоял из правых эсеров: Н.Д. Авксентьев, И.И. Бунаков-Фондаминский, М.В. Вишняк, В.В. Руднев и др. Ответственным секретарем журнала был М.В. Вишняк. Несмотря на эсеровскую принадлежность редакции, в журнал привлекались авторы самой разной политической ориентации. В программном заявлении редакции задачи в области культуры превалировали над политическими – это и определило успех журнала120.
Первый номер журнала вышел в ноябре 1920 г. тиражом 2 тыс. экземпляров. Позднее тираж снизился в связи с прекращением финансовой помощи от чехословацкого правительства.
По мнению Г. Струве, именно свобода редакторской политики «Современных записок» от узколобой партийной ангажированности, «широта фронта», обеспечили «успех у читателей и репутацию не только лучшего журнала в зарубежье, но и одного из лучших в истории всей русской журналистики»121.
Крайне правые периодические издания – журналы «Вестник Союза русских дворян», «Воскресенье», «Имперский клич», «Общий путь», отстаивавшие монархическую идею в «чистом виде» особой популярности у читающей публики не имели, а потому были недолговечны и не оставили заметных следов в истории русского Зарубежья. Наиболее известным и одиозным из них был орган монархистов журнал «Двуглавый орел», выступавший за «истинные» национальные интересы русского народа, против «иудейской и масонской идеологии». С 1921 г. журнал издавался в Берлине, а в 1926-1931 гг. в Париже. В Париже активно работал Союз русских писателей и журналистов (первоначально – Союз русских литераторов и журналистов), который был создан уже в 1920 г. и просуществовал до момента оккупации Франции в 1940-м.
На фоне впечатляющего фасада культурной жизни «русского Парижа» нельзя не напомнить о реалиях, в которых эта жизнь гнездилась. В литературной среде при том, что все здесь считали себя «хранителями очага», кипели обычные для такого сообщества страсти: зависть, обиды, сплетни, скандалы и т.п. Участвовали в них и публицисты, и прозаики, и поэты.
Само присуждение Бунину Нобелевской премии в 1933 г. послужило не столько мировому признанию литературы русской эмиграции, сколько ее окончательному внутреннему размежеванию, почти полному исчезновению духа корпоративности и углублению творческой самоизоляции122.
Этот факт отметил, например, А.В. Амфитеатров в переписке с редакцией «Сегодня»:
...в Париже чествование было шумно, но менее единодушно, чем хотелось бы в такой высокоторжественный день. Отсутствовали многие, которым отсутствовать было просто неприлично. «Возрождение», по-видимому просто не потрудилось прислать своего представителя, (ни Б. Зайцев, ни Тэффи, – личные друзья Бунина, – конечно, не «Возрождение» представляли, а самих себя, равно как и Ходасевич). Все это не только грустно, но прямо-таки постыдно123.
Однако не «вопреки», а именно благодаря своей динамичности, часто проявлявшейся в самых резких и конфликтных формах, в «русском Париже» культурная жизнь эмиграции первой волны била ключом. И продолжалась она целых двадцать лет, вплоть до июня 1940-го, когда в город вошли немецкие войска, и политическая и культурная столица русского Зарубежья прекратила существовование. У Тэффи есть такие строки:
Когда умерла полоса жизни – кажется, что она могла бы еще как-то развернуться, тянуться и что конец ее неестественно сжат и оборван. Все события, заканчивающие такую полосу жизни, сбиваются, спутываются бестолково и неопределенно.
Именно таким вот и было поначалу падение «русского Парижа». А затем все накопленное эмигрантское культурное богатство рухнуло в тартарары: закрылись газеты, журналы, издательства, масонские ложи, прекратились литературные вечера и семинары... Четыре года нищеты, отчаянья, страха у потухшего очага русской духовности.
Илья Троцкий и окружение Ивана Бунина
Возможно, что знакомство И.М. Троцкого с Буниным состоялось еще до революции. Бунин был одним из авторов газеты «Русское слово» и наверняка Илья Троцкий – молодой, амбициозный журналист, включенный в литературную жизнь, постарался быть представленным известному писателю. Однако личные отношения между ними установились к концу 1920-х и продолжались до последних дней жизни Бунина.
В дневниковой записи Веры Николаевны Муромцевой-Буниной от 26 декабря 1930 г. приведена выдержка из письма журналиста И. Троцкого своему коллеге и старому знакомому Соломону Полякову-Литовцеву о том, что пора начать кампанию номинирования Бунина на Нобелевскую премию по литературе. Заканчивается это письмо И. Троцкого призывом: «Друзья Бунина должны взяться за дело!»124
Этот призыв, адресованный к особой референтной группе русского Зарубежья – общности интеллектуалов, входивших в широкий круг общения Ивана Бунина, для самого журналиста был не только «литературно-публицистической фразой». Именно И.М. Троцкий воплотил его в жизнь. После публикации его статей в парижской газете «Последние новости» и рижской «Сегодня»125 в русском Зарубежье началась планомерная кампания по номинированию кандидатуры Бунина на Нобелевскую премию по литературе, в которой он сам принимал активное и очень действенное участие (см. ниже раздел в Гл. 4. «Нобелевские дни Ильи Троцкого»).
Будучи знаком с Буниным и его женой Верой Николаевной Муромцевой-Буниной более 30 лет, И.М. Троцкий, тем не менее, никогда не входил в их ближайшее окружение, как, например, их общий друг Марк Алданов. Он просто был «верным другом», всегда готовым откликнуться на просьбу о помощи, горячим поклонником писательского таланта Ивана Бунина. Весьма показательны в этом отношении слова самих И.А. и В.Н. Буниных (см. их переписку с И. Троцким в Гл. 6), например: «Иван Алексеевич просил Вам передать сердечную благодарность за Вашу заботу о нем и сказать, что он всегда Вас вспоминает с неизменной любовью. (В.Н. Бунина – И.М. Троцкому 19 сентября 1950 г.); «Еще раз шлем от всего сердца Вам спасибо за Ваши заботы и хлопоты, – Вы один из самых трогательных друзей. <...> И<ван>А<лексеевич> просит Вам написать, что ждет Вас с нетерпением и обнимает Вас. (В.Н. Бунина – И.М. Троцкому 29 сентября 1950 г.)».
Рассказ о взаимоотношениях Ильи Троцкого с Буниным, естественно, не может не содержать интимно-личностных интонаций. Поэтому здесь важно очертить психологический портрет знаменитого писателя.
Многим современникам Бунин представлялся надменным, вспыльчивым и язвительным мизантропом, сосредоточенным лишь на собственных ощущениях, переживаниях, интересах. Горький, с которым Бунин был весьма близок до революции, превознося его писательский талант, одновременно утверждал:
он – сухой, недобрый человек, людей любит умом, к себе – до смешного бережлив. Цену себе знает, даже несколько преувеличивает себя в своих глазах, требовательно честолюбив, капризен в отношении к близким ему, умеет жестоко пользоваться ими126.
Помимо Горького, также о личности Бунина нелестно отзывались Берберова и многие эмигрантские писатели младшего поколения127. Вот, например, нелицеприятная характеристика «последнего русского классика» у Василия Яновского:
Бунин, с юношеских лет одетый изящно и пристойно, прохаживался по литературному дворцу, но был упорно провозглашаем полуголым самозванцем. <...> Горький опыт непризнания оставил у Ивана Алексеевича глубокие язвы: достаточно только притронуться к такой болячке, чтобы вызвать грубый, жестокий ответ. <..> Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам128.
Тот же Яновский, однако, признавал:
К чести Ивана Алексеевича надо признать, что он не кривлялся, не подражал, не бежал за модою, оставался почти всегда самим собою: гордым зубром, обреченным на вымирание.
Как говорил художник Вощинский, писавший в 1933 г. портрет Бунина,
Иван Алексеевич дорожил своей «голубой кровью» и был надменный мизантроп129.
А вот впечатление о Бунине известного в начале XX в. пианиста Давида Шора, оказавшегося случайным попутчиком писателя во время его путешествия в Палестину:
Мы сели на новый пароход. За обедом, у общего стола, мое внимание привлекла русская пара. Она молоденькая миловидная женщина, он постарше, несколько желчный и беспокойный человек. Когда старый отец мой за столом выказывал совершенно естественное внимание своей молодой соседке, я чувствовал, что муж ее как будто недоволен. После обеда я сказал отцу, что обыкновенно русские путешественники не любят встречаться с земляками, и нам лучше держаться в стороне...
<...> Каждый раз, что я попадал на новый пароход, я тотчас же разыскивал инструмент, на котором можно было бы поиграть. На этом пароходе пианино стояло в маленькой каюте около капитанской вышки. <...> Я открыл пианино и сел играть. Минут через пять кто-то вошел. Я сидел спиной к двери, не видел вошедшего, но почувствовал, что это наш русский путешественник. Я продолжал играть, как будто никого в каюте не было, и, когда минут через 20-30 я встал, чтобы уйти, он меня остановил со словами: «Вы – Шор, я – Бунин». Таким образом состоялось мое знакомство с писателем, которого я сравнительно мало знал по его сочинениям. Дальше мы путешествовали вместе, и я не скажу, чтобы общество его было бы из приятных. Особенно тяжело было мне чувствовать в просвещенном человеке несомненный антисемитизм, и где, в Палестине, на родине народа, давшего так много миру...130
Столь уничижительная и несомненно превратная оценка личности Бунина была, судя по всему, результатом мелких недоразумений, обычно возникающих между посторонними людьми во время путешествий131. Кроме того, Бунин в незнакомом ему обществе часто держал себя вызывающе отстраненно и надменно132. Такая манера поведения человека, не упускающего случая напоминать о своем «столбовом» дворянстве133, задевала, а то и обижала окружающих134. Однако, кичась своим происхождением, Бунин остро переживал доставшуюся ему тоже по наследству материальную необеспеченность; будучи самолюбив, был при этом застенчивым и легко ранимым... Осип Дымов, например, описывая свои первую (в середины 1900-х) и последнюю (в конце 1930-х) встречи с Буниным, особо выделяет такие две черты его характера, как чуткость к чужой боли и свойскость.
Когда мы обнялись и я начал одаривать его комплиментами, он, насупившись, но шутливым тоном меня остановил: – Ша, ша, Дымов, не надо.
В этом «ша» было приятельское напоминание о моем еврействе. Но как тепло это звучало в его устах, у него, христианина, русского. Я читал его мысли и чувства <...>: «Разве имеет какое-нибудь значение, кто мы оба и что мы пережили в течение прошедших тяжелых тридцати лет? Но мы – русские писатели из Москвы и Петербурга. У нас общее прошлое, общий духовный дом, по которому мы тоскуем, каждый в своем уголке <...> Помнишь: Леонид Андреев... и Куприн... и Брюсов <...>. Собрат Брюсов мертв, все уже мертвы. Но мы их помним нежно... ша, Дымов!135
Состояния опустошенности, безразличия, затяжной меланхолии, а то и депрессии, присущие большинству творческих людей, часто посещали и Бунина, который в такие периоды, естественно, весьма отягчал жизнь окружающих.
Иван Алексеевич после творческого периода тоже впал в естественную меланхолию – писать перестал и жалуется, что ему скучно. Иногда неожиданно срывается и скачет в Канны или Ниццу, куда, едва приехав, начинает сразу готовиться к обратной поездке, несмотря на безотносительную утомительность дороги.
– отмечал литератор Александр Бахрах, живший с Буниным бок о бок в Грассе во время войны, в письме к Михаилу Осоргину от 15 июня 1941 г.136.
И все же очень часто:
В домашнем быту Бунин сбрасывал с себя все свое величие и официальность. Он умел быть любезным, гостеприимным хозяином и на редкость очаровательным гостем, всегда – это выходило само собой – оставаясь центром всеобщего внимания. Он бывал естествен, весел и даже уютен. От величественности не оставалось ни малейшей тени. Но когда ему это казалось нужным, он сразу, как мантию, накидывал на себя всю свою величественность137.
Всегда и во всем характер Бунина проявлялся в самой широкой гамме эмоций. Он нередко выказывал и отзывчивость, и резкую правдивость, и еще, говоря словами его старого друга Куприна, «какое-то жадное ко всему крайнему любопытство».
В критических ситуациях Бунин действовал импульсивно, готовый всегда прийти на помощь своим ближним. Так он вел себя в 1942-м, когда, приехав в Ниццу и зайдя к своим недавним знакомым супругам Либерманам, узнал, что они вынуждены бежать, поскольку вишисты готовят облаву на евреев. Нисколько не задумываясь о последствиях, Бунин настоял, чтобы супруги пересидели опасное время в его грасском доме (см. Гл. 5. «Спасенные Буниным»: Александр Бахрах и супруги Либерман»), А ведь сами Бунины жили во время войны «на птичьих правах»: в оккупированной зоне, без гражданства, в чужом доме, принадлежавшем к тому же «врагу», практически без средств к существованию138, и вдобавок ко всему у них, тоже по причине своего еврейского происхождения, прятался от нацистов А. Бахрах.
Даже скептически воспринимавший Бунина Василий Яновский оставил трогательное воспоминание:
Раз во время оккупации в Ницце Адамович139 мне показал открытку от Бунина. Иван Алексеевич писал, что к ним приехал один господин и отделаться от него по нынешним временам нельзя, «да и ему, вероятно, некуда идти». Последние слова я помню точно. И это прозвучало для меня, как пушкинское «И милость к падшим призывал»... Неожиданно и прекрасно140.
Возможно, именно в силу всех этих качеств Бунину удалось на чужбине создать вокруг себя широкий и разнообразный круг дружеского общения, столь необходимый изгнаннику, в материальном отношении крайне зависимому от покровительства третьих лиц.
В России Бунина, академика по Отделению русского языка и словесности Российской (до 1917 г. Петербургской) академии наук, литературные критики превозносили на все лады. Никто из близких Бунину писателей – ни Горький, ни Куприн, ни Короленко, не удостаивался, например, таких торжеств, какие устроены были Бунину в октябре 1912 г. в Москве в честь 25-летнего юбилея его литературной деятельности. Бунина чествовали несколько дней: 24 октября в Литературно-художественном кружке «Среды» на квартире Н.Д. Телешова состоялось посвященное ему торжественное собрание, на следующий день его чествовал Московский женский клуб, 26 октября – Общество деятелей периодической печати и литературы в зале Политехнического музея, днем позже – Общество любителей российской словесности, а утром 28 октября в большом зале Лоскутной гостиницы, где остановился писатель, он принимал депутации различных организаций и органов печати. Вечером 28 октября торжества, широко освещавшиеся столичной и провинциальной прессой, закончились многолюдным парадным банкетом в Литературно-художественном кружке141. При такой популярности Бунин, однако, отнюдь не выказывал особой общительности и не являлся «душою» какого-либо литературного общества или творческой группы.
Хотя Бунин «никогда не был занят теми “проклятыми вопросами”, которые волновали русскую интеллигенцию, никогда не был направленчески заштампован ни в общественном, ни даже в эстетико-каноническом смысле»142, в эмиграции его считали не только «последним русским классиком»143, но и фигурой общественной. Такого рода отношение к личности Бунина возникло после произнесения им программной речи «Миссия русской эмиграции» (Париж, 16 февраля 1924 г.144). В ней он сумел найти нужные и точные слова, чтобы выразить мироощущение интеллектуальной элиты русского Зарубежья и одновременно вселить в нее уверенность, что это сообщество изгнанников есть «малый остаток», избранный судьбою для особой миссии – сохранения образа разрушенной большевиками Российской империи и культуры старой России145. Аналогичные по смыслу суждения в это же время публично высказывали на одноименных вечерах и другие знаменитые русские писатели – Мережковский и Шмелев, например, но именно бунинская речь была «услышана», именно ее слова запали в души русских изгнанников, и благодаря этому она превратилась в «одно из самых известных, переиздаваемых и в то же время одно из наименее изученных публицистических произведений И.А. Бунина»146.
Существует «миф о бунинском монархизме»147, который в эмиграции «был весьма живучим», «из русского Зарубежья <...> перекочевал в советскую Россию»148, а затем нашел себе благодатную почву в современном российском обществе. Однако факты – упрямая вещь, а они свидетельствуют о том, что гордившийся своим столбовым дворянством Бунин, тем не менее подчеркнуто дистанцировался от консервативно-монархических кругов эмиграции и всякого рода ура-патриотов. В этой среде он всегда был чужим среди чужих и чуждых ему по духу людей. Реальную политическую позицию Бунина «правильнее было бы обозначить как центристскую, с сильным государственническим элементом, предполагавшим среди прочего отстаивание национальных ценностей и традиций»149.
Подобного рода убеждений придерживалось большинство друзей и хороших знакомых писателя, и в их числе И.М. Троцкий. Да и все покровители Бунина из числа «еврейских богатеев», как это ни странно звучит, являлись представителями левоцентристского фланга эмиграции150.
Как мы видели, в русском Зарубежье, где евреи составляли почти четвертую часть эмигрантов первой волны, «еврейский вопрос как русский»151 оказался одним из наиболее актуальных.
Поскольку в эмигрантской среде страсти кипели не только на политической почве, но и по причине личных амбиций, антипатии, зависти и обид, в литературном сообществе голословные обвинения в антисемитизме и черносотенстве по отношению друг к другу отнюдь не были редкостью. Гиппиус, например, после опубликования своих «Петербургских дневников» прослыла среди эмигрантов антисемиткой и от нее и от Мережковского «отвернулись в первое время даже их бывшие друзья»152. Эти обвинения сама Гиппиус категорически отметала153. Однако позже, в декабре 1932 г., об антисемитизме Мережковских редактору рижской газеты «Сегодня» М.С. Мильруду писал А. Седых. Сама же Гиппиус обвиняла в черносотенстве Бунина154.
Как можно судить из дневниковых записей Бунина, переписки и воспоминаний Веры Николаевны Муромцевой-Буниной, до революции у них не было ни друзей, ни добрых знакомых из числа еврейской интеллигенции. «Еврейский вопрос» не был для Бунина особенно актуальным. Впрочем, в акциях против антисемитизма, организуемых под эгидой ОБАР, Бунин участие принимал.
ОБАР, официально «Российское общество изучения еврейской жизни», было создано в начале Первой мировой войны Л. Андреевым, М. Горьким, Д. Мережковским, Ф. Сологубом и П. Милюковым. К нему присоединились И. Бунин, Н. Кареев, А. Карташев, З. Гиппиус, П. Струве, Г. Лопатин,
С. Мельгунов, Н. Бердяев, Игорь Северянин и многие другие публичные фигуры. На одном из первых мест в работе общества стояло издание специальной литературы, не только направленной против антисемитизма, но и рассказывающей о подлинной сути еврейского вопроса в России. В 1915-1916 гг. было выпущено несколько подобных книг. Самым известным стал сборник «Щит», выдержавший три переиздания155. Как один из парадоксов того времени стоит отметить тот факт, что деятельность общества получила поддержку при Дворе и пользовалась покровительством императрицы Александры Федоровны. Появилась и подобающая формальная структура – председателем стал обер-гофмейстер Двора граф И.И. Толстой, в комитет общества вошли П. Милюков, М. Горький, А. Куприн. В русском Зарубежье ОБАР, объединявшее в своих рядах практически всех эмигрантов из числа литераторов и общественных деятелей либерально-демократического направления, продолжало свою работу вплоть до начала Второй мировой войны.
В эмиграции состав бунинского окружения кардинально изменился. Среди многочисленных друзей и покровителей, в течение многих лет поддерживавших их материально156, большинство составляли евреи. Этот факт в классическом буниноведении как правило обходят стороной, хотя он значим и весьма важен для полномасштабной реконструкции биографии писателя.
В воспоминаниях, дневниках и переписке Буниных, начиная с 1920 г., можно найти много прямых указаний на сей счет. Так, весной 1920 г. в Белграде, где бежавший из России Бунин оказался в самом отчаянном положении, спасительные денежное вспомоществование в 1000 франков и французская виза были получены, по его собственным словам, по телеграфу от Марии Самойловны Цетлиной157. Благодаря этому «чуду» Бунины смогли беспрепятственно добраться до Парижа.
Начало дружбы Буниных с супругами М.С. и М.О. Цетлиными, людьми не только состоятельными, но и отличавшимися большим «художественным вкусом и преданностью литературе», относится к 1917-1918 гг., когда все они оказались в Одессе. Впоследствии же М.С. и М.О. Цетлины «опекали» Буниных в течение более четверти века. По свидетельству С.Л. Полякова-Литовцева в их литературном салоне «на рю де ла Фезандри, у Булонского леса», где было «уютно, оживленно, интересно», и который являлся «местом общения интеллигенции вообще: политиков, общественных деятелей, писателей, художников», и «в некотором роде штаб-квартирой эсэровской интеллигенции, <...> из писателей <...> красный угол занимал – И.А. Бунин»158.
В 1940 г. Цетлины бежали в США, и в Нью-Йорке вместе с М. Алдановым начали издавать «Новый журнал», идею которого вынашивали вместе с Буниным – см. письмо М.А. Алданова к М.С. Цетлиной от 7 января 1949 г.159
Все военные и первые послевоенные годы Цетлины, в особенности Мария Самойловна, самым активным образом занималась изысканием средств в помощь Буниным. Благодаря ей и Марку Алданову Бунины, например, регулярно получали через нейтральную Португалию продовольственные посылки. В письме от 8 апреля 1947 г. Бунин, благодаря М. Цетлину, патетически восклицает: «Я бы совершенно пропал, если бы не помощь Ваша!»160.
К сожалению, тридцатилетняя дружба М.С. Цетлиной с Буниными закончилась полным разрывом отношений в 1947 г. – по причине идеологических разногласий в связи с выходом Буниных из парижской организации Союза русских писателей и журналистов161, о чем подробнее ниже, в Гл. 6.
История дружеских отношений Буниных с Цетлиными подробно, с привлечением большого числа документальных материалов, освещена в книге Н. Винокур «Сквозь волны времени»162. Читая ее, например, видно, что еще с начала 1920-х, когда из эмиграции первой волны еще только начинало формироваться русское Зарубежье, немногочисленная прослойка преуспевших в деловом отношении беженцев-евреев, для которых русская культура являлась составной частью их личностной идентичности, материально поддерживала Бунина и других видных писателей эмигрантов (А. Куприн, Д. Мережковский, А. Ремизов, Тэффи). Ведь ни Бунин, ни большинство других литераторов-эмигрантов в России не приобретали «кормящей» специальности, и лишь немногие из них взялись за другие промыслы, так что русскоеврейская традиционная благотворительность, роль русско-еврейских меценатов, щедрых и культурных русских евреев оказалась особенно важной, спасительной163.
Так, например, в дневнике Бунина от 11 апреля 1922 г. имеется следующая запись:
В 5 у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 франков в месяц164.
Леонард Розенталь – выходец из состоятельной семьи горских евреев, родился во Владикавказе, откуда его родители перебрались на жительство в Турцию, где взяли себе немецкие имена. Четырнадцатилетним подростком Леонард оставил семью и уехал во Францию. В Париже он учился в «Коммерческой школе на улице Трюдейн» («l’École commerciale de la rue Trudaine»), работал в знаменитой фирме хрустальных изделий «Баккара»165, успешно подвизался на ювелирной бирже. Свое состояние Розенталь сделал на добыче и продаже жемчуга, основав с братьями166 фирму «Léonard Rosenthal et frères», которая вплоть до 1934-х г. была ведущей по торговле жемчугом во Франции.
Розенталь построил в Париже около 30-ти коммерческих зданий, среди них кинотеатр «Нормандия» («Le Normandie»), Аркады (Les Arcades des Champs-Élysées) и Порталы (Les Portiques) на Елисейских полях.
С 1926 Леонард Розенталь являлся крупнейшим пайщиком кинокомпании «Société Générale de Films», где в частности выступил в качестве продюсера фильма «Сентиментальный романс» («Romance sentimentale») режиссеров Г. Александрова и С. Эйзенштейна (1930).
Прославился Леонард Розенталь и как филантроп. После Первой мировой войны он за свой счет содержал 100 русских детей-сирот, построил для них приют и политехническую школу «École Rachel» (Écoles d'Enseignement Technique gratuites – Section Féminine, 8 Rue Quinault – Paris. 1930)167. K 1927 г. его благотворительной поддержкой было охвачено более 20 ооо человек. За свою благотворительную деятельность Леонард Розенталь был награжден орденом Почетного легиона.
Являясь членом Попечительского совета Комитета помощи русским ученым и писателям во Франции, Леонард Розенталь в течение ряда лет оказывал материальную поддержку И.А. Бунину, Д.С. Мережковскому, А.И. Куприну, К.Д. Бальмонту, М.И. Цветаевой и др.
Из дневника Бунина от 27/14 июня 1921 г.:
Вчера были у «короля жемчугов» Розенталя. <...> Рыжий еврей. Живет <...> в чудеснейшем собств. отеле (какие гобелены, есть даже церковные вещи из какого-то древн. монастыря). Чай пили в садике, который как бы сливается с парком (Monceau). <...> Сам – приятель Пьера Милля, недавно завтракал с А. Франсом. Говорят, что прошлый год «заработал» 40 миллионов фр. <...>»168.
Писатели, совсем еще недавно вполне благоденствовавшие в царской России, «подачки» Розенталя брали, но и мучились от этого ужасно. «Гордость и тщеславие выдумал бес», – утверждал поэт Сумароков. У писателя же, особенно знаменитого, этих двух качеств всегда хоть отбавляй, а вот с деньгами туго. В эмиграции, как известно, почти все русские литераторы были «на нуле». Приходилось подлаживаться, но порой вежливо выслушивать наставления меценатов гордость да заносчивость не позволяли. Вот Бунин и Мережковский и не вытерпели. Посчитав вполне невинные на сторонний взгляд замечания Розенталя, сопровождавшие его «подачки», за унижение, они с ним рассорились. На эту тему имеются письма Зинаиды Гиппиус к Владимиру Злобину и Марии Цетлиной:
6 дек. 22. Париж
Голубое письмо заставило вас несколько замолчать. Огорчило, обидело? Ой, не надо бы! А у нас случилась полная финансовая катастрофа. Розенталь на звонок Д<митрия> С<ергееви>ча169 с величайшей грубостью ответил: «Послушайте. Послушайте. Вы ведь там что-то такое получили. Позвоните мне в четверг. Мне надо с вами поговорить». Словом, – конец Р<озенталь>ским благодеяниям! Бунин, можете себе представить, в каком состоянии. Главное – неизвестно, неужели он и Куприну, и Бальмонту тоже отказывает? В каком же мы перед ними положении? Они совсем погибают. На днях и мы начнем погибать. <...> Бунин написал Роз<ента>лю письмо объяснительное – как же, мол, вы не предупредили? (На письмо это – никакого ответа. Д<митрий> С<ерге-евич> решил завтра и не звонить.) Но ведь это нечто невероятное. Только что накупил ограбленных из церквей изумрудов у б<ольшевико>в, а нас побоку. Да и как это нестерпимо унизительно. И, знаете, даже невыгодно жить на благотворительность: тотчас же сами дамы принимают другую аттитюду. Розенталь что-то наговорил. <...> Ну, не стоит входить в это, довольно факта, что мы имеем (с отвращением) эти 12 тысяч, да старых всего 5-6, и больше – ничего, и никаких перспектив. И мерзкий осадок на душе. А вы еще упрекали, что я не пишу вам, ибо «франки считаю». И какие я доллары могу теперь покупать? Ваша З. Н.








