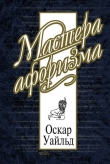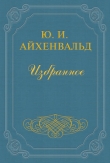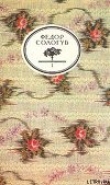Текст книги "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников"
Автор книги: Маргарита Павлова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«Архи-декадентский» роман
1
Ф. Сологуб – живой человек, петербуржец.
Л. Гуревич
В сентябре 1892 года Сологуб перебрался из Вытегры в Петербург, где поселился на Серпуховской улице (отходит от Загородного проспекта в сторону Обводного канала). Он был оставлен за штатом (с содержанием), а через год получил назначение в 3-е Рождественское городское мужское начальное училище и переехал на другую квартиру, ближе к месту службы (по адресу: Пески, 4-я Рождественская улица, д. 24, кв. 6). Впрочем, на петербургских квартирах, вероятно мало отличавшихся одна от другой, в эти годы брат и сестра Тетерниковы не задерживались; через некоторое время они переехали в Щербаков переулок у Владимирской площади. 11 января 1897 года В. Брюсов записал в дневнике:
Я был у Сологуба. Щербаков пер. оказался трущобой Петербурга, расположенной близ центра. Дом № 7 оказался грязным домишкой с вонючим двором. Взбираться в кв. № 18 пришлось мне по узкой, залитой лестнице, наконец, на самом верху прочел я на двери: Акушерка Тетерникова. Я уже колебался, звонить ли. Наконец решился. Квартира из трех комнат; кухарка, отворившая мне дверь; неопределенных лет девица, – «моя сестра», по рекомендации Ф. С., и сам он, еще более полысевший, постаревший. Мы поговорили с полчаса, впрочем, достаточно официально [238]238
Брюсов Валерий.Дневники. 1891–1910. – М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1927. – С. 27 (цитирую с исправлениями по оригиналу).
[Закрыть].
Привычный жизненный уклад Сологуба в годы учительства почти не менялся. Повседневные ритмы звучат в иронической зарисовке: «Ты желаешь иметь сознание моего дневного поведения. Мои дни бегают <так!>все одинаково. Вот программа одного дня, также и остальных: Вставка с постели, натяжка штанов, помолка Богу, проглотка чаю, промывка лица, нахлобучка шляпы, сходка с лестницы, походка до гимназии, помолвка с товарищами, попытка уроков, задавка уроков, пообедка, погулянка, прокидка в карты, опрокидка рюмки и усыпкадо завтра. Сдвиг с постели. Надвиг платья, проглот чаю, поход в департамент. 7 июля <18>93». [239]239
ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 539. Л. 294. К. К. Сент-Илер предлагал Сологубу другую, не связанную с преподаванием работу, но по неизвестным причинам это не состоялось, см. его письмо Сологубу от 3 сентября 1892 г.: «Очень прошу, многоуважаемый Федор Кузьмич, зайти на днях от часа до 4-х в Педагогический Музей, к генералу Аполлону Николаевичу Макарову, директору Музея. Он, по моей рекомендации, хочет предложить Вам работу. Преданный Вам К. Сент-Илер» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 932. Л. 6).
[Закрыть]
Ежедневно он вел записи о своих визитах и встречах (их регистрацию он начал в 1889 году в Вытегре). Тонкие ученические тетради, разделенные на два столбца и озаглавленные «Я был» и «У меня были», заполнялись педантично, как школьные журналы; две из них – за 1889–1900 годы – сохранились в полном объеме.
Первое время его посещали исключительно давние петербургские знакомые: В. А. Латышев, М. М. Агапов, К. К. Сент-Илер, П. И. Попов, а также коллеги-преподаватели. Какие-либо упоминания о встречах с литераторами в его записях за 1892–1893 годы отсутствуют, за исключением одного: 21 сентября 1892 года, то есть в первые дни vita nova, Сологуб сделал отметку о своем визите к Н. М. Минскому [240]240
ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 81. Л. 7 об.
[Закрыть].
Лишь с 1894 года в «тетрадях посещений» регулярно начинают появляться и другие имена, причастные к петербургскому литературному миру: Флексер (А. Л. Волынский; впервые 27 мая), Д. С. Мережковский (впервые 29 ноября), З. Н. Гиппиус, Л. Я. Гуревич (1 января 1895), Л. Н. Вилькина. В январе 1895 года Сологуб познакомился с Ал. Добролюбовым (в реестре знакомых он определил его: «гимназист-декадент» [241]241
Там же. Ед. хр. 83. Л. 16.
[Закрыть]) и Вл. Гиппиусом, несколько позднее с Федором Шперком и Ореусом (И. Коневским).
Писатель быстро сблизился с авторами и редакцией «Северного вестника». В 1893 году он поместил в журнале шесть стихотворений [242]242
В 1893 г. в «Северном вестнике» были опубликованы стихотворения Сологуба: «Творчество» («Темницы жизни покидая…») (№ 3. С. 52); «У решетки» («Стальная решетка…») (№ 5. С. 154); «Небо желто-красное зимнего заката…» (№ 6. С. 148); «Амфора» («В амфоре, ярко расцвеченной…») (№ 7. С. 142); «Рукоятью в землю утвердивши меч…» (№ 11. С. 152).
[Закрыть], а с 1894 года стал его постоянным сотрудником. Н. Минскому и А. Волынскому он обязан появлением псевдонима – Федор Сологуб, так как фамилия Тетерников показалась им непоэтичной. Впервые он воспользовался этим псевдонимом в марте 1893 года при публикации стихотворения «Творчество» (3 февраля 1893).
Следует признать, что псевдоним был выбран необдуманно, поскольку в русской словесности уже было два Сологуба, и оба графы, – автор «Тарантаса», граф Владимир Александрович Соллогуб (1812–1882), и граф Федор Львович Соллогуб (1848–1890) – автор немногочисленных поэтических и драматических произведений, художник-иллюстратор и декоратор, более известный своей дружбой с Вл. С. Соловьевым. В связи с появлением знакомого имени на страницах «Северного вестника» В. Л. Величко писал Гуревич 18 апреля 1893 года: «Многоуважаемая Любовь Яковлевна, позволяю себя утруждать Вас этими строками, напрасно исчерпав все прочие способы для достижения своей незамысловатой цели: прочтя в „Сев<ерном> Вестн<нике>“ стихотворение Ф. Сологуба, я очень хотел бы знать, тот ли это граф Федор Львович Сологуб, который был вместе с тем художником, <…> жил в Москве, печатался иногда в „Артисте“ и умер года полтора или два назад? Не откажите сообщить мне при возможности эту небольшую библиографическую справку и не посетуйте на мою бесцеремонность». Гуревич сделала на этом письме отметку: «Напишите ему, что Ф. Сологуб – живой человек, петербуржец» [243]243
ИРЛИ. № 19840.
[Закрыть].
«Имя Сологуба, – вспоминал А. Волынский, – сделалось постоянным ингредиентом журнальных книг „Северного вестника“, появляясь всегда рядом с именами Мережковского, Гиппиус, Минского, а впоследствии и К. Д. Бальмонта. Было ясно с самого начала, что новое крупное дарование примыкает к той группе писателей, которые носили тогда название символистов» [244]244
Старый энтузиаст [Волынский А. Л.].Ф. К. Сологуб // Жизнь искусства. – 1923. – № 39. – С. 9.
[Закрыть].
В кругу литераторов Сологуб вел себя крайне обособленно и замкнуто, в его внешности и поведении не было ничего богемного, – провинциальный учитель. «Можно ли вообразить себе менее поэтическую внешность? Лысый, да еще и каменный…» – подсмеивался Н. Минский [245]245
См.: Гиппиус З.Стихотворения. Живые лица. – М.: Худож. лит., 1991. – С. 363.
[Закрыть]; «светлый, бледно-рыжеватый человек. Прямая, невьющаяся борода, падающие усы, со лба лысина, pince-nez на черном шнурочке. В лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре – спокойствие до неподвижности», – вспоминала З. Гиппиус [246]246
Там же.
[Закрыть]. «Как мало заметен был тогда Сологуб в литературе, – так же, и даже еще незаметнее, был он и лично в литераторских сборищах, – писал П. Перцов. – Тихий, молчаливый, невысокого роста, с бледным худым лицом и большой лысиной, казавшийся старше своих лет, он как-то пропадал в многолюдных собраниях. Помню, как однажды рассеянный Розанов хотел было сесть на стул, уже занятый Сологубом, так как ему показалось, что стул пуст. „Вдруг, – рассказывал он потом, – возле меня точно всплеснулась большая рыба“, – это был запротестовавший Сологуб. Он был действительно похож на рыбу – как своим вечным молчанием, так и желтовато-белесой внешностью и холодно-белыми рыбьими глазами» [247]247
Перцов П. П.Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – С. 181.
[Закрыть].
Впечатления петербургской жизни этого времени нашли отражение в статье «Наша общественная жизнь», в которой, в частности, в главке «Нечто о петербургских собраниях и кружках» Сологуб писал:
В зимние месяцы общественная жизнь Петербурга движется ускоренным темпом. Город, заброшенный на окраину государства, окруженный широкими просторами унылых и бедных болотистых равнин с редким населением, с маленькими и скучными городишками, город, где живут чиновники и тоскуют русские литераторы, город, далекий от настоящих центров подлинной русской жизни, имеет все-таки в самой атмосфере своей что-то влекущее к нему и бодрящее; в его каменных стенах, под его млечными туманами чувствуется трепет новых мыслей, еще полувысказанных, но уже выяснившихся в напряженном сознании столичного обывателя, чувствуется жажда иных укладов жизни [248]248
Ф. Т.Наша общественная жизнь // Северный вестник. – 1895. – № 3. – Отд. II. – С. 67.
[Закрыть].
Свою деятельность в журнале Сологуб начал с рецензирования книг, поступавших в редакцию. За два с половиной года – с декабря 1894 по апрель 1897-го – он отрецензировал более 70 различных изданий по педагогике и народному образованию, психологии, литературе, философии, истории, общественным и естественным наукам, медицине. Рецензии печатались без подписи, но рецензирование давало небольшой дополнительный заработок, способствовало оттачиванию писательского мастерства и укреплению связей в литературной среде, а также расширяло кругозор – отвечало устремлениям последователя «экспериментального метода».
Э. Золя декларировал: «…романист должен заниматься историей, философией, наукой, обращаясь ко всем профессиям, и вникать в самые разнообразные деятельности. Я хочу этим сказать, что, согласно моей общей идее о современном романе, художник должен обладать универсальными знаниями. <…> Приступая к каждому новому роману, я окружаю себя целою библиотекою книг, относящихся к трактуемому сюжету. <…> Речь идет не о том, чтобы стать ученым, делать открытия, пользуясь уже известными истинами, а просто о том, чтобы знать ту почву, на которой возводишь новую гипотезу. Подумал ли кто-нибудь, сколько я должен был перерыть с тех пор, как написал первый эпизод из моих „Ругон-Маккаров“? И как можно желать, чтобы я жил только самим собой, чтобы я не черпал материалов для такого построения – во всем, что меня окружает?» [249]249
Золя Э.Права романиста // Северный вестник. – 1896. – № 9. – Отд. I. – С. 271.
[Закрыть].
С годами необходимость в заработке стала менее ощутимой, но Сологуб по инерции продолжал «внутреннее» рецензирование – для себя, не для печати [250]250
В воспоминаниях о Сологубе М. В. Борисоглебский писал о его разносторонних знаниях и широкой начитанности Сологуба, поражавших молодых поэтов, участников кружка «Вечера на Ждановке» (1925–1927): «Речи его часто превращались в лекции. „Между прочим“ Федор Кузьмич мог говорить о чем угодно, о стиле, о философии, о грамматике, о законах произношения, о строительстве железнодорожных мостов, о росте городов, о религии, о школах, о торговле, о письмоводстве, говорил так, что знаниями его в этих областях поражались все» ( Борисоглебский М. В.Последнее Федора Сологуба. – РНБ. Ф. 92. Ед. хр. 140. Л. 10).
[Закрыть].
Приведу далеко не полный перечень изданий, отрецензированных писателем в середине 1890-х годов в «Северном вестнике» (темы некоторых из них впоследствии нашли отклик на страницах его художественных произведений): Фр. Шольц.Ненормальности детских характеров (1894. № 12); Д. Корине.Гигиена целомудрия. (Гигиеническая библиотека). Одесса, 1894 (1894. № 12); С. Миропольский.Очерк истории церковно-приходских школ. Вып. 1. Приложение к журналу «Церковные Ведомости». СПб., 1894 (1895. № 1); Тверской.Очерки Северных Американских Штатов. СПб., 1895 (1895. № 2); А. Д. Колтановский.Общественное землемерие. Популярное изложение элементарных геодезических задач… 1894 (1895. № 3); Р. А. Янтарева.Детские типы в произведениях Достоевского (1895. № 4); Ежегодник. Обзор книг для народного чтения и народных картин. 1893 г. М., 1895 (1895. № 4); Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи. Изд. А. Сувориным. 1895 (1895. № 4); Т. Хиггинсон.Здравый смысл и женский вопрос. М., 1895 (1895. № 5); Ив. Щеглов.О народном театре. М., 1895 (1894. № 5); Д. И. Эварницкий.История Запорожского казачества. Т. 2. СПб., 1895 (1895. № 5); Ж. Масперо.Древняя история народов Востока. М., 1895 (1895. № 5); М. Соловьев.Элементарный учебник минералогии и основания геологии. СПб., 1895 (1895. № 7); 22. Д. Лобачевский.По поводу народных чтений в больницах для чернорабочих. 1895 (1895. № 7); И. С. Штейнгауер.Первые уроки географии. СПб., 1895 (1895. № 7); М. Нетыкса.Руководство столярного ремесла. М., 1895 (1895. № 9); П. Грот.Физическая кристаллография и введение к изучению кристаллографических свойств важнейших соединений. СПб., 1896 (1896. № 9); Н. Кричагин.Учебник ботаники для средних учебных заведений. СПб., 1896 (1896. № 9); Энрико Ферри.Преступники в искусстве. Пер. с фр. М., 1896 (1896. № 12); В. Латышев.Руководство к преподаванию арифметики. М., 1897 (1897. № 4) и многое другое.
Не все рецензии Сологуба попадали в печать. В архиве Л. Я. Гуревич, например, отложились неопубликованные, резко отрицательные отклики: на книгу Ивана Гвоздева «О врожденных и приобретенных свойствах детей как зачатков преступности взрослых» (СПб., 1896) и брошюру директора народных училищ Олонецкой губернии Д. П. Мартынова «Как в народных училищах Олонецкой губернии дети учатся Богу молиться, читать, писать и считать» (Б.г., б. м.) [251]251
ИРЛИ. Ед. хр. 20203.
[Закрыть]. Книги по педагогике и народному образованию представляли для Сологуба специальный интерес; отрецензированные им издания в своем большинстве посвящены школьной проблематике. Герои его романов принадлежат педагогическому миру – учитель Логин, учителя Молин, Крикунов, Шестов, учитель русской словесности Передонов, учитель столярного ремесла Володин, директор гимназии Хрипач, поэт-педагог Триродов.
В рабочих материалах сохранились многочисленные планы, наброски и записи на школьные темы, относящиеся к самому началу 1890-х годов («Сельский учитель», «Отрицательные качества учителя», «Ученики-судьи» и т. п.) [252]252
См.: ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 539, 539-а.
[Закрыть]. В 1900-е годы Сологуб систематически выступал с педагогическими статьями в газете «Новости» [253]253
Подробнее см. в нашем комментарии к роману: «Мелкий бес» (2004). Полный перечень публицистических статей Сологуба в «Новостях» содержатся в подготовленном им издании: Библиография сочинений Федора Сологуба. Часть первая. Хронологические перечни напечатанного с 28 января 1884 года по 1 июля 1909 года. – СПб., 1909.
[Закрыть].
На страницах «Тяжелых снов» и затем «Мелкого беса» обсуждаются проблемы современной автору земской и церковно-приходской школы, преимущества классического и реального образования, отмены телесных наказаний. В диалогах персонажей звучат скрытые цитаты из журнальной полемики по вопросам обучения и книжных обзоров педагогической литературы середины 1890-х годов. В «Мелком бесе», например, вопрос Вериги, обращенный к Передонову, каким школам он отдает предпочтение – церковно-приходским или земским, – отсылает к книге С. Миропольского (отрецензированной автором романа). Верига пересказывает Передонову (гл. X) эпизод из «Из записок сельской учительницы» Александры Алексеевны Штевен, основавшей в 1890-е годы в Нижегородской губернии сеть школ грамотности (двухклассный курс элементарного образования). В своей книге она призывала упразднить телесные наказания как исправительную меру (любопытно отметить, что решением губернского духовенства в 1895 году ей была запрещена педагогическая практика).
В 1894–1897 годах «Северный вестник» в буквальном смысле был для писателя настоящей литературной школой, он прочитывал журнал от корки до корки, впитывал новые эстетические идеи, в короткое время познакомился с западным модернизмом и его вождями. Прочитанное выстраивалось в единый концепт fin de siècle: дневник Марии Башкирцевой, сочинения Ф. Ницше, Э. Ж. Ренана, Г. Ибсена, О. Уайльда, М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Ж. К. Гюисманса, Ж. Роденбаха, Вилье де Лиль-Адана, дневники братьев Гонкуров, поздние романы Э. Золя («Лурд» и «Рим»), статьи о современной антропологической школе Ч. Ломброзо, монографии К. Фишера об А. Шопенгауэре, публикация книги Лу Андреас Саломэ «Фридрих Ницше в своих произведениях» и многое другое.
7 мая 1896 года Сологуб писал Л. Я. Гуревич:
…я действительно, и безо всяких фраз, отношусь с большим уважением к «Сев<ерному> Вест<нику>» и весьма дорожу возможностью печататься в нем; эту возможность я ставлю для себя за особое удовольствие и большую честь. Я смею думать даже, – хотя, может быть, это и большая претензия с моей стороны, – что писания мои, по духу их, более подходят к Вашему журналу, чем к другим. Свою прозу я понес бы в другой журнал лишь в том случае, если бы Вы отказались печатать ее, и сделал бы это с большой неохотою [254]254
Сологуб Ф.Письма к Л. Я. Гуревич и A. Л. Волынскому / Публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. – Л., 1974. – С. 125.
[Закрыть].
В свою очередь, оба редактора «Северного вестника», А. Волынский и Л. Я. Гуревич, и Н. Минский, исполнявший должность секретаря редакции, возлагали на талантливого дебютанта особые надежды. 7 марта 1895 года Минский писал Сологубу:
Судьба Вашего романа мне давно не дает покоя, но я все же не терял надежду, что увижу его в печати. Теперь Любовь Яковлевна укрепила во мне эту надежду. Дела сложились так, что я скоро вернусь в Петербург. Прочту Ваш роман, и решим, что нужно делать. Ваши «Тени» были для меня приятным сюрпризом. Все больше убеждаюсь в мысли, что Вы призваны для большого дела. Главное – продолжайте, как начали, творите не по вне, а по внутри, давайте себя самого, никого не слушайте и не смущайтесь [255]255
Rabinowitz Stanley J.From the Early History of Russian Symbolism: Unpublished Materials on Fedor Sologub, Akim Volynsky, and Lyubov’ Gurevich // Oxford Slavonic Papers. New Series. – 1994. – Vol. XXVII. – P. 126.
[Закрыть].
Авторитет руководителей «Северного вестника» первое время был для начинающего писателя непререкаемым. В письме Сологубу от 9 января 1895 года З. Гиппиус иронизировала по поводу его «послушания»: «А я и не знала, что вы каждый день бываете у А<кима> Л<ьвови>ча с рапортом и отдаете ему отчет даже в мелочах!» [256]256
ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. xp. 183. Л. 1.
[Закрыть]
С 1894 по 1897 год Сологуб поместил в журнале 17 стихотворений, рассказы: «Тени» (1894. № 12), «Червяк» (1896. № 6), «К звездам» (1896. № 9), пять статей на общественные темы и, главное, роман.
2
Цензурой оскоплен несчастный мой роман…
Ф. Сологуб
«Тяжелые сны» были переданы в редакцию «Северного вестника» 2 июня 1894 года, напечатаны в 1895 году (№ 7–12), а в 1896 году вышли отдельным изданием. Все это время писатель продолжал работать с текстом романа (на листе черновой рукописи встречается авторская помета: «20 и<ю>н<я> <18>95» [257]257
РНБ. Ф. 724. Ед. xp. 4. Л. 171.
[Закрыть].
Оба редактора постоянно высказывали свое отношение к написанному и давали рекомендации. «Благодарю Вас за доверие к моим возможным поправкам, – писала Л. Гуревич Сологубу в январе (?) 1895 года. – Я заслужила его, вероятно, своим внимательным, т. е. заинтересованным, отношением к „Снам“. А знаете – они как будто, в общем, не столько тяжелые, сколько смутные. Название было бы вернее, если бы сказано было „Смутные сны“. Я с любопытством вчитываюсь, всматриваюсь в этот пестрый, беспорядочный узор, в котором то мелькает какой-то внутренний авторский свет – то опять кружатся вихрем бессмысленные лица, то начнется определенная мелодия, почувствуется какое-то субъективное более или менее поэтическое настроение, то слышатся без конца вульгарные слова из разных лексиконов, громоздятся реалистически, по-старинному выписанные фигуры. Над всем этим носятся какие-то туманы, иногда сверх удушливые, света становится совсем не видно, невольно спрашиваешь себя: к чему это? мало ли чего не делается на свете? Неужели таквсё описывать! Хочется сокращаться. Но я совсем не критик и, по совести говоря, не считаю себя способной давать полезные указания. Одно мне все время думается: убийство Мотовилова, вероятно, и теперь окажется недостаточно мотивированным, случайным, а это жаль, – из этого можно было бы сделать возрастающую, захватывающую бурю звуков» [258]258
РГАЛИ. Ф. 482. Оп. 1. Ед. Хр. 418. Л. I.
[Закрыть].
В период подготовки романа к публикации, однако, модальность редакторских пожеланий становилась более жесткой. В одном из писем Л. Гуревич, например, не то советовала, не то указывала Сологубу внести необходимые поправки в композицию романа: «Я прочла внимательно принесенные Вами тетради и несколько расстроилась. Там не все ладно – и в двух отношениях: 1) есть очень большие растянутости и 2) расположение глав и событий уж слишком разбросано и потому расхолаживает при чтении. „Растянутостью“ является все, что относится к Вале и ее жениху: т. к. главная начальная сцена с Валей выпала, то это лицо стало совсем бледное, и потому все, что к нему относится, нисколько более не требуется по ходу действия и кажется лишним, почти скучным. По-моему, в интересах романа лучше было бы всю эту струю романа совсем вынуть, оставив для другой вещи или для такого отдельного издания Вашего романа, в котором была бы восстановлена первая редакция первых глав. Во-вторых, в романе не чувствуется постепенного нарастанияобщественного брожения и волнения, которое должно привести к глупым невозможным толкам по поводу холеры и т. п. По-моему, это должно быть ближе к концу, а здесь в середине нужно быстрее двинуть действие,т. е. фабулу, относящуюся к главным лицам. И без того уж во 2-ой книге она совсем остановилась, что придало роману слишком вялый и эпизодический характер. Наконец, еще одно замечание: некоторые из снов Нюты дики, но непоэтичны и неправдоподобны, как сны. <…> Надеюсь, что Вы отнесетесь ко всем этим соображениям благосклонно» [259]259
ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 216. Л. 9–10 (письмо не датировано).
[Закрыть]. Лишь первый совет Гуревич Сологуб исполнил.
С самого начала подготовки «Тяжелых снов» к публикации Сологуб был вынужден, вследствие постоянно возникавших цензурных нареканий, отстаивать перед руководителями журнала те или иные главы, фразы или строки. Непосредственно по ходу печати романа, из номера в номер, ему приходилось против собственной воли переделывать текст или вынимать целые эпизоды и главки, которые могли бы показаться безнравственными.
В рукописи, например, рядом с началом третьей главы имеется характерная приписка Л. Гуревич: «Прошу набрать в дополнение к уже набранному. Цензору лучше послать конец тетради из первой главы. Л<юбовь> Г<уревич>» [260]260
РНБ. Ф. 724. Ед. хр. 4. Л. 62.
[Закрыть]. В третьей главе содержался шокирующий по своей откровенности рассказ о взаимоотношениях Клавдии с матерью. Этот эпизод в журнальной публикации был сокращен в несколько раз и никогда не восстанавливался в полном объеме в отдельных изданиях романа [261]261
Там же. Л. 62–72.
[Закрыть].
А. Волынский и Л. Гуревич, претерпевшие многие цензурные мытарства во время корректуры первых глав «Тяжелых снов», со своей стороны, проявляли исключительную бдительность, исправляя сочинение неопытного автора по собственному усмотрению. «Цензурная» тема – лейтмотив переписки Сологуба с редакторами. В одном из посланий, например, Гуревич в отчаянии просила: «Пусть Ф. К. не рассказывает цензору содержание всего романа – лучше как-нибудь уклониться от этого. Иначе будет худо» [262]262
О конфликте Сологуба с редакторами «Северного вестника» в связи с публикацией романа «Тяжелые сны» см.: Сологуб Ф.Письма к Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынскому. – С. 112–113; см. также: Куприяновский П. В.Поэты-символисты в журнале «Северный вестник». – С. 125–129.
[Закрыть].
Что же могло показаться возмутительным и дерзким в «Тяжелых снах»? С точки зрения «традиции» прежде всего сюжетно-тематический блок. Воспитанный на классической прозе от Пушкина и Гоголя до Тургенева, Достоевского и Толстого, русский читатель в одном сравнительно небольшом по объему произведении получал «букет» острых криминальных сюжетов и табуированных тем, которые могли вызвать (и вызвали) неприятие, осуждение, иронию и даже смех.
С точки зрения обывателя (среднего русского читателя и критика), изложенные в романе события, вероятно, представлялись в весьма безнравственном или комическом свете. Пьяный учитель изнасиловал девочку-подростка, его заключили в тюрьму, но скоро отпустили на свободу на поруки, по ходатайству сердобольной городской общественности, так как подобные обыденные проступки серьезными провинностями не считали (к сожалению, читатель еще не был знаком с исповедью Ставрогина [263]263
Глава «У Тихона», отвергнутая редакцией «Русского вестника» в журнальной публикации «Бесов» (1871–1872) и не вошедшая в опубликованный текст романа, впервые была опубл.: Документы по истории литературы и общественности. – Вып. 1. – М.: Изд. Центрархива, 1922. – С. 3–40.
[Закрыть], а то бы его удивлению не было конца). Главный герой романа, опять же учитель, коллега насильника, зарубил топором местного воротилу – по причине физического отвращения и ненависти к нему, мук совести не испытывал, преступление скрыл из презрения к людям – толпе узколобых обывателей; невеста его поддержала, с повинной в полицию идти не уговаривала, напротив, предлагала забыть: «Ты убил прошлое, теперь мы будем ковать будущее <…>. Пойдем вперед и выше <…> не будем оглядываться назад. <…> Зачем тебе цепи каторжника?» (тут читатель припоминал диалоги Раскольникова и Сонечки и снова удивлялся). Незадолго до совершения убийства учитель взял на воспитание мальчика, сбежавшего из приюта, ребенок стал для него источником сладострастных помыслов и невроза: лишить его невинности или пощадить (русский читатель недоумевал…). Почтенная матрона на коленях умоляла собственную дочь не отнимать у нее любовника, однако упрямая барышня вступила в связь с отчимом из ненависти к матери, чтобы отомстить ей за свое безрадостное детство; тут же предложила случайному искателю ее руки и состояния заключить фиктивный брак, чтобы получить свободу и уехать с отчимом-любовником за границу, перед тем она уже успела предложить себя учителю-убийце, но тот отказался (читатели, поклонявшиеся «тургеневским девушкам», краснели…). Мать не сдавалась – нарядившись привидением, она пряталась в спальне любовников и методично наблюдала за их свиданиями, в порыве ревности угрожала дочери убить ее и в конце концов довела несчастную до безумия (русский обыватель разводил руками и отбрасывал книгу с омерзением…).
Самое «дерзкое» в «Тяжелых снах», что, по-видимому, могло возмутить и оскорбить русского читателя, – это философия индивидуализма, воспринятая героями Сологуба как вседозволенность, дававшая свободу утверждать себя в «усладах сверхъестественных… и даже противуестественных» («пикантный опыт расширяет пределы жизни»), и право на агрессию («Мы – хищники, мы обожаем борьбу, нам приятно кого-нибудь мучить»).
Вполне понятно, что напечатать такое произведение в середине 1890-х годов без потерь в тексте было невозможно, и его появление, даже в искаженном виде, на страницах «Северного вестника» было издательским подвигом Л. Гуревич.
Тем не менее недовольный и огорченный Сологуб 24 марта 1895 года подвел итог истории журнальной публикации «Тяжелых снов»:
………………………………………………………………………
Свистали, как бичи, стихи сатиры хлесткой,
Блистая красотой, язвительной и жесткой.
………………………………………………………………………
Цензурой оскоплен нескромный мой роман,
И весь он покраснел от карандашных ран.
Быть может, кто-нибудь работою доволен,
Но я, – я раздражен, бессильной злостью болен,
И даже сам роман, утратив бодрый дух,
Стал бледен и угрюм, как мстительный евнух.
………………………………………………………………………
И, бледный декадент, всхожу я на ступени,
Где странно предо мной зазыблилися тени,
Таинственным речам внимаю чутко я,
И тихих сумерек полна душа моя.
Смеясь моей мечте жестоко и злорадно,
Мне люди говорят, что тайна неразгадна,
Что мистицизм нелеп, что путь науки строг,
Что смертен человек и что развенчан Бог [264]264
Сологуб Федор.Неизданные стихотворения 1878–1927 гг. // Неизданный Федор Сологуб. – С. 68.
[Закрыть].
Вследствие цензурного давления, перестраховки и вмешательства редакторов текст романа при публикации в «Северном вестнике» заметно пострадал. Это осложнило отношения автора с ранее дружественной редакцией [265]265
См.: Сологуб Ф.Письма к Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынскому. – С. 112–130; Куприяновский П. В.Поэты-символисты в журнале «Северный вестник» // Русская советская поэзия и стиховедение. – М., 1969. – С. 125–129; Rabinowitz S. J.From the Early History of Russian Symbolism: Unpublished Materials on Fedor Sologub, Akim Volynsky, and Lyubov’ Gurevich. – P. 121–143.
[Закрыть]. В ноябре 1896 года, после неожиданно разгромной статьи Волынского о «Тяжелых снах», напечатанной в журнале [266]266
Волынский A. Л.Литературные заметки (Новые течения в современной русской литературе. – Ф. Сологуб. – Декадентство и символизм. – Письмо Л. Денисова…) // Северный вестник. – 1896. – № 12. – Отд. II. – С. 235–246; перепеч.: Волынский А.Декадентство и символизм // Волынский А. Борьба за идеализм. – С. 315–320.
[Закрыть], раздраженный и готовый к разрыву Сологуб писал Л. Гуревич: «Хорош или плох роман, это уже от размера моих способностей зависит, но работал я над ним не как наемник, а потому и подчинение мое чужим мнениям не может быть беспредельным» [267]267
Сологуб Ф.Письма к Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынскому. – С. 121.
[Закрыть].
Отдельные искаженные и сокращенные фрагменты (5, 9, 10-я главки 10-й главы) были восстановлены по рукописи в отдельном издании «Тяжелых снов» (СПб.: Типолит. А. Е Ландау, 1896). Кроме того, Сологуб внес несущественные изменения в композицию романа и произвел стилистическую правку: изменил ряд глагольных форм, именных окончаний, синтаксис, сделал некоторые сокращения [268]268
23 марта 1896 г. Л. Гуревич писала Сологубу об отдельном издании «Тяжелых снов»: «Благодарю Вас за роман. Я на него набросилась, несмотря на давнее знакомство с ним. Начала с того, что выбранила за обложку, на которой заглавие, по тяжеловесности и ширине, напоминает Андозерского и Дубицкого <герои романа. – М.П.> и не имеет ничего общего с какими бы то ни было снами. Потом бранила Вас за слишком дорогую цену: нужно было назначить не больше 1 р. 50 к. Потом высмотрела все новое в романе – против прежнего. Некоторые страницы мне очень понравились. Но первая полустраница в знаменитой сцене (стр. 31) показалась мне и недостаточно реальной, и нелепой по смыслу, и холодной, особенно восклицания Логина, – не выражают решительно никакой психологии. „Мы на вершине. Какая радость! Какая печаль“. Это „мэонично“, но отнюдь не художественно и не поэтично. И я долго ругалась. А потом, пересматривая многие страницы романа, я настолько радовалась им, как художественным и поэтичным, что это одно и дает мне право ругаться в этом письме Вам» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 216. Л. 21–22).
[Закрыть].
Эпизоды, исключенные по цензурным соображениям, были частично восстановлены во втором издании «Тяжелых снов» (СПБ.; М.: изд. т-ва «М. О. Вольф», 1906); в большем объеме – в третьем издании, выпущенном «Шиповником» (СПб., 1909), по которому роман воспроизводился в четвертом издании (Собр. соч.: В 12 т. СПб.: Шиповник, 1909. Т. 2) и пятом издании (Собр. соч.: В 12 т. СПб.: Сирин, 1913. Т. 2) [269]269
Сравнительный анализ первого и третьего изданий «Тяжелых снов» – первой и окончательной версий см.: Клейман Л.Ранняя проза Федора Сологуба. – Ann Arbor, 1983. – С. 44–89; Редько А. Е.Федор Сологуб в бытовых произведениях и в «Творимых легендах» // Русское богатство. – 1909. – № 2. – Отд. II. – С. 56–79; см. также: Кривенкова Е.Образ Логина в первопечатной и окончательной редакциях романа Ф. Сологуба «Тяжелые сны» // Русская филология. 13: Сб. научных работ молодых филологов / Памяти Елены Швайковской. – Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2002. – С. 88–95.
[Закрыть].