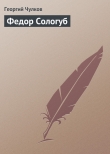Текст книги "Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников"
Автор книги: Маргарита Павлова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 30 страниц)
Расширение понятия, само собою разумеется, требует и расширения терминологии. Человекоподобные черти, вступая в родственные связи, образуют целые семьи (чертово гнездо!). Взрослый черт имеет свою чертовку, и потомство его – чертенята, бесенята, чертово отродье. Наиболее симпатичные экземпляры этой любопытной породы пользуются ласкательным и поощрительным прозвищем лешего. Иногда мы замечаем, что имели несчастье жениться на чертовке или выйти замуж за черта; особенно часто случается видеть чертовку в образе тещи. По-видимому, существует даже мнение, что человек, настоящий, подлинный человек, может сделаться чертом, особенно под старость. Старый черт, лысый бес! – так молодые наследники обыкновенно именуют своих престарелых родственников, смерти которых ждут с нетерпением, вполне, конечно, похвальным: чем меньше на свете чертей, хоть бы и дряхлых, тем, конечно, лучше. Из примера тещ становится очевидным, что барыни особенно склонны обращаться в чертовок. Есть даже мнение, разделяемое многими любителями пикантного, что хорошая барыня есть только переход от бесенка (излюбленной героини романсов вулканического происхождения) к чертовке.
Раз что существует, как в древности, нечистая сила, вполне естественно и даже неизбежно, чтобы нашлись ведуны и ведьмы, люди, достаточно смелые и сообразительные, приобретшие достаточно сведений и сноровки к тому, чтобы извлекать пользу для себя из сношений с этою нечистою силою. Современный скептицизм помешает нам отнестись к этим вещим людям с таким же благоговейным удивлением и ужасом, с каким относились к ним наши отдаленные предки. Мы знаем очень хорошо, что современные колдуны не что иное, как ловкие фокусники и шарлатаны, и что в приемах их нет никакого чародейства, ни белой, ни черной магии, хотя пред результатами их сноровистой прыти нельзя не прийти порой в некоторое даже недоумение, не лишенное известной доли опасения за собственную свою безопасность. И если в старину говаривали: «чем черт не шутит», то теперь приходится иногда сказать: «чем ловкий человек не шутит!» Пословицу: «черт горами качает, а людьми, как вениками, трясет» – надо изменить так: «ловкий человек и чертом, как веником, трясет».
Бывали встарь смелые люди, бравшие черта за рога, – и черт поддавался. Бывали и скептики, для которых леший не существовал. Тем и другим колдуны были не нужны. Не нужны бы они и нам, если бы мы не верили в существование особых пород нечистых существ: мужиков, жидов, хамов и т. д. Но уж если завелась, по нашему представлению, нечисть, то без колдунов обойтись нам, по нашему безволию и скудоумию, никак не возможно.
Кому не известны эти ловкие люди, умеющие овладевать современным чертом и извлекать из того свою долю пользы. Черт выкидывает нелепые и дикие штуки, жертвами которых падают более или менее простодушные люди. Вот эти-то моменты особенно благоприятны для поднятия авторитета наших колдунов, – они, эти грозные моменты, особенно наглядно убеждают оторопелое общество в необходимости обуздания и овладения чертом при помощи колдунов. Как же, помилуйте, сами факты говорят, что с этими чертями ничего не поделаешь! Казалось бы, проще и лучше воспользоваться старым, испытанным, истинно классическим средством против нечисти – светом познания, разлитым возможно шире, разогнать тьму во всех уголках нашей страны, где нам мерещится темная сила. Но для этого средства нужно кое-что больше бесшабашного глумления над бедным чертом, кое-что такое, чего в нашем обиходе не хватает. Когда нет врача или он не доступен, обращаются к знахарям, таинственные познания которых передаются, как наследственное достояние. Так и мы: не доступна нам общая образованность, даже общая грамотность, – и борьба с темными силами возлагается тоже на знахарей своего рода, тоже наследственно получающих какие-то особые способности к управлению темною силою. Положим, по ближайшем рассмотрении нельзя не заметить всей убогой нищеты того или другого знахарства: колдун роет землю и рвет из нее какие-то дрянные коренья, от которых пациента корчит в три погибели; покрытый тонким лаком образованности земский обуздатель черта, при всей своей ловкости и уменье, выкидывает фокусы, от которых трещит целый край, нищают целые десятки и сотни селений, – терпит бедный черт!
Бедный черт! Какая глубокая ирония в этом названии!..
Я только указал на общий характер современного суеверия. Люди, лучше меня знакомые с частными явлениями жизни, неоднократно и самыми разнообразными способами обнаруживали то зло, которое вносится в жизнь привычкою относиться к нашим братьям по человечеству как к особым породам существ, отвратительным, безобразным и страшным. Здесь довольно указать на общие черты застарелого суеверия, которому, по-видимому, суждено еще долгое процветание на нашей почве. Прибавим еще, что человеконенавистничество – термин неточный: ненависть или, вернее, страх направляется, как мы это указали общими чертами, не против человека, а против фантомов расстроенного с детства воображения. Нет другой ненависти, кроме того особенного и тонкого умопомешательства или мании, которою заражено большинство: почему невежество – не что иное, как нравственная пандемия.
Приложение VI
«Не постыдно ли быть декадентом». Статья
Статья «Не постыдно ли быть декадентом» (1896) сохранилась в виде недатированного белового машинописного автографа (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 376) и в виде набросков на карточках в конверте с тем же названием (Там же. Ед. хр. 538). В этом же конверте находятся карточки с другим текстом, который, на первый взгляд, не имеет связи со статьей о декадентстве.
Приведу в извлечениях отдельные записи, сопутствующие черновым наброскам: «Человецы, что всуе мятемся? Течение скорое и жестокое есть, имже течем: дым есть житие, пара, и пепел, и прах помале будем, и яко цвет увядаем. Темже Христу бессмертному возопием: преставльшагося от нас упокой, идеже всех есть вселящихся жилище»; «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну и не имущую вида. О чудесе, что сие еже о нас бысть таинство? Како предахомся тлению? Како сопрягохося смерти? <…>»; «Человек яка трава, дние его яко цвет сельный. Яко дух пройде в нем, и не будет. И истина Господня пребывает во всех»; «Приидите, узрим вси чудо паче ума, иже вчера с нами сый, ныне лежит мертв. Приидите, познаим, яко помале в погребальная повиты и мы скончаемся: иже миры помазующиеся благоуханными, лежат смрадны: како златом красящиеся, но украшени лежат и безобразии <…>»; «Найде смерть яко хищник, найде тлитель, и низложи мя, найде и суща мя показа: найде, и земля сый, яко не сый лежу. Воистину соние, воистину приведение есть мы человецы. Но приидите, возопиим бессмертному царю: Господи, вечных твоих благ сподоби преставльшагося от нас, упокояя его в нестареемой жизни» и т п.
Процитированные фрагменты представляют собой неупорядоченные выписки из «Чина погребения мирского человека», который читает священник при отпевании покойника («Служебник. Часть первая»). Не исключено, что карточки с разнородными текстами не случайно находятся в одном конверте: возможно, природа символа, о которой Сологуб размышлял, работая над статьей о декадентстве, открывалась ему через символику обряда погребения, рождения в смерть; тем более что культ небытия был центральным в декадентском служении, а постижению тайны смерти в иерархии декадентских «тайн» отводилось первостепенное место (к «Чину погребения» восходят основные мотивы лирики Сологуба 1890–1900-х годов, отдельные стихотворения прочитываются как непосредственное переложение тех или иных стихов чина).
Для черновиков писатель обычно приспосабливал старые записи или дубликаты рукописей: разрезал использованную школьную тетрадь на восемь частей и делал наброски на оборотах. Для карточек с набросками к статье и выписками из «Чина погребения» были разрезаны тетради со стихами. При совмещении оборотов карточек прочитываются отдельные строфы стихотворений из сборника «Тени. Рассказы и стихи» (книга вышла в 1896 году, после чего поэт мог не сохранять рукописные копии). Например, при соединении двух карточек, относящихся к двум названным текстам, можно получить первую строфу стихотворения «Кто дал мне это тело…» (сб. «Тени». С. 166):
Кто дал мне это тело
И с ним так мало сил,
И жаждой без предела
Всю жизнь меня томил?
На оборотах этих двух карточек располагается фрагмент статьи: «Созерцая постоянную гибель всего, что представлялось нам ценным и необходимым, мы увидели, что весь этот мир не имеет своей ценности и не имеет своего бытия, как не имели своего бытия существа двух измерений, хотя бы и высшим сознанием казались они своим обладателям», а также выписка из «Чина погребения»: «Святого Духа держава на всех: ему же вышняя воинства поклоняются, со всяким дыханием дольним».
Наброски статьи отличаются схематичностью и прямолинейностью суждений (в окончательной версии отдельные тезисы были опущены или существенно дополнены); самостоятельного литературного значения они не имеют, за редким исключением, – например, фрагменты о преемственности декадентства по отношению к натурализму (см. в главе четвертой наст. изд.). Эти предварительные, отрывочные и неупорядоченные записи приобретают смысл только при рассмотрении статьи в целом: они обнажают скрытую динамику авторской мысли и одновременно вносят неожиданные уточняющие штрихи в наше представление об эволюции эстетических взглядов, пережитой Сологубом в середине 1890-х годов. Текст подготовительных материалов не приводится.
Текст статьи воспроизводится по автографу; орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами.
* * *
И в разговорах, и в печатных отзывах о новейшей литературе нередко не разграничивают ясно терминов: символизм и декадентство. Но среди людей, близко знакомых с этими новейшими идеалистическими попытками у нас и в Европе, господствуют, кажется, два следующих мнения: первые, что все (или многие) великие поэтические произведения были символичны, по самой природе искусства, которое всегда идеалистично; второе, что недавно возникло декадентство, явление уродливое, недолговечное, уже отцветшее, нелепое со всех сторон, диаметрально противоположное символизму [1049]1049
См. комментарий на с. 154 наст. изд. (глава четвертая) [в файле – глава четвертая «Не постыдно ли быть декадентом?» со слов /начало абзаца/ «Статью „Не постыдно ли быть декадентом“ Сологуб начал с непосредственного обращения к оппонентам…» – прим. верст.].
[Закрыть]. Русские литераторы, примкнувшие к новому направлению, ничего не имеют, по-видимому, против того, чтоб их признавали символистами [1050]1050
Отсылка к «Письму в редакцию» З. Гиппиус, ср.: «Быть может, даже не следовало бы упоминать о декадентстве рядом с символизмом. <…> эти два понятия так печально смешались в умах людей даже наиболее почтенных, что невольно хочется разделить их навсегда» (Северный вестник. – 1896. – № 12; цит. по: Волынский А.Борьба за идеализм. – СПб., 1900. – С. 316).
[Закрыть], – а рецензенты упорно уличают их в декадентстве как в чем-то неумном и, пожалуй, зазорном [1051]1051
Вероятно, отклик на замечание З. Гиппиус в «Письме в редакцию», ср.: «Ну а вообще у декадентов, индивидуалистов и эстетов, не только нет нового, но даже полное забвение старого, старой бессознательной мудрости. Они убили мысль, совершенно откровенно, без стыда, но не заменили ее „вопросами“, как либералы, а остались так, ни с чем. Это – нездоровые дети, которые даже играть не любят и не ищут игрушек. <…> И все им скучно, бедным, недолговечным детям, все им противно, все не по ним» (Там же).
[Закрыть].
Но как утверждать, что все великие создания искусства были символичны? Не надо ли для этого признать одно из двух: или что все великие поэты – символисты, или что в творении может содержаться то, чего не было в творящем духе? Оба допущения кажутся произвольными.
Из каких бы сокровенных глубин духа ни выходили произведения искусства, все же очевидно, что радость и буйство нашего великого, и в предметных своих явлениях, мира, телесного и душевного, должны были на многие века определить содержание поэзии до совершенного изнашивания ее форм. Человеку и до души своей трудно было добраться, и доныне в душе своей он разобрался не вполне, – где же ему было возвышаться, – в те первобытные времена, когда, однако, уже были великие поэты, – до сферы чисто духовного, совершенно внечувственного и не подлежащего никаким рассудочным определениям бытия?
Говорят, что символизм всегда был в душе человека, но в большой глубине, не озаренной лучами сознания [1052]1052
Неточная цитата из «Письма в редакцию» З. Гиппиус, ср.: «Символизм не рождался и потому не может умереть. Он был всегда. Он был и в раннем искусстве, в душе художника – только слишком глубоко, там, куда еще не хватали лучи сознания. Но душа человека выросла» (Там же).
[Закрыть]. А потом нашлись люди, которые стали думать и чувствовать тоньше, вдохновеннее, – и лучи сознания озарили то, что было скрыто в душе изначала веков. Если это и справедливо, то ведь это относится не к поэзии, которая еще никогда доныне не бывала повторением человеческой души со всеми ее почивающими в тьме возможностями, а всегда являлась внешним выражением тех стремлений душевных, которые уже достигли известной высоты и немалого напряжения. Впрочем, комментаторы любят вкладывать в старые произведения искусства тот смысл, который соответствует их собственным взглядам, но который, быть может, и не снился авторам; древние изображали тот же самый мир, как и мы, но понимали его по-своему.
Большой и трудный путь надо было пройти (и немногими он пройден), чтобы, развивая свои понятия о своем мире, увидел наконец человек невозможность и противоречивость этого мира. И в мире нравственных понятий почувствована была великая неудовлетворенность, и в поэзии условные формы, прекрасные, но уже недостаточные и неточные, пресытили нас. То, что казалось прежде непрерывным и цельным, – и в природе, и в душе человеческой, – при остром анализе потеряло для нас эту непрерывность, распалось на элементы, взаимодействие которых для нас загадочно. В душевной сфере эта потеря цельности, это грозное самораспадение души составляет внутреннюю сторону нашего так называемого декаданса или упадка. Только сквозь трагические для нас прерывы <так!>нашего бытия мы видим тот мрак, которым для нас одета непознаваемая истина. Ей причастна душа человека, поскольку душе принадлежит нечто из истинного бытия, – и мы верим в истину, не зная ее, только смутно угадывая ее отношения к предметному миру. Только символами можем мы обозначить истину, – у нее нет точного имени. Но всякое имя есть символ некоторого отношения мира явлений к истинному бытию, – и весь мир, для возвышенного и точного восприятия, только символ. Поэтому наш мир – и мы с ним – не имеет в себе ни цели, ни причины, ни смысла, ни бытия, как не имели бы ни смысла, ни бытия самостоятельного существа двух измерений, хотя бы и высоким сознанием они обладали.
Такие настроения, сопровождавшиеся более или менее отчетливым пониманием причин этой глубокой неудовлетворенности жизнью, конечно, знакомы бывали и некоторым из древних; но не этим настроениям принадлежало господство в художественной литературе европейских народов. Возникая из великой тоски, начинаясь на краю трагических бездн, символизм, на первых своих ступенях, не может не сопровождаться великим страданием, великой болезнью духа. И так как всякое страдание, непонятное толпе, презирается и осмеивается ею, то и это страдание получило презрительную кличку декадентства. Но иначе, как страданием и болезнью, нельзя сделать никаких завоеваний в области наших восприятий. Когда слепой прозреет, то больно и страшно ему видеть, и только потом становится радостно смотреть, и уже потом, наконец, овладевает он тою способностью, которая возникла у него так мучительно. Если бы наше зрение стало чувствительно к большему или меньшему, чем раньше, числу колебаний эфира, то и нам было бы страшно и больно, и люди здоровые, с нормальным зрением, издевались бы над безумцами, вдруг увидевшими какие-то ультрафиолетовые тоны [1053]1053
Сологуб налагает основные тезисы статей О. Уайльда «Упадок лжи» и «Правдивость масок», с содержанием которых мог познакомиться по пересказу, см., например: Волынский А.Оскар Уайльд // Северный вестник. – 1895. – № 12. – С. 313–316; Н. В. [Н. Н. Вентцель].Оскар Уайльд и английские эстеты // Книжки Недели. – 1897. – № 6. – С. 21–23. Ср.: «Каждый оригинальный художник вносит что-нибудь новое в наше понимание природы и созерцание ее. Облекая свои утонченные впечатления в образы, художник делает их более доступными для обыкновенных людей, приучает нас к ним и расширяет, таким образом, наши восприятия внешнего и внутреннего мира. Цветовой оттенок теней и тумана, например, был недоступен прежним наблюдателям, а теперь вряд ли кто усумнится в его существовании. <…> Все ли цвета радуги стали сразу нам доступны? Герои Гомера не отличали всех цветов. Постепенно, по мере развития нашего чувственного зрения, прибавлялся новый цвет к тем, которые мы умели уже отличать. Кто первый подметил его? – Люди большой впечатлительности и потому первые застрельщики в каждом открытии. <…> Это бессознательная работа таланта и гения разрывает для него, как молнией, завесу, закрывающую истину, и он передает ее окружающим, не будучи часто в состоянии сам проследить связующих звеньев» (Там же. – С. 22).
[Закрыть].
По общераспространенному взгляду на декадентов, эти господа занимаются нанизыванием слов в невероятных сочетаниях на причудливые формы [1054]1054
Полемическая отсылка к тезису А. Волынского из статьи «Литературные заметки» (Северный вестник. – 1896. – № 12; перепеч. под другим заглавием: Декадентство и символизм // Волынский А. Л. Борьба за идеализм: Статьи и очерки. – СПб., 1900), ср.: «Люди, откровенно называющие себя декадентами, бросились искать новых формул, небывалых словесных сочетаний для передачи своих еще неясных ощущений» (Там же. – С. 315).
[Закрыть]и описанием таких сомнительных ощущений, которые не понятны никому из здоровых людей. Говоря о декадентах, вспоминают зеленую ревность, голубую грусть, мышей тоски и леопардов мщенья, еще что-то в этом роде, – вспоминают преимущественно отдельные слова [1055]1055
Критический выпад против пародий Вл. Соловьева на стихи сборников «Русские символисты» (1894–1895); впервые – в тексте рецензии на третий выпуск сборника (1895): Вестник Европы. – 1895. – № 10 (ср.: «Но не дразни гиену подозренья, / Мышей тоски! / Не то смотри, как леопарды мщенья / Острят клыки!»). Возможно также, что одновременно это выпад и против В. П. Буренина, издавшего книгу «Голубые звуки и белые поэмы» (1895), в которой часть пародий основана на подобных сочетаниях, как то: «Красные собаки желтой ненависти / Грызутся с белыми собаками розовой любви» (указано Н. А. Богомоловым).
[Закрыть]. Во всяком случае, все литературные направления, конечно, необходимо должны различаться – кроме прочего – и словоупотреблением, как музыкальные – употреблением звуков, а направления в живописи – употреблением красок. Как же употребляют слова декаденты, в отличие от прочих?
Когда грамотный человек идет по улицам и смотрит на фасады домов, то ему трудно воздержаться от того, чтобы не прочесть надпись на той или другой вывеске. Постарайтесь представить какой-нибудь (все равно какой) предмет, и вы почти всегда вспомните название этого предмета; редко бывает так, чтобы вы думали о лесе, не представляя себе при этом слова «лес». В разговорах мы зачастую употребляем слова, не делая ни малейшей попытки представить самые предметы. Заметьте, как неточно и бедно мы говорим: мы привыкли к известным словесным шаблонам и превосходно обходимся ими. Мы делим всех людей на блондинов и брюнетов, или на симпатичных и антипатичных, или на добрых и злых, – и с нас этого довольно. – Каков г. NN? – Он – симпатичный блондин. – А! – и разговор о г. NN исчерпан. Там, где люди уже не так наивны, там выбирают слова изысканные, тонкие, как дамские шпильки, и ядовитые, как индейские стрелы. Но и в том и в другом случае словами бывают довольны, делают из них ярлыки и навешивают их на людей и на предметы. В теоретических рассуждениях, в разговорах, сплошь да рядом подставляют слова вместо понятий и бойко играют ими. Забывают, что слово всегда имеет смысл собирательный или общий, и распоряжаются им так, как будто бы оно именно к этому предмету, о котором говорится, только и относится. Слова непрерывно обольщают нас и закрывают от нас действительность, всё равно как и явления нас обольщают и закрывают от нас истину и тайну. Слова говорят об относительных истинах нашего условного и случайного мира как об истине безусловной, и потому всякая «мысль изреченная есть ложь» [1056]1056
Цитата из стихотворения Ф. Тютчева «Silentium!».
[Закрыть]. Такая вера в слова противна символизму, и такое употребление слов отвергается декадентством. К декадентству, как и ко всякому литературному направлению, примкнуло не мало людей, лишенных таланта и понимания, – и то, что они писали, конечно, слабо и отзывается шарлатанством. Но в своей идее и в том, что сделано мастерами этого направления, так называемое декадентство есть великое стремление глубоко проникающего духа, откинувшего узкие определения рассудка, который создал слова и веру в слова, пределы и веру в эти пределы. Декаденты пользуются словами и сочетаниями их не как зеркалами для повторения предметного мира, а только как орудием для возбуждения в читателе некоторого внутреннего процесса. Оставлена тщетная забота дать в произведениях искусства совершенные образцы красоты, – искусству возвращена его первоначальная задача очарования и восторга. И декадентство вооружено уже не детскими приемами первобытной поэзии, – которых оно, впрочем, не отвергает: за ним многовековой психологический опыт, возводимый постепенно на степень научной достоверности. Даже и в простейших и нагляднейших описаниях своих декадентство отличается такою точностью, до которой еще не возвышалось искусство [1057]1057
Научная достоверность и точность составляли основу «экспериментального метода» Э. Золя.
[Закрыть].
Если декадент говорит о зеленых собаках ревности или о голодных царевнах в пустыне [1058]1058
Вероятно, образ восходит к стихотворению М. Метерлинка «Теплица» из одноименного сборника, см.: Метерлинк М.Полн. собр. соч. / В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. – СПб.: изд. Ф. Маркс, 1915. – Т. 2. – С. 12. Стихотворение известно в переводе В. Брюсова; Сологуб также планировал перевести его, см. авторскую картотеку переводов (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 538).
[Закрыть], то в его словах ничто не противоречит постоянному порядку сочетания представлений. Слова вводятся в новые и точные сочетания, непривычные для слуха, – хотя некоторые из них употреблялись и в старину. Обиходная речь, с ее тусклыми, стертыми и неверными выражениями, становится недостаточною: является потребность искать слова свежие, выразительные, нежные или грубые, благозвучные или жесткие – и эти слова находятся в языке давно умерших предков, в оставленных ими сказках и былинах, в говоре простых людей. В родном языке всякого великого народа много слов запасено – и это дает возможность заменить мертвые для души чужеязычные слова словами своего языка, более способными, по родственности своих звуков с многими другими, входить в разнообразные и неожиданные сочетания. И наоборот, иностранные языки, через посредство объединяющей народности науки, сообщают родной речи свои действительно незаменимые и потому сильные и живые слова. Таким образом, как и всякое свежее литературное движение, так называемое декадентство вызывает, прежде всего, заботу об очищении и улучшении речи, об ее точности и силе [1059]1059
Этот тезис перекликается с основными положениями литературного манифеста Жана Мореаса «Символизм» (1886), ср.: «Символистскому синтезу должен соответствовать особый, первозданно-всеохватный стиль; отсюда непривычные словообразования, периоды то неуклюже тяжеловесные, то пленительно гибкие, многозначительные повторы, таинственные умолчания, неожиданная недоговоренность – все дерзко и образно, а в результате – прекрасный французский язык – древний и новый одновременно – сочный, богатый и красочный…» (Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. – М., 1993. – С. 430).
[Закрыть]. Но здоровые люди привыкли к словесным шаблонам и неточностям, и неожиданно точная речь кажется им непонятною уже по одной своей неожиданности. Впрочем, декадентская поэзия и не обращается к людям, которые считают себя здоровыми, потому что маловосприимчивы [1060]1060
Возможно, иронический намек на теорию М. Нордау; автор «Вырождения» назвал впечатлительность и возбудимость наиболее характерными чертами художников конца века: «…признак этот действительно по большей части свойственен вырождению. Психопаты смеются до слез или горько плачут по какому-нибудь сравнительно пустому поводу. Самый обыкновенный стих или строка в прозе вызывают в них дрожь; они приходят в экстаз от заурядной картины или статуи <…>. Легкая возбуждаемость представляется им превосходством; они воображают, что у них особое чутье, и презирают профана, грубым нервам которого недоступно понимание красоты» ( Нордау Макс.Вырождение. Современные французы. – М., 1995. – С. 35).
[Закрыть].
За последнее столетие, вслед за введением пара и электричества в людскую работу, жизнь изменялась так быстро, как еще никогда в истории. Это потребовало быстрого и резкого изменения в приспособлении человеческого организма к условиям жизни. Доныне люди приспособляются к этим условиям, по-видимому, медленнее, чем изменяется сама жизнь. Такое отставание в приспособлении ощущается как общественная болезнь, упадок, декаданс. Но эта болезнь не к смерти, а к силе. Это и не упадок, а только нечто вроде временного исхудания быстрорастущего организма.
Слабые стороны современного декадентства (вернее сказать, то, что кажется его слабыми сторонами) имеют основания в этом общественном недомогании. Декадентство, уже ясное в своей идее, еще не раскрыло себя с совершенною полнотою. Оно еще не достигло до поры своего расцвета. До сих пор оно представляет только ряд психологических (иногда психопатологических) опытов. Но для меня несомненно, что это презираемое, осмеиваемое и даже уже преждевременно отпетое декадентство есть наилучшее, быть может единственное, орудие сознательного символизма. Обращаясь к внутреннему сознанию человека, употребляя слова лишь в качестве психологических реактивов, так называемое декадентство одно только дает возможность словесными формами указывать на непознаваемое, пробуждать в душе таинственные и глубокие волнения и ставить ее на краю преходящего бытия, в непосредственное единение с тайною. Уже и теперь мы видим литературные произведения, в которых символизм облекался в формы декадентские и которые производят глубокое впечатление. Будущее же в литературе принадлежит тому гению, который не убоится уничижительной клички декадента и с побеждающей художественной силой сочетает символическое мировоззрение с декадентскими формами.