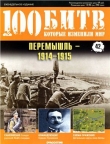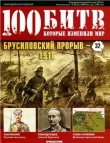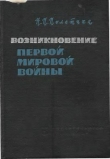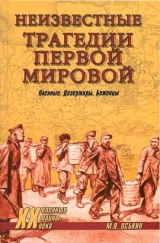
Текст книги "Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы"
Автор книги: Максим Оськин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
К тому же большинство неприятельских пленных составляли австрийцы, где более половины являлись славянами. Так как судили всех по отдельным людям, то и отношение населения было соответствующим. Тем более что каждый россиянин отлично понимал, что до Сибири никакой немец никогда не дойдет, и отношение было мягким и порой сочувствующим. Поэтому например, австрийские и немецкие офицеры в основной своей массе до мая 1915 года «были размещены отдельно, по частным квартирам, пользовались почти полной свободой, имели занятия в соответствии со своими знаниями (уроки языков, музыки и т. п.)». Затем последовал перевод офицеров также на казарменное положение, причем офицеры-славяне помещались отдельно от австрийцев и венгров. [139]139
Отчет Е. Г. Шинкевича по командировке в Омский военный округ… Пг., 1915, с. 15.
[Закрыть]Обратим внимание, что перемена положения неприятельских военнопленных явилась следствием, во-первых, положения на фронтах. Отступление армий Юго-Западного фронта в Галиции вызвало ухудшение содержания пленных.
Во-вторых, это изменение стало следствием изменения государственной политики. Вернее, исполнения ее на местах, так как изменилась-то она гораздо раньше. Но вплоть до Гор-лицкого прорыва, русское общество успокаивало себя необоснованно утешительными заявлениями военных властей о том, что война вот-вот закончится. Спрашивается: ну и чего тогда обижать пленных, тем более что еще немного, и они окажутся проигравшими?
Фронт в Восточной Пруссии и Польше, невзирая на частные неудачи, стоял твердо. В Карпатах австрийцы уже отходили на западные склоны, сдавая ключевые перевалы. На Кавказе в ходе Сарыкамышской оборонительной операции зимы 1915 года турки были разгромлены и отброшены от государственной границы в свои пределы. Видимые поводы для оптимизма были налицо. Горлицкий прорыв изменил все и сразу: после ожесточенных недельных боев фронт покатился на восток, теряя десятки тысяч людей под ураганным огнем германских тяжелых гаубиц.
«Неожиданно» выяснилось то, что в Ставке прекрасно знали и раньше: поражения были неминуемы, так как в Действующей армии не хватало вооружения и боеприпасов, причем не хватало катастрофически. Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, который собственный престиж ставил невероятно выше любого количества крови русских солдат и офицеров, издал приказ «ни шагу назад», но это лишь увеличивало потери. Особенно – пленными, ибо психологический надлом полубезоружных войск перед мощью неприятельского огня оказался слишком тяжелым.
Разгром 3-й армии ген. Р. Д. Радко-Дмитриева под Горлицей и начавшийся отход Юго-Западного фронта на восток вызвали немедленную реакцию в тылу, тем более яростную, что такого поворота никто не ожидал. А тех, кто понимал настоящее положение, раньше просто не слушали, так как официальная печать заверяла население, что все хорошо, а окончание войны затянулось ненадолго. В русском тылу немедленно поднялась волна требований ухудшить положение австро-германских военнопленных. Великая княгиня Елизавета Федоровна 30 апреля 1915 года передала императору Николаю II просьбу не отправлять больше пленных в Москву, так как восемнадцать госпиталей заняты пленными и лишь три – русскими ранеными. Сестра императрицы писала: «То, что пленных содержат здесь в самых лучших зданиях, принадлежащих военным, вызывает весьма враждебное отношение… Люди приходят в ярость, когда видят, что их прекрасные здания используются под военные госпитали». [140]140
Источник, 1994, № 4(11), с. 35.
[Закрыть]Прошло немногим больше недели после 19 апреля – начала Горлицкого прорыва. Как раз дошли сведения о поражении, и они были осознаны в тылу.
Дело в том, что верховная власть Российской империи потребовала ухудшить положение неприятельских военнопленных за полгода до Горлицкого прорыва. Уже 23 октября 1914 года из Петрограда в тыловые округа пошла телеграмма, где отмечалось, что в тылу к пленным врагам, особенно к офицерам, проявляется всяческое сочувствие и ослаблен контроль за ними. Телеграмма сообщала местной администрации, что «…оказание разного рода послаблений и снисхождений немецким и австрийским военнопленным офицерам является явной несправедливостью в отношении наших офицеров, которые в Германии претерпевают разного рода лишения, размещены тесным казарменным порядком и живут под весьма строгим, если не сказать более, режимом». [141]141
Цит. по: Иконникова Т. Я.Военнопленные 1-й мировой войны на Дальнем Востоке России (1914–1918). Хабаровск, 2004, с. 16.
[Закрыть]Разумеется, в России не торопятся выполнять высшие предписания. Извечная бюрократическая привычка, вызванная к жизни российским опытом: не торопись исполнять распоряжение начальства, так как завтра оно может быть отменено. Выше показано, что затягивание исполнения шло несколько месяцев, прежде чем его пришлось проводить в срочном порядке в связи с ухудшением ситуации на фронте.
То есть спустя две недели после принятия Положения о военнопленных встала необходимость ужесточения их содержания. Непосредственной причиной стала реализация принципа талиона – «око за око, зуб за зуб». Плохое содержание русских пленных в Германии и Австро-Венгрии и ответ в России. Правда, в России он растянулся, но зато затем реализовывался в короткие сроки, что, конечно же, вызвало массу эксцессов, так как спешка под давлением общественности – не самая лучшая обстановка для спокойной, вдумчивой работы. Теперь уже «отвечали» немцы и австрийцы.
Австро-германских пленных, как правило, размещали в Московском, Казанском, Омском и Туркестанском военных округах – Европейской России, Западной Сибири и Туркестане по национальному критерию. Все вопросы, связанные с содержанием в Российской империи военнопленных, находились в ведении Справочного бюро о военнопленных при Главном управлении Российского общества Красного Креста, состоящего из Центрального справочного бюро в Петрограде и справочных бюро в регионах. В центре страны масса пленных находилась в Московском промышленном районе. Регионами размещения беженцев, интернированных и военнопленных в Центральном Поволжье, стали Казанская и Саратовская губернии.
Всего к 1917 году на территории России находилось более двух миллионов военнопленных. В том числе: почти 500 000 венгров, около 450 000 австрийцев, примерно 250 000 чехов и словаков, более 200 000 югославян, 190 000 немцев, а также турки, итальянцы, галицийские украинцы, поляки, болгары и другие народности неприятельских держав. На 1 января 1917 года в Московском военном округе насчитывалось 521 000 пленных, в Казанском – 285 000, Омском—199 000. [142]142
Солнцева С. А.Военнопленные в России в 1917 г. (март – октябрь) // Вопросы истории, 2002, № 1, с. 144.
[Закрыть]
Как уже было сказано, военнопленные почти с самого начала войны послужили резервуаром дешевой рабочей силы, тем более привлекательной, что их правовой статус был наиболее низким, и тем более необходимой, что каждый новый призыв все больше и больше оголял народное хозяйство любой из воюющих стран. То обстоятельство, что международное право разрешало использование труда военнопленных, позволило приступить к эксплуатации данной правовой нормы немедленно. В итоге «…самое могущественное влияние на изменение взгляда на военнопленного, как на обезоруженного воина-профессионала, подлежащего содержанию в условиях военного быта, оказало значение экономического фактора в минувшей мировой войне…широкое использование всеми воевавшими государствами военнопленных в качестве рабочей силы является самой существенной особенностью военного плена минувшей мировой войны». [143]143
Жданов Н. Н.Военный плен в условиях мировой войны // Сборник статей по военному искусству. М., 1921, с. 101–102.
[Закрыть]Это стало характерной новинкой. Например, в период Русско-японской войны 1904–1905 гг. пленные просто находились в концентрационных лагерях.
Не странно, что многие солдаты (для Восточного фронта – австрийцы и русские) первоначально рассматривали плен как некий «отдых», как возможность избежать гибели. Однако привлечение военнопленных к труду в массовом порядке показало, что «отдохнуть» не удастся. И понятно, что эксплуатация пленных носила мощный характер, так как в первую голову жалеть их было ни к чему. А помимо того, облегчать положение неприятельских пленных в сравнении с собственным населением, переносящим тяготы военного времени, это глупо и неправильно.
Сразу же приведем нашу точку зрения, обозначив авторские приоритеты. Когда многочисленные источники сетуют на тяжесть трудовой повинности в плену, то можно отметить, что на фронте тем, кто не сдался, было еще хуже. Помимо ежедневных окопных работ, также изнурительных и тяжелых, солдат ежеминутно мог погибнуть от вражеской пули. Так же, как в плену над людьми издевалась охрана, в окопах можно было подвергнуться дисциплинарному взысканию со стороны офицерского состава. Пленные же по крайней мере были избавлены от военной гибели, так как непосредственно во фронтовой зоне (то есть под своими же снарядами) работали около десяти, много – пятнадцати процентов всех работающих пленных. Пример таких пленных дает пилот бомбардировщика «Илья Муромец» в боевом вылете 29 августа 1916 года в район Галича и Бржезан: «Обычно при нашем приближении все живое разбегается и прячется. А тут вдруг видим – масса народа роет окопы третьей линии и не только не бежит, а, по-видимому, даже вылезла из окопов. Кучки увеличились. Побежало несколько отдельных точек. И это при первом и при втором пролете. С грустью решили, что это, очевидно, работают наши пленные, и бедняги, наверно, приветствовали нас, свободных. Бежали же или наиболее робкие, или конвоировавший ландштурм. К счастью, быстро сообразив, не обстреляли их из пулемета». [144]144
Никольской С. Н., Никольской М. Н.Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. М, 2008, с. 120
[Закрыть]
Экономический фактор заставил использовать пленных в народном хозяйстве всех воюющих государств. Изъятие рабочих рук из народного хозяйства влияло на ведение военных действий, и потому военнопленные стали существенным подспорьем в замене рабочих в тылу, хотя и не смогли заменить их полностью, так как все-таки количество неприятельских пленных было существенно меньшим, нежели число собственных граждан, мобилизованных на войну.
Увеличение количества пленных неизбежно повлекло за собой ужесточение режима их содержания. В самом скором времени из пленных стали составляться рабочие команды, которые бросались на те или иные работы в Германии и Австро-Венгрии. Противник, впрочем, четко соблюдал требования международного права относительно командного состава: «В отличие от пленных солдат, которые уже с начала 1915 года начали в массовом порядке привлекаться к принудительным работам на германскую военную экономику, офицеры, в соответствии с Гаагской конвенцией, были освобождены от физического труда». [145]145
Нагорная О. С.Русские генералы в германском плену в годы Первой мировой войны // Новая и новейшая история, 2008, № 6, с. 98
[Закрыть]
К началу кампании 1915 года (то есть к весне) в одной лишь Германии находилось около полумиллиона русских пленных. Осенью 1914 года они участвовали в уборке урожая в Восточной Пруссии. Стоит вспомнить, что до войны ежегодное количество рабочих из Российской империи (литовцев, поляков, белорусов), отправлявшихся в Восточную Пруссию для наемных работ в германском сельском хозяйстве, достигало четырехсот тысяч человек. Эту цифру в военное время следовало компенсировать.
Теперь же рабочие команды русских военнопленных перебрасывают в те отрасли народного хозяйства, что наиболее нуждались в рабочих руках. А также, что характерно, труд военнопленных стал использоваться там, где он являлся наиболее тяжелым и опасным. Т. М. Симонова пишет: «Следует отметить, что русские военнопленные ценились особенно высоко в качестве добросовестной и послушной рабочей силы и привлекались на самые тяжелые и опасные работы: в шахтах, на калийных рудниках, оружейных заводах, в химическом производстве, строительстве и ремонте железных дорог. Очень часто они направлялись непосредственно в зону боевых действий». [146]146
Последняя война Российской империи. М., 2006, с. 334
[Закрыть]Труд пленного стоил дешево, а ответственность была минимальна. Отсюда и пренебрежение к личности, к условиям труда, к соблюдению Гаагской конвенции, напрямую запрещавшей труд пленных на оборону неприятельского государства, взявшего их в плен.
Международные договоренности нарушались всеми сторонами. Прежде всего потому, что рабочих рук все равно не хватало, а предоставлять пленным какие-либо преимущества по сравнению с собственными гражданами – это неестественно. Отсюда и тяжесть, и опасность работ для военнопленных. Н. Н. Жданов указывает, что круг жизни пленного: лагерь – работы – лазарет. И так по нескольку раз за время войны. [147]147
Жданов Н. Н.Русские военнопленные в мировой войне 1914–1918 гг. М, 1920, с. 74.
[Закрыть]
Помимо того, каждая сторона была уверена в собственной победе в войне и делала для этого все, от нее зависевшее, пусть и в ущерб каким-то там законодательным бумажкам. «Победителя не судят», – гласит народная мудрость. Как выяснилось, после Первой мировой войны не судили и побежденных. Что говорить, если главное лицо, формально ответственное за развязывание конфликта, разрушившего европейское единство, кайзер Вильгельм II после отречения бежал в Голландию и так и не был выдан голландцами. Отплатил он голландцам чисто немецкой благодарностью того времени – искренним приветствием гитлеровских войск, оккупировавших Нидерланды в 1940 году.
Чем дальше, тем больше экономика воюющих государств стала зависеть от труда военнопленных. Не то чтобы в решительной степени, но – весьма и весьма сильно. Каждая отрасль народного хозяйства требовала себе дешевой рабсилы, и каждого адресата следовало удовлетворить, так как рабочие руки были нужны везде. Кампания 1915 года – Великое Отступление русской армии на восток – дала австро-германцам еще почти миллион пленных. Заменить пятнадцать миллионов мужчин, призванных на фронт в Германии и Австро-Венгрии, они, конечно, не могли, но частично восполнить пробелы – вполне.
То есть 1915 год в этом смысле сильно помог Центральным державам, скованным во Франции позиционной борьбой, которая дает минимум пленных при максимуме кровавых потерь (убитыми и ранеными), но продолжавшим вести на Русском фронте маневренные операции. И даже больше. По мнению немецкого исследователя, стремление германских войск в кампании 1915 года на Востоке брать как можно больше пленных объяснялось во многом требованиями промышленников и крупных землевладельцев, нуждавшихся в рабочих руках. [148]148
Руге В.Гинденбург: Портрет германского милитариста. М., 1982, с. 61.
[Закрыть]Это всего лишь мнение, но зато какое характерное.
Работа бывает разная. Люди также разные. Взаимные репрессалии существенно сдерживали отношение к пленным в неприятельских странах. Но если англичане и французы заботились о своих пленных, справедливо полагая, что если их солдаты, знавшие, за что они вообще воюют, и сдались в плен, то иначе и быть не могло, то для русских ситуация кардинально отличалась.
Не понимавшие целей войны и воевавшие фактически только потому, что так приказал царь, русские крестьяне в солдатских шинелях порой добровольно сдавались в плен, не желая умирать непонятно за что. Поэтому русское военно-политическое руководство почти не помогало русским военнопленным, ограничиваясь минимумом. Кроме того, внутри страны и на фронте пленные представлялись пропагандой не столько как несчастные и мученики, сколько как предатели и симулянты. Не то чтобы всех «мазали одной краской». Акценты, конечно, разводились. Однако общая тенденция являлась очевидной: плен – это неиспользование всех возможностей для сопротивления, как того требовали Устав и прочее военное законодательство.
В этом верховная власть Российской империи частично была справедлива. Слишком многие добровольно сдавались в плен. Другое дело, что добровольные сдачи были не следствием пацифизма или предательства, а итогом неподготовленности страны к войне: худшее в сравнении с немцами воинское искусство командиров, неравное вооружение, нехватка оружия вообще. Но об этом сказать было невозможно, ибо страна должна бороться до конца, а виноватых можно будет поискать и после победы. В этом смысле «дело Мясоедова – Сухомлинова», о котором сказано в З^й главе, явилось чрезвычайно неблагоприятной тенденцией в системе обороноспособности Российской империи и воли ее граждан к продолжению борьбы.
Военное руководство не могло допускать сдач в плен, так как это грозило крушением фронта и поражением в войне. Отсюда и пропаганда жестоких репрессалий в отношении военнопленных (на практике почти не применялись), и, к сожалению, вызванное объективными обстоятельствами отсутствие помощи своим гражданам, оказавшимся в плену. Потому «русские военнопленные в Германии во время Первой мировой войны действительно привлекались к „любым работам“. В то время как условия их труда в сельском хозяйстве, особенно когда они работали в одиночку, были относительно нормальными, условия их труда, содержания и питания в индустрии, и прежде всего в горнодобывающей промышленности, а также в зоне боевых действий были весьма тяжелыми. Это происходило не только из-за предвзятого отношения к русским пленным немецких властей, но и не в последнюю очередь из-за пренебрежения к их судьбе со стороны российских властей. Из-за этого пренебрежения германское командование обладало возможностью использовать в столь больших размерах труд русских военнопленных». [149]149
Ленцен И.Использование труда русских военнопленных в Германии (1914–1918 гг.) // Вопросы истории, 1998, № 4, с. 136.
[Закрыть]
Но вернемся к России. Отказываться от дармовой рабсилы русские также не желали. Тем более что пример использования пленных на работах был дан германцами. Правда, собственно немецких пленных в России было маловато, но зато вполне хватало австро-венгерских пленных, которые вскоре и стали использоваться на работах внутри империи.
Мобилизация миллионов мужчин оголила народное хозяйство всех воюющих стран. Но если Великобритания и Франция частично могли восполнить этот ущерб использованием труда колониальных рабочих и поставками необходимой продукции из колоний, пользуясь господством на море и контролем над торговыми путями, то Центральные державы такой возможности были лишены. Что касается России, то ее положение осложнялось слабой механизацией народного хозяйства, что делало ущерб, понесенный мобилизацией, невосполнимым.
Первые случаи применения труда военнопленных стали наблюдаться с начала войны. Если в Германии это носило более массовый характер – десятки тысяч людей, то лишь потому, что немцы взяли много русских пленных. Для России, где сельское хозяйство еще не требовало многочисленных рабочих рук, труд пленных отдавался на добрую волю. Уже в 1914 году «при расселении военнопленных в селах было принято администрацией во внимание то обстоятельство, что их следует использовать как рабочую силу во время полевых работ по добровольному соглашению и тем устранить недостаток рабочих, призванных на войну». [150]150
Отчет Е. Г. Шинкевича по командировке в Омский военный округ… Пг, 1915, с. 10.
[Закрыть]Такие случаи, повторимся, в 1914 году были немногочисленны.
В первом полугодии войны пока еще создавалась правовая база и проводились первые опыты по использованию труда военнопленных. Так, 10 октября 1,914 года увидели свет «Правила о допущении военнопленных на работы по постройке железных дорог частными обществами». 17 марта 1915 года – «Правила об отпуске военнопленных для работ в частных промышленных предприятиях». Таким образом, первоначально пленные передавались на работы к частным предпринимателям. С половины 1915 года их труд будет использоваться уже государством, и чем дальше, тем во всех больших масштабах, пока не охватит львиной доли военнопленных.
28 февраля 1915 года были изданы «Правила об отпуске военнопленных на сельскохозяйственные работы». Согласно правилам, государственные ведомства, желающие получить пленных, делают запрос в военное министерство. Именно оно и передает пленных на работы. Тут же специально оговаривалось, что эти люди должны быть «военнопленные по преимуществу не немецкого и не мадьярского происхождения» и в количестве не более десяти тысяч человек на губернию. Желательный временной срок устанавливался в три месяца.
За свою работу пленные должны были получать жалованье, но уже Дополнением от 20 марта эта норма отменялась и оплата отдавалась на инициативу и добрую волю работодателя в качестве необязательного поощрения за добросовестный труд. Зато, согласно требованиям норм международного права, пленные должны были получать то же довольствие, что и местные рабочие. В частности, статья 8 «Правил» говорит: «Во все время работ военнопленные нижние чины продовольствуются из общего котла, на одинаковом основании с нижними чинами русской армии».
Следует заметить, что паек русского солдата был больше, нежели у немца или австрийца. С течением времени разница становилась все большей, так как нехватка продовольствия в Центральных державах вынуждала их понижать размеры пайка. Иными словами, в том случае, если нормы продовольствования пленных на работах выполнялись начальством, то такой пленный с осени 1915 года питался лучше, нежели солдат в собственной армии.
Единственное исключение – винный паек, так как в Российской империи с началом войны был введен «сухой закон» и в отличие от австро-германцев в довольствии русского солдата не было спиртных напитков.
Для сельскохозяйственных работ пленные передавались в распоряжение земских управ – как губернских, так и уездных. Статья 4 «Правил» от 28 февраля утверждала, что пленные должны передаваться в масштабе не более десяти тысяч человек на каждую губернию. Вскоре эти «Правила» были дополнены распоряжением Совета министров, которое позволило использовать труд военнопленных уже на любых работах, а не только в деревне. Соответственно, в России по новым правилам от 17 марта 1915 года пленные, занятые на работах в сельском хозяйстве, были переданы в ведение земств, а работавшие в промышленности – под надзор фабричных инспекторов. Согласно мартовскому Положению 1915 года, принятому Советом министров, пленные передавались в распоряжение земских губернских управ, которые, собственно говоря, и распределяли пленных на те или иные работы.
22 апреля 1915 года существующие «Правила» были дополнены в том смысле, что пленные могли распределяться также и на лесные, гидротехнические, мелиоративные и прочие работы под контролем ведомства Главного управления землеустройства и земледелия (затем – Министерства земледелия). То есть распределением пленных занималось военное ведомство, а затем за них всецело отвечали другие ведомства. А уже через год, в марте 1916 года, «функция распределения военнопленных на работы перешла от военного министерства к Министерству земледелия», [151]151
Белова И. Б.Военнопленные на территории Калужской и Орловской губерний в годы Первой мировой войны // Военно-исторический журнал, 2007, № 12, с. 42.
[Закрыть]отвечавшему за продовольственное снабжение страны. Таким образом, во всех воюющих странах невольно отступали от принципа чисто военного управления пленными. Вскоре пленные будут вообще оставляться без надзора и конвоя, под ответственность тех работодателей (а для села – это не только помещики, но и обычные крестьянские семьи), которым удастся получить пленных.
Широко использовался труд военнопленных и в прифронтовой полосе. Причем здесь старались оставлять тех из них, кто сдался добровольно, что было логично. Военный врач описывает такую ситуацию на Юго-Западном фронте в июне 1915 года. Австрийские военнопленные с пилами и топорами прокладывают бревенчатую дорогу в тылах. Это – русины. Один конвойный. Причем у пленных за спиной винтовки без патронов. Сдались вчера добровольно. [152]152
Войтоловский Л. Н.Всходил кровавый Марс: По следам войны. М., 1998, с. 324.
[Закрыть]Напомним, что июнь 1915 года – это поражения русской Действующей армии на фронтах. Армии Юго-Западного фронта все еще продолжают отход после Горлицкого прорыва. В начале июня австрийцами был отбит Львов – столица австрийской галицийской Украины. Тем не менее те австрийские подданные (как правило, славяне), что не желали воевать за своих немецких и венгерских хозяев, продолжают добровольно сдаваться в плен.
Это явление симптоматично, так как лишний раз выделяет великие державы так называемого второго капиталистического эшелона развития из общего ряда первоклассных индустриальных стран. Русские, австрийцы, итальянцы сдавались более охотно не потому, что хуже воевали, а потому, что не могли осознать империалистическую войну в качестве своей собственной, личной войны. Плюс крестьянское происхождение большинства рядового состава в этих государствах. Для Австро-Венгрии добровольные сдачи в плен славянских подданных, в принципе, стали предвестником грядущего раздробления страны после войны. Так, И. Деак вообще считает, что распад Австро-Венгерской монархии «на враждебные друг другу национальные фрагменты начался в лагерях военнопленных в ходе Первой мировой войны». [153]153
См.: Миллер А.Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006, с. 42.
[Закрыть]
Никакой труд не может быть совершенно безвозмездным, ибо в противном случае он не станет продуктивным. В первый период войны пленных принуждали работать почти бесплатно, особенно в прифронтовой зоне, где главной формой оплаты являлся продовольственный паек, но вскоре стали платить. Конечно, не столько, сколько своим рабочим, но все-таки платить.
Такая практика существовала во всех воюющих державах. Например, австрийские правила 1916 года по привлечению военнопленных на работы указывали, что за каждый дополнительный рабочий час, сверх установленного лимита, следует доплачивать по шесть геллеров. В Российской империи действовала аналогичная ситуация. «Надо сказать, что в целом условия содержания военнопленных в России отвечали требованиям Гаагской конвенции 1907 года, документы которой Россия ратифицировала в 1909 году… Разумеется, на практике требования этого положения в полном объеме выполнить было весьма трудно, ибо обеспечение приемлемых условий существования для столь огромного количества военнопленных стало непосильным бременем для империи. Однако нельзя не учитывать и того, что в России, как, впрочем, и в других воевавших странах, труд военнопленных широко использовался в народном хозяйстве, но, что следует особо подчеркнуть, не безвозмездно. Причем заработки их были по тем временам весьма приличными». [154]154
Новикова И. Н.Россия – страна контрастов… // Военно-исторический журнал, 2006, № 2, с. 55.
[Закрыть]
Сразу же следует сказать, что основная часть получаемых сумм пускалась пленными на улучшение своего питания. Оплата могла производиться и натурой. Так, работавшие в сельском хозяйстве питались вместе с хозяевами, это и было платой, ведь на казенных работах, даже при использовании денег для покупки еды все равно питались хуже. Например, исследователь так пишет о работе пленных в российском сельском хозяйстве в 1915 году: «В целом их трудом были крестьяне довольны. В то же время все села жаловались на катастрофическую нехватку военнопленных и требовали увеличения числа последних, так как использование труда местных наемных рабочих было неэффективно в связи с необходимостью платить им высокую заработную плату». [155]155
Крючков И. В.Военнопленные Австро-Венгрии, Германии и Османской империи на территории Ставропольской губернии в годы Первой мировой войны. Ставрополь, 2006, с. 36.
[Закрыть]А пленных зачастую просто кормили. Но зато кормили хорошо, и для пленных это было более выгодно.
К сожалению, обратная ситуация создавалась в Германии и Австро-Венгрии. Низкая оплата труда военнопленных дополнялась отсутствием продовольственных продуктов в свободной продаже, так как продовольствие подлежало государственной нормировке. Следовательно, купить что-либо по нормальным ценам пленные не могли, а для покупки продуктов на «черном рынке» выручаемых за труд нищенских сумм было мало. Потому-то источники и сообщают о том, что работа в сельском хозяйстве в Центральных державах отличалась от прочих работ, как земля от неба. Именно потому, что в селе пленных хотя бы сравнительно прилично кормили.
Русское «Положение о военнопленных» от 7 октября 1914 года в статье 13 указывало, что «производимые военнопленными работы оплате вознаграждением не подлежат». Правда, при этом в унисон Гаагской конвенции сообщалось, что эти работы «не должны быть изнурительными и не должны иметь никакого отношения к военным действиям». Одним словом, предполагалось временное использование труда пленных, впредь до скорой победы, в которой все еще были уверены: разворачивавшаяся в это время на фронте гигантская Варшавско-Ивангородская наступательная операция давала поводы для необоснованного оптимизма.
Вскоре по примеру противника российское правительство отказалось от любых ограничений относительно самих работ, а решения властей на местах окончательно узаконили практику использования неприятельских военнопленных на любых работах. Международное законодательство предусматривало необходимость вознаграждения пленных за работу в плену. Поэтому в совокупности с нарушением других принципов (запрет использования труда пленных на ряде работ) уже 8 марта 1915 года 13-я статья была дополнена в том смысле, что ведомства и учреждения, в ведении которых находятся работающие пленные, имеют право денежной выдачи вознаграждения «в целях поощрения их к более усердному труду». А 31 июля 1915 года новые правила окончательно постановили: «Установить на время настоящей войны выдачу поощрительного вознаграждения военнопленным за усердный труд при исполнении ими разного рода производимых по военному ведомству работ… в пределах не свыше десяти процентов существующей в данной местности стоимости дневного труда для данной категории работ». Тем самым оплата труда военнопленных фактически была узаконена.
Да и могло ли быть иначе, если труд военнопленных стал существенной частью работы российской оборонной промышленности? Это в сельском хозяйстве рабочих рук хватало до конца войны, чтобы обеспечить страну и Вооруженные силы продовольствием (перебои являлись следствием кризиса снабжения, а не производства продовольствия). В промышленности же труд пленных стал насущной необходимостью. Например, на уральских заводах в 1916 году 37 % рабочих составляли пленные. В целом же «к первой половине 1917 года военнопленные составляли около 25 % всех рабочих угольнодобывающей промышленности, около 26 % рабочих металлургической промышленности юга России, около 60 % рабочих железорудной промышленности, более 30 % рабочих горнозаводской промышленности Урала, около 28 % рабочих, занятых на добыче торфа». [156]156
Васильева СИ.Военнопленные Германии, Австро-Венгрии и России в годы Первой мировой войны. М., 1999, с. 100.
[Закрыть]
Размер установленной оплаты, в принципе, соблюдался, так как контроль над заработком военнопленного осуществлялся не работодателем, а органом, в распоряжение коего поступал пленный. А он был заинтересован в эффективной производительности труда. В сельском хозяйстве сравнительно с местными рабочими платили существенно меньше. Так, Д. И. Люкшин говорит, что, например, в Казанской губернии в 1915 году пленный получал от земства восемь рублей в месяц, работая у помещика, а крестьянину требовалась плата до полутора рублей в день. То есть заработок пленного составлял примерно четверть от оплаты труда местного рабочего. Неудивительно, что «В 1916–1917 гг. привлечение военнопленных для аграрных работ приобрело плановый характер». [157]157
Опыт мировых войн в истории России. Сборник статей. Челябинск, 2007, с. 506.
[Закрыть]
Передача военнопленных в помещичьи хозяйства, создававшая конкуренцию для местного населения, была необходима воюющему государству, заинтересованному в обеспечении фронта продовольствием. Но она же вызывала недовольство в деревне, в чем приходилось разбираться органам внутренних дел. Например, начальник Курского жандармского управления 21 апреля 1915 года доносил в Министерство внутренних дел, что «…крестьяне Грайворонского уезда Курской губернии крайне недоброжелательно относятся к экономиям, где взяты на работы военнопленные, так как администрация этих имений не берет местного мужского населения на работы, советуя заняться обработкой собственных земель. Крестьяне грозят, что если им не дадут заработка, то они не допустят к работам женщин своих сел. Крестьянки-солдатки, боясь недоразумений, решили о создавшемся положении написать мужьям в армию». [158]158
ГАРФ, ф. 102, 4-е делопроизводство, оп. 1914, д. 141, ч. 34, лл. 7–7 об.
[Закрыть]Допустить волнения в тылу было нельзя. Но и хлеб был нужен. Поэтому во время войны от пятнадцати до тридцати процентов всех работавших в помещичьих имениях все же составляли именно военнопленные. [159]159
Хрящева А…Крестьянство в войну и революцию. М., 1921, с. 18
[Закрыть]