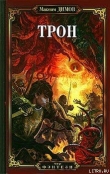Текст книги "Поддельный шотландец. Дилогия (СИ)"
Автор книги: Макс Мин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– Да, это я и есть, – отвечал я без удивления.
– Хорошо, – продолжал старый джентльмен, – мне поручено передать вам, чтобы вы следовали за вашим другом в его земли через Тороси.
Затем он спросил о моих приключениях, и я рассказал ему свою историю. Южанин, наверно, рассмеялся бы, но этот старый джентльмен – я называю его так благодаря его манерам, хотя одет он был в лохмотья, – выслушал все с серьезным и сострадательным видом. Когда я кончил, он взял меня за руку, повел в хижину – дом его был не лучше хижины – и представил своей жене, точно она была королевой, а я – герцогом.
Добрая женщина поставила передо мной овсяный хлеб и холодную куропатку, все время улыбалась и похлопывала меня по плечу – по-английски она не говорила, – а старый джентльмен, не желая отставать от нее, сварил мне крепкий пунш из местного спирта. Все время, пока я ел, а затем пил пунш, я едва верил своему счастью; этот дом, хотя и полный торфяного дыма и дырявый, как решето, казался мне дворцом.
Пунш вызвал у меня сильную испарину, после чего я крепко заснул; добрые люди уложили меня, и только на следующий день пополудни я отправился в путь. Как я ни настаивал, старый джентльмен не хотел брать денег, но мне с трудом удалось всучить ему немного серебра за купленный табак и провизию в дорогу.
Я тогда подумал: "Если все дикие хайлэндеры таковы, то я желал бы, чтобы все окружающие были ещё более дикими".
Поздно выйдя в дорогу, я ещё и часто сбивался с пути. Вокруг было много народу: одни возделывали маленькие бесплодные поля, неспособные прокормить и кошку; другие пасли тощих горных коровенок, ростом не больше ослов. Так как шотландский горский костюм был запрещен законом со времени восстания, и народ должен был носить нелюбимую им одежду лоулэндеров, то я поражался разнообразию и странности местных костюмов. Некоторые ходили полуголыми, но в пальто или плащах, и носили брюки привязанными к спине, как ненужное бремя; другие, желая подражать тартану*, сшили себе плащи из разноцветных полос, похожие на старушечьи одеяла; третьи по-прежнему щеголяли в шотландской юбке, по при помощи нескольких стежков превращали её в пару коротких панталон, как у голландцев.
Все это было запрещено и строго преследовалось законом в надежде уничтожить дух кланов. Но здесь, на отдаленном острове, меньше обращали внимания на запреты за отсутствием доносчиков.
С тех пор как с грабежами было покончено, а вожди кланов не держали больше открытого стола, народ жил в глубокой нищете. Дороги – даже такая извилистая проселочная дорога, как та, по которой я шел, – были усеяны нищими. И здесь я опять заметил различие между моей второй родиной и этой страной. Равнинные нищие, даже профессиональные, патентованные нищие, были мужиковатым, льстивым народом, и если вы давали им плэк и спрашивали сдачи, они очень вежливо возвращали вам боддло*. Но эти хайлэндеры сохраняли собственное достоинство, просили милостыню только на покупку нюхательного табака, как они уверяли, и никогда не давали сдачи.
Разумеется, это меня сейчас мало касалось (после всех передряг моя одежда выглядела не намного лучше чем у них) и только развлекало в дороге. Серебра у меня было мало, а чтобы светить здесь золотом надо было бы родиться полным дебилом. В этих краях даже одна золотая монета представляла из себя целое состояние. Гораздо же важнее было то, что очень немногие из встречных говорили по-английски, да и эти немногие не особенно стремились предоставить свои знания в мое распоряжение. Я знал, что место моего назначения Тороси, и, повторяя им это название, делал знак рукой, но, вместо того чтобы просто указать мне направление движения рукой, они начинали разглагольствовать на гэльском наречии, доводившем меня до одурения, и поэтому не мудрено, что я часто сбивался с пути.
Наконец, около восьми часов вечера, я, довольно усталый, дошел до уединенного дома в горах и попросил впустить меня, но получил отказ, пока не догадался о власти денег в такой бедной стране и продемонстрировал шиллинг. Тогда владелец дома, который раньше притворялся, что не говорит по-английски и знаками гнал меня прочь от двери, вдруг заговорил совершенно чисто на знакомом мне языке, и согласился за пять шиллингов приютить меня на ночь и проводить на другой день до Тороси.
Утром этот плут повёл меня прежде всего в гости к соседу, державшему таверну. Там мне пришлось раскошелиться на целую чашу пунша. Выпив по чашке, я попытался поднять на ноги своего проводника, но он наотрез отказался выходить из-за стола.
Я стал сердиться и обратился за помощью к хозяину – его звали Гектор МакЛин, – в присутствии которого я заключил сделку с проводником, и заплатил ему пять шиллингов. Но МакЛин, также выпивший, клялся, что ни один нормальный джентльмен не должен уходить из-за стола, пока пунш не выпит до капли. Так как красивая фарфоровая чаша для пунша была объёмом литра в три, а в самом пунше процентное отношение спирта было не меньше чем в креплённом вине, я понял, что мы вряд-ли уже сегодня вообще куда-то пойдём. Но и ярого желания бороться с национальными традициями горцев я в себе не наблюдал, поэтому не стал возмущаться дольше. Затем подошли ещё другие посетители и опустевшую чашу пунша сменила другая. Мне ничего более не оставалось, как сидеть и слушать якобитские тосты и гэльские песни, пока все в конец не опьянели и не побрели, спотыкаясь, на ночлег, кто к постелям, а кто на гумно. За это время я успел подробно расспросить о дальнейшей дороге, благо несколько человек за столом знало английский.
На следующий день – четвертый день моего путешествия – мы поднялись, когда ещё не было пяти часов утра, но мой плутоватый проводник сейчас же принялся за бутылку, и я, плюнув на него в роли проводника, отправился в дальнейшую дорогу самостоятельно. Да, надо срочно искать возможность разменять ещё хотя бы одну гинею, а то с такими темпами трат я скоро останусь совсем без серебра.
Путь мой лежал вдоль гребня длинного холма и нужное направление было нетрудно выдерживать. Но опять заморосил дождь, видимость ухудшилась, идти стало труднее.
Через полчаса я нагнал высокого человека в лохмотьях, шедшего довольно быстро, но нащупывавшего дорогу перед собой палкой. Это был слепой, назвавший себя бродячим проповедником, что по его идее должно было бы успокоить меня. Однако мрачное, зловещее выражение его лица с первого взгляда не понравилось мне, а когда я пошел с ним рядом, увидел, что из-под лацкана его кармана выглядывает стальная рукоятка пистолета. За ношение огнестрельного оружия в горной части Шотландии сейчас полагался штраф в пятнадцать фунтов стерлингов на первый раз и высылка в колонии – на второй. Я не мог бы понять, зачем законоучителю ходить вооруженным, и на что слепому пистолет, если бы не был заочно знаком с этим персонажем.
Я провокационно рассказал ему историю про своего проводника. При упоминании о пяти шиллингах он так громко возмутился, что о его отношении к деньгам всё стало предельно ясно.
– Я ему предложил слишком много? – спросил я, стараясь сделать голос как можно более неуверенным.
– Слишком много, да не то слово! – воскликнул он. – Да я охотно сам лично провожу тебя до Тороси за глоток виски, и в придачу ты сможешь наслаждаться обществом довольно образованного для здешних мест человека, моим стало быть.
Я сказал, что не понимаю, как слепой может служить проводником. На эти слова он громко рассмеялся и ответил, что при помощи своей палки видит не хуже орла.
– По крайней мере здесь, на острове Малле, – прибавил он, – где мне знакомы каждый камень и каждый кустик вереска. Смотри, – сказал он, помахивая палкой направо и налево, – там внизу течет речка, а выше стоит холмик, и на его вершине лежит камень. Почти у подошвы холма проходит путь на Тороси. Эта же дорога предназначена для скота, и потому так утоптана и вьется зеленой лентой среди вереска.
Я вынужден был сознаться, что всё это совершенно верно, и выказал своё удивление.
– О, – сказал он, – это ещё что! Поверите ли, что когда до опубликования акта здесь ещё можно было носить оружие, я умел даже стрелять!.. Да, умел! – воскликнул он, затем, взглянув искоса, прибавил: – Если б у вас был пистолетик, я бы показал вам своё искусство.
Я отвечал, что у меня нет оружия, и отошел от него на пару шагов. Если бы он только знал, что в это время из его кармана высовывался пистолет и я мог ясно видеть, как на его стальной рукоятке играют лучи солнца! Но он не понимал этого и думал, что все шито-крыто, и продолжал нагло врать, не зная, что сейчас решается его судьба.
Меня нельзя назвать особо мстительным человеком, и к криминалитету я отношусь без особого предубеждения. Вроде как вот тот человек толстый, тот алкоголик, а этот – бандит, что же, у каждого свои недостатки. Но это относятся только к тем бандитам, кто трудится преимущественно в своей, бизнесмено-бандитской среде, но не пытается убить первого встречного за копейку. Высшую меру наказания я не признаю, зато признаю высшую меру социальной защиты. Если на моём пути встречается человек, способный убить прохожего за карманные деньги и уже делавший это, я его постараюсь обезвредить любым, пусть даже самым радикальным способом. Не из мести за прежних жертв, а во избежание будущих, среди которых вполне могут оказаться дорогие мне или просто хорошие люди. Так что судьба моего попутчика была решена после довольно коротких размышлений, осталось только найти подходящее место для финальной точки.
Вскоре мой предопределённый попутчик начал хитро, по его представлению, выспрашивать меня, откуда и зачем я иду, богат ли я, и не могу ли разменять ему мелочью пять шиллингов, – он уверял, что они лежат у него в кошельке, – всё время стараясь приблизиться ко мне, тогда как я пока держался от него подальше. Мы теперь двигались странно: поочередно, как в хороводе, переходя с одной обочины на другую, по зеленой скотопрогонной тропе, пересекавшей холмы по направлению к Тороси. Я так ясно сознавал своё превосходство, что был в прекрасном настроении и находил удовольствие в этой игре в жмурки, но законоучитель сердился все больше и больше и, наконец, начал ругаться по-гэльски и постарался палкой ударить меня по ногам. К этому моменту мы как раз подошли к ложбинке с болотом и густым зарослям терновника.
Тогда я, без всяких дальнейших объяснений, достал из сумки свой пистолет и пустил ему пулю в лоб. Оттянув труп за ноги в кусты, забросал ветками следы крови, не став рыться в его лохмотьях и даже забирать пистолет, удовольствовавшись только тем, что подобрал выпавший на дорогу небольшой кисет с рожком пороха и пулями.
Затем я продолжил путь по направлению к Тороси, довольный, что путешествую один, а не с этим ученым мужем. Нельзя сказать, чтобы совесть совсем не мучила меня, но убеждение, что я только что сделал этот мир чуточку чище, позволяло легко парировать её выпады.
В Тороси, на Маллском проливе, фасадом к Морвену, стояла гостиница, хозяин которой происходил из рода МакЛинов, кажется, очень знатного происхождения. Содержать гостиницу в Хайлэнде считается ещё более почетным занятием, чем у нас, потому ли, что с ним связано понятие о гостеприимстве, или потому, что праздный и пьяный образ жизни считается приличным каждому порядочному джентльмену. Хозяин хорошо говорил по-английски и, найдя, что я был в некотором роде ученым, проэкзаменовал меня сперва по французскому языку, в знании которого я его легко побил, а затем по латинскому, в котором мы оказались почти равносильными. Это веселое соревнование сразу поставило нас в дружеские отношения; я сидел и пил с ним пунш – вернее, больше смотрел, как он пил, где мне было угнаться за таким профи, – пока он, подвыпив, не начал рыдать у меня на плече.
Я будто случайно показал ему пуговицу Алана, но было ясно, что он не только никогда её не видел, но и ничего не слышал о ней. Он питал некоторую неприязнь к семье и друзьям Ардшила и, до того как напился, прочел мне пасквиль на прекрасном латинском языке, но весьма дурного содержания, написанный им элегическими стихами на одного из членов семьи этого дома.
Когда я рассказал ему отредактированную версию своей встречи с законоучителем, он покачал головой и заметил, что я счастливо отделался.
– Это очень опасный человек, – прибавил он, – его зовут Дункан МакКэй. Он действительно умеет хорошо стрелять на слух. Его неоднократно обвиняли в грабежах на большой дороге и один раз даже в убийстве, но доказательств не было, поскольку свидетелей не оставалось.
– Самое смешное то, что он называет себя учителем закона божьего, – сказал я.
– А отчего бы ему так не называть себя, – отвечал он, – если он действительно законоучитель? МакЛин из Дюарта дал ему когда-то это звание из сострадания к его слепоте. Но, пожалуй, это было неосторожно, так как теперь под предлогом обучения юношества закону божию он вечно бродит по большим дорогам, а это, без сомнения, большое несчастье для некоторых его случайных попутчиков.
Наконец хозяин, не будучи более в состоянии пить, указал мне постель, на которую я улегся в прекрасном расположении духа: без особенной усталости я прошел в четыре дня значительную часть большого и извилистого острова Малл, от Эррейда до Тороси, что по прямому пути составляет пятьдесят миль, а с моими скитаниями – около ста. В конце этого длинного путешествия я даже чувствовал себя гораздо бодрее духовно и физически, чем в начале его. Большинство людей даже представить себе не может, какое это счастье – ходить пешком на большие расстояния, не чувствуя при этом особой усталости и не натирая культи протезами.
XVI.
От Тороси до Кинлохалина на другом берегу существует регулярное сообщение на пароме. Оба берега пролива принадлежали сильному клану МакЛинов, и почти все пассажиры, переправлявшиеся вместе со мной на пароме, были из того же клана. Шкипера барки звали Нэйль Рой МакРоб. А так как это было одно из имен клана Алана Брэка, который сам послал меня к этому перевозу, мне очень хотелось поскорей поговорить наедине с Нэйлем Роем.
На переполненной народом барке это было, конечно, невозможно, а переправа совершалась очень медленно: ветра не было и грести можно было только двумя веслами с одной стороны и одним веслом с другой, так как барка была плохо оборудована. Перевозчики охотно позволяли пассажирам по очереди помогать им, и вся компания проводила время за хоровым пением гэльских песен. Песни, морской воздух, добродушие и хорошее настроение присутствовавших, прекрасная погода – все это делало плавание очень приятным.
Впрочем, не обошлось без печальных переживаний. В устье Лох-Алина стояло на якоре морское судно. Сначала я предположил, что это один из королевских крейсеров, наблюдавших зимой и летом за этим берегом, чтобы препятствовать его сношениям с Францией. Но когда мы подошли поближе, стало ясно, что это торговое судно. Особенно меня поразило, что не только палуба, но и весь берег чернел народом, а по морю беспрестанно сновали шлюпки. Подойдя ближе, мы услышали громкие причитания и душераздирающий плач.
Тут я понял, что это эмигрантское судно, направляющееся в американские колонии.
Когда мы приблизились на нашей барке к судну, изгнанники стали нагибаться через борт, плача и простирая руки к моим спутникам, среди которых находились их близкие друзья. Я не могу сказать, долго ли это продолжалось, так как все утратили понятие о времени. Но капитан судна, который, казалось, совсем потерял голову – и не мудрено – от этого плача и всеобщей сумятицы, наконец подошел к нам и попросил нас отойти.
Когда Нэйль отплыл, главный певец на барке затянул меланхолическую песнь, подхваченную немедленно как эмигрантами, так и их товарищами на берегу. Песня зазвучала повсюду, точно плач по умирающим. Я видел, как слезы текли по щекам мужчин и женщин, а мотив песни глубоко растрогал даже меня.
В Киплохалине на берегу я отозвал Нэйля в сторону и спросил, не принадлежит ли он к Эпинцам.
– Да. Ну и что же из этого? – отвечал он.
– Я ищу одного человека, – сказал я, – я думаю, что вы имеете о нем сведения. Его зовут Алан Брэк. – И показал ему пуговицу.
– Хорошо, хорошо, – сказал Нэйль, – если вы «отрок с серебряной пуговицей», то и ладно: мне поручено проводить вас до места. Но если позволите быть откровенным, – сказал он, – вам никогда не следует упоминать имени Алана Брэка во всеуслышание. В наше время здесь можно встретить слишком много шпионов короля Георга.
Видно было, что и действительно Нэйль боится быть подслушанным, его постоянное оглядывание и понижение тона при появлении хоть кого-то в радиусе пятидесяти ярдов явно свидетельствовало о осторожности на грани паранойи. Поэтому он поторопился познакомить меня с моим маршрутом: я должен был переночевать на кинлохалинском постоялом дворе, на следующий день пройти по Морвену до Ардгура и провести ночь в доме Джона Клайморского, предупрежденного об этом; на третий день переправиться через один лох* у Коррана и через другой у Балахклиша, а затем спросить дорогу к дому Джеймса Глэнского в Охарне, в Эпинском Дюроре. Как видите, мне часто приходилось переправляться на лодке, так как в этих местах море глубоко врезается в скалы и извивается вокруг них. Страну эту легко защищать, но трудно по ней путешествовать, и вся она представляет собой серию диких и мрачных пейзажей.
Нэйль дал мне ещё несколько полезных с его точки зрения советов: не говорить ни с кем по дороге, избегать вигов, Кемпбеллов и "красных мундиров"; при их приближении сходить с дороги и прятаться в кусты, потому что встреча с ними никогда не ведет к добру, – короче, он советовал мне вести себя, как подобает разбойнику или якобитскому агенту, за которого меня, вероятно, и принимал.
Кинлохалинская гостиница была похожа на отвратительный свиной хлев, полный дыма, нечистот и молчаливых горцев. Я был очень недоволен не только помещением, но и тем, что погода снова начала явно портиться. Я думал, что хуже и быть ничего не могло, но ошибался и вскоре убедился в этом. Не прошло и получаса с тех пор, как я пришел в гостиницу – все это время мне пришлось стоять в дверях, так как торфяной дым ел мне глаза, – как вдруг разразилась гроза; по холму, где стояла гостиница, потекли ручьи, проникли в помещение и половину комнат превратили в бурный поток. В те времена по всей Шотландии постоялые дворы были довольно плохи, но все же я не мог не изумиться, когда мне от очага до постели пришлось идти по щиколотку в воде.
Рано утром я нагнал в дороге маленького, полного, но важного на вид человека, который шел очень медленно, выворачивая носки; по временам он на ходу читал книгу, отмечая что-то ногтем, и своей скромной одеждой напоминал лицо духовного звания.
Оказалось, что он тоже законоучитель, но совершенная противоположность слепому из Малла: он был послан эдинбургским обществом распространения христианства проповедовать евангелие в наиболее диких местах горной Шотландии. Его звали Гендерлэнд. Говорил он с тем резким южным акцентом, о котором Дэви уже начинал скучать. Вскоре мы, кроме общей отчизны, нашли и другой общий интерес. Мой старый знакомый, иссендинский священник, в свободное время перевел на гэльское наречие несколько гимнов и религиозных книг, которые хорошо знал Гендерлэнд, отозвавшийся с глубоким уважением о переводчике. Одну из этих книг он как раз взял с собой и читал её по дороге. Мы сразу же пошли вместе, так как до Кинагайрлоха нам было по пути. Иногда он останавливался и разговаривал со встречными и обгонявшими нас путниками и с местными рабочими. Хотя я не мог понять их разговора, мне показалось, что мистера Гендерлэнда любят в этой стране, так как видел, что многие вынимали свои табакерки и предлагали ему понюшку нюхательного табаку.
О своих делах я рассказывал только то, что считал возможным рассказывать, то есть все, что не касалось Алана; сказал ему, что попал в кораблекрушение и иду в Балахклиш, где должен встретиться с другом, так как подумал, что не следует указывать на Охарн или даже на Дюрор.
Он, с своей стороны, много рассказывал мне о своём призвании и о местном населении, среди которого ему приходилось работать, о скрывающихся священниках и якобитах, об акте о разоружении, об одежде и других любопытных явлениях того места и времени. Он казался умеренным в суждениях: иногда даже умеренно осуждал парламент, в особенности за то, что акт предписывал строже преследовать ношение национальной одежды, нежели оружия.
Его умеренность навела меня на мысль расспросить его о Красном Лисе и об Эпинских фермерах. Я думал, что эти вопросы покажутся совершенно естественными в устах человека, направляющегося в эту страну. Он отвечал, что это очень скверная история.
– Просто удивительно, – говорил он, – откуда эти несчастные земледельцы берут деньги, тогда как сами они умирают с голоду? У вас нет с собой табаку, мистер Бэлфур? Нет? Прекрасно, я обойдусь без него. Но, без сомнения, этих фермеров отчасти принуждают. Джеймс Стюарт Дюрор – его ещё называют Джеймс Глэнский – единокровный брат Ардшила, предводителя клана. Его очень уважают, и он пользуется большим влиянием у фермеров. А потом есть ещё другой, по имени Алан Брэк.
– О, – воскликнул я, – а это что за человек?
– Можно ли сказать о ветре, который дует куда заблагорассудиться? – ответил Гендерлэнд. – Он то здесь, то там: сегодня тут, а завтра умчался неведомо куда. Ловкий малый! Я бы не удивился, выгляни он прямо сейчас вон из-за того куста дрока! Нет ли у вас с собой случайно табаку, а?
Я ответил, что, к сожалению нет, и что он уже не раз спрашивал меня об этом.
– Очень возможно, – сказал он, вздыхая. – Но это мне кажется странным, что можно пускаться в путь и не прихватить пару понюшек... Итак, я говорил вам, этот Алан Брэк – отчаянной храбрости контрабандист и правая рука Джеймса. Он уже неоднократно осужден, и ему теперь все нипочем. Очень вероятно, что если бы кто-нибудь из фермеров стал отказываться, он проткнул бы его кинжалом.
– Вы выставляете все в очень неприглядном виде, мистер Гендерлэнд, – сказал я. – Если тут действует только лишь принуждение и страх, то мне не хотелось бы и слушать о подобном.
– Нет, – отвечал мистер Гендерлэнд, – тут, кроме страха, играет роль и любовь, и такое самоотречение, что порой становится стыдно за самого себя. В этом есть какое-то благородство, может быть, и не с христианской, но с общечеловеческой точки зрения. Даже Алан Брэк, по всему, что я слышал о нем, – борец, достойный уважения. В нашей стране есть много лживых и подлых людей, которые посещают усердно церковь и пользуются уважением общества, а между тем они гораздо хуже этого безумца, безрассудно проливающего человеческую кровь. Да, да, нам бы следовало поучиться у него. Вы, может быть, думаете, что я слишком долго жил среди горцев? – прибавил он, поглядывая на меня с улыбкой.
Я отвечал ему отрицательно, прибавив, что встретил среди хайлэндеров многое, достойное удивления, и что сам мистер Кемпбелл был тоже родом из горной Шотландии.
– Да, – сказал он, – это правда, это тоже местный знатный род.
– А что поделывает теперь королевский управляющий? – осведомился как-бы между прочим я.
– Колин Кемпбелл? – спросил Гендерлэнд. – Он сам лезет на рожон!
– Я слышал, что он силой хочет согнать арендаторов с их земли, – сказал я.
– Да, – отвечал он, – но дело это, как говорится, ни с места. Во-первых, Джеймс Глэнский поехал в Эдинбург, нашел там опытного юриста – без сомнения, очередного Стюарта: они все стоят друг за друга, – и добился приостановки выселения. Но потом Колин Кемпбелл снова выиграл дело в суде государственного казначейства. Теперь я слышал, что первая партия выселяемых должна отправиться завтра. Выселение начнется с Дюрора, под самыми окнами Джеймса, что, по моему скромному разумению, совсем уж безрассудно.
– Вы думаете, что они станут сопротивляться? – спросил я.
– Положим, они обезоружены, – сказал Гендерлэнд, – или предполагается, что они обезоружены, хотя ещё много холодного оружия припрятано в укромных уголках. Кроме того, Колин Кемпбелл вытребовал туда солдат. И все-таки, будь я на месте его жены, я не был бы спокоен, пока он не вернется домой. За этих Эпинских Стюартов никогда нельзя поручиться.
Я спросил, опаснее ли они своих соседей.
– Нет, – сказал он, – это-то и скверно, потому что если Колин Красный и добьется своего в Эпине, ему придется начинать заново в соседней местности, которая называется Мамор и принадлежит Камеронам. Ему, как королевскому агенту, приходится выселять арендаторов из той и другой земли, и, откровенно говоря, мистер Бэлфур, я уверен, что если на первый раз он и увернется от пули, то на второй ему наверняка несдобровать.
Разговаривая подобным образом, мы шли почти весь день, пока наконец мистер Гендерлэнд не выразил своего удовольствия, что провел время так приятно в обществе друга мистера Кемпбелла, «которого, – сказал он, – я осмелюсь назвать сладкогласным певцом нашего духовного Сиона», и предложил мне сделать небольшой привал, чтобы провести ночь в его доме, немного в стороне от Кингайр-лоха. По правде сказать, я был чрезвычайно рад: у меня не было ни малейшего желания знакомиться с Джоном Клаймором, и после двойной неудачи – сперва с лжепроводником, а затем с проповедником-грабителем – я немного настороженно относился к незнакомым горцам. Да и показная лояльность к королю Георгу и его поддерживающим мне могла пригодиться в будущем, особенно если так и не удастся далеко уйти от канонных рельс.
Итак, мы ударили по рукам, свернули в сторону, и после полудня подошли к маленькому домику, одиноко стоявшему на берегу Линни-Лоха. Солнце уже ушло с пустынных Ардгурских гор, но ещё освещало Эпинские скалы на противоположном берегу залива. Лох был спокоен, как озеро, только чайки кричали вокруг, и вся местность имела какой-то странный и торжественный вид.
Не успели мы дойти до двери дома мистера Гендерлэнда, как, к моему великому удивлению – я успел уже привыкнуть к хайлэндерской вежливости, – он неожиданно промчался вперед, оставив меня позади, влетел в комнату, схватил банку и роговую ложечку и начал набивать свой нос табаком в самом неумеренном количестве. Затем он хорошенько прочихался и оглянулся на меня с глуповатой улыбкой.
– Я дал обет, – сказал он, – что не буду брать с собой табак в дорогу. Это, разумеется, большое лишение. Но когда я вспоминаю о мучениках не только в Шотландии, но и в других христианских странах, мне становится стыдно и думать об этом.
Этот случай заставил меня задуматься о необычайной силе присущих людям вредных привычек. Выпивка, наркотики, курение, нюхательный табак, жаренные семечки подсолнуха... Впрочем, мысли эти тут же пропали как и не бывало, стоило хозяину позвать меня к обеденному столу.
Как мы только поели – овсяная каша и сыворотка были самыми вкусными из блюд нового знакомого, – он с серьезным лицом заявил, что у него есть обязанности по отношению к мистеру Кемпбеллу, а именно – осведомиться о состоянии моей души. Вспомнив случай с табаком я готов был улыбнуться. Хотя проповедником он был отличным. Даже меня, прожжённого циника из совсем иного времени, смогли пронять некоторые его прочувствованные слова.
Доброта и скромность – вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека. Мы редко встречаем их в этом грубом мире, среди черствых и надменных людей. К сожалению, эти качества в равной мере мне были не свойственны. А гордыни и эгоизма во мне было через край. Всё это вполне стало ясно из долгого разговора с захолустным проповедником из иного времени. Боюсь, я вызвал его недоумение, явным нежеланием становиться на колени и бить поклоны во время молитвы, но он в конце-концов нашёл объяснение такому поведению в том, что я переодетый аристократ.
Перед тем как лечь спать, я предложил хозяину две гинеи. Он как мог отказывался, но в конце-концов согласился их взять, с учётом, что половину суммы можно будет потратить на помощь наиболее нуждающимся среди местных горцев во славу Господа. Также мне наконец удалось разменять ещё одну гинею мелочью, пополнив свой запас разменных монет.
XVII.
Назавтра мистер Гендерлэнд нашел человека, владельца лодки, который в этот день собирался переплыть Линни-Лох, чтобы в Эпине заняться рыбной ловлей. Человек этот принадлежал к его пастве, и Гендерлэнд убедил его взять меня с собой, и таким образом мое путешествие сократилось на целый день, и я сберег деньги, которые пришлось бы уплатить за переправу на двух паромах.
Мы отправились около полудня. День был пасмурный, небо затянулось облаками, и, пробиваясь сквозь них, солнечные лучи только кое-где освещали землю. Линни-Лох в этом месте был очень глубок и спокоен, так что я должен был попробовать воду на вкус, чтобы увериться, что она действительно солёная. Со всех сторон поднимались высокие, неровные, бесплодные скалы, черные и мрачные в тени облаков и серебристые, изборожденные горными потоками, когда их освещало солнце. Эпинская страна показалась мне слишком суровой, чтобы я понял страстную привязанность к ней Алана.
Надо упомянуть ещё об одном. Вскоре после того, как мы пустились в путь, солнце осветило небольшое красное, движущееся пятно близ северного берега. Его цвет очень напоминал форму английских солдат. Кроме того, на нем время от времени что-то блестело и искрилось, словно сталь при солнечном свете.
Я спросил у лодочника, что бы это могло быть. Он отвечал, что это, вероятно, красные мундиры, вызванные из форта Вилльям по случаю выселения бедных арендаторов Эпина. Сознаюсь, что это зрелище не слишком обрадовало меня. Оттого ли, что я думал об Алане, или от какого-то предчувствия, но я, только два раза в этой жизни видевший войско короля Георга, не почувствовал к нему особенного расположения.
Наконец мы так близко подошли к берегу у входа в Лох-Левен, что я попросил высадить меня. Мой лодочник – честный малый, помнивший обещание, данное законоучителю, – охотно бы довез меня до Балахклиша. Но так как это отдаляло меня от места моего тайного назначения, я настоял на своём, утверждая, что хочу пройтись пешком. И меня наконец высадили на берег около Леттерморского (или Леттеворского; мне приходилось слышать и то и другое) леса в Эпине – на родине Алана.