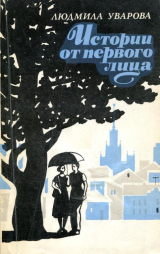
Текст книги "Истории от первого лица (Повести. Рассказы)"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Я знал, что дождусь Юрку. Правда, пришлось его ждать около двух часов, никак не меньше, я уже было собрался, решил уйти и все-таки стал снова ходить по тротуару, вокруг его дома.
«Должен же он явиться в конце концов, – думал я. – Когда-нибудь все же придет же домой…»
Завтра я должен был уехать в командировку в Пермь, и мне хотелось напоследок увидеть его. И в конце концов я дождался.
Он вышел из-за угла и прямехонько бросился ко мне.
– Привет, па!
– Привет, – сказал я.
Я старался выглядеть как можно более независимо и спокойно. Словно встретился ненароком, почти случайно.
– Я тут неподалеку, на Стромынке, был, – сказал я. – Звонил тебе, но никто не ответил.
– Никого не было дома, – сказал Юрка.
– Но я почему-то надеялся, что рано или поздно ты придешь, – сказал я.
Я говорил быстро, все время улыбаясь. Мне казалось, что улыбка у меня широкая – шире не бывает, и глаза превеселые, но сам не переставал вглядываться в его лицо: неужели Мила права? Неужели он и вправду не мой сын?
Я не верил ей. Не мог и не хотел верить.
Мне всегда казалось, что Юрка похож на меня. И многие, видя нас вместе, говорили:
– Сразу видно, что отец и сын…
И в самом деле, семейное сходство между нами, как мне думалось, неоспоримо.
У Юрки тот же рот и веки так же слегка припухшие, и смеемся мы одинаково. Сперва словно бы кудахчем, а потом уже начинаем раскатисто хохотать…
Правда, у него волосы много светлее моих, и глаза совершенно непохожи ни на Милины, ни на мои. И нос курносый, у меня длинный, с чуть заметной горбинкой, а у Милы толстый, с широкими ноздрями.
И все-таки, как бы там ни было, Юрка похож на меня. Или это мне просто кажется? И я стараюсь уговорить себя: и вовсе мы не похожи друг на друга?..
И он в самом деле не мой сын?
Юрка старался шагать в ногу со мной, не отставая, длиннорукий, рано вытянувшийся, очень худой, джинсы туго обтягивают тощие бедра, на плечах майка с печатными буквами «Love me».
Должно быть, Мила где-то достала, она мастак доставать модные шмотки, а такого рода майки и рубахи пользуются большой популярностью среди молодежи от двенадцати и чуть ли не до тридцати лет.
Мы сидели с Юркой в нашей любимой стекляшке-забегаловке, он ел мороженое, он уверяет меня, что может съесть сколько угодно, хоть сто порций мороженого, я прихлебывал коньяк, и мы беседовали о всякой всячине.
И я все время пытался хорошенько разглядеть его, потому что никак не мог решить для себя, похож ли он на меня или нет.
То мне казалось, что похож, то вовсе ни капельки. Я совершенно изнемог, истерзал себя, но, само собой, нельзя было показывать виду, что я переживаю, надо было слушать его, поддакивать в нужные моменты, спрашивать, в свою очередь, отвечать на вопросы, изрекать какие-то истины. И еще – стараться, чтобы он ничего не понял. Чтобы до него что-то не дошло.
А он был такой, как всегда, открытый, искренний, не скрывавший от меня ничего. Правда, я понимал, такая вот открытость до известного момента. Недалек час, когда он начнет таиться, скрывать то, что считает нужным скрывать. Но пока что он откровенен и любит делиться со мной. Не с матерью, не с бабушкой, лишь со мной…
И на этот раз он признался, что ему нравится одна девочка. А почему бы и нет? Ничего удивительного, ему уже пятнадцатый год, в наш век акселерации все они влюбляются раньше времени.
Впрочем, я тоже, хотя и не был акселератом, впервые влюбился что-нибудь лет в десять или в двенадцать…
Но то, что он сказал потом, несказанно обрадовало меня.
– Давай поедем вместе куда-нибудь летом…
– Куда? – спросил я.
– Куда хочешь, на Оку или на Волгу, я тогда не поеду в лагерь на вторую смену и буду ждать тебя…
Неужели это правда? Признаться, я и обрадовался и удивился. Такого со мной никогда не бывало. Я не любил ездить с родителями, а признавал ездить только с друзьями. Я так и сказал Юрке:
– Мне в твоем возрасте интереснее было ездить с товарищами, а вовсе не с родственниками.
Он ответил:
– А мне интереснее с тобой!
Если бы он только знал, каким счастливым я почувствовал себя в этот миг! Я хотел было высказать ему все то, что у меня на душе, и не сумел. Как-то не идут у меня нежные слова с языка, а словно бы застревают где-то в горле, что ли…
Я сказал ему, что уезжаю в командировку в Пермь. Он спросил: надолго ли? Я ответил, что на неделю или, может быть, на две.
Он снова позвал меня:
– Идем к нам…
Что можно было ему ответить на этот раз? Лгать не хотелось, сказать правду немыслимо, лучше избрать нечто среднее, в некотором роде полуправду.
Я сказал, что мы с его мамой слегка поссорились. И он не стал расспрашивать меня, из-за чего. И это было, в сущности, самое лучшее, что он мог сделать.
Потом я проводил его до дома и отправился дальше. Надо было по дороге домой зайти в галантерею, купить Нате тесьму, мулине и прищепки для белья.
Было начало восьмого, Ната, наверное, уже дома, но я все медлил, все ходил по нашему Гоголевскому бульвару взад и вперед…
Вдруг вспомнился мне мой институтский товарищ Коля Алферьев. Вспомнилась давняя история, происшедшая с ним. Никто, ни одна душа не подозревала о том, что случилось, один я, кажется, знал о том, что произошло. Колина жена, рыженькая толстушка Алла, родила дочь. Коля души не чаял в девочке, сам купал ее, пеленал, подолгу гулял с ней, и мы, старые его друзья, не раз сокрушались:
– Коля стал несносным. Ничто его не интересует, кроме дочки, ни о чем не может говорить, только о ней, о том, что она любит, какие новые слова выучила, как она ходит, смеется, плачет…
Но однажды во время ссоры (рыженькая толстушка обладала вздорным и склочным характером) она призналась ему, что дочка вовсе не от него. И даже пошла дальше, сказав, что дочка от грузина-физкультурника из одного подмосковного дома отдыха, где ей довелось побывать вскоре после того, как она вышла замуж за Колю.
Вначале Коля не поверил. Но Алла привела доказательства, сумевшие убедить его. В конце концов сказала:
– Да ты погляди на нее. Есть ли в ней хотя бы одна черта, схожая с тобой?
В самом деле, Коля был блондин, белолицый, светлобровый, мы звали его в институте Альбинос, нос картошкой, мягко очерченный толстогубый рот. А у девочки были жгуче-черные волосы, черные глаза, длинные густые ресницы, тонкие губы. И когда она смеялась, то морщила нос и прикусывала нижнюю губу зубами.
Тогда Коля стал всем рассказывать, что его покойный отец был жгучий брюнет с черными глазами и длинными ресницами. И я не раз с удивлением стал замечать, что Коля, смеясь, морщит нос и прикусывает нижнюю губу зубами так, как делала дочка. И как-то он сказал мне:
– Можешь себе представить, многие считают, что девочка и вправду похожа на меня…
Я спросил его напрямик, останется он с Аллой или уйдет от нее.
Он удивился.
– Да что ты? Никуда я от нее не уйду.
Подумал немного, поправил самого себя:
– От дочки не сумею уйти.
Может быть, мне также пойти по стопам Коли, стараться имитировать Юркины манеры, выражение лица, голос, походку, чтобы наше сходство бросалось всем в глаза.
Впрочем, и без того я считаю и всегда буду считать Юрку моим сыном, а то, что сказала Мила, решительная, абсолютная неправда, это она со зла, просто потому, что злая. Она всегда любила сказать что-нибудь обидное прямо в лицо человеку, не только мне, но и своим подругам, даже матери. Такая у нее натура…
Почему мы разошлись? Она попросила меня не рассказывать никому и, само собой, не говорить Юрке. Однажды он все-таки спросил меня, почему мы разошлись. Я ответил:
– Знаешь, есть такая широко применяемая формула: не сошлись характерами.
– Это все, что ты можешь мне сказать? – спросил он.
– Пожалуй, – ответил я.
Он не настаивал. По-моему, мой ответ удовлетворил его, или же, может быть, он сделал вид, что удовлетворился ответом.
У него редкое для мальчика его лет чувство меры: понял без лишних слов – иного ответа не будет. И отвалился мгновенно и больше никогда ни о чем не спрашивал.
А у нас все было в достаточной мере тривиально: я любил, она не любила. Вернее, пыталась на первых порах, но так и не сумела меня полюбить.
Первое время я прощал ей многое. И она постепенно чем дальше, тем больше проникалась сознанием, что ей все позволено, что я все равно прощу, что бы она ни сделала.
А я решил однажды: баста! Все! Хватит!
Она было не поверила, ведь ее устраивала подобная ситуация, когда, сознавая себя любимой и желанной, разрешаешь себе все, что хочешь.
Однако еще все было тихо и мирно. В конце концов она поверила мне и сама первая предложила обменять нашу квартиру на две комнаты.
– Не строй из себя бескорыстного идальго, – сказала она. – Я же знаю, что тебе негде жить, а я вовсе не хочу, чтобы отец моего сына оставался на улице. Право же, ты этого вовсе не заслужил.
И сама занялась обменом, сама выбирала различные варианты и выбрала: себе с Юркой однокомнатную отдельную квартиру, мне комнату в коммуналке, сравнительно малонаселенной, и даже приходила ко мне на первых порах, наводила у меня порядок.
– Мы вполне современны, – говорила она. – Сохраняем добрые отношения и остаемся почти друзьями. Разве не так?
И я соглашался с нею. Современны так современны, тем лучше для нас обоих.
А главное! – Юрка не травмирован, хорошо относясь к нам обоим, он видит, что мы так же по-доброму относимся друг к другу, и это, как я думаю, не могло ему не нравиться.
Мне казалось, что Мила где-то в глубине души полагает, что когда-нибудь мы снова с нею сойдемся и все будет так, как она хочет.
Она привыкла смотреть на меня, как на что-то принадлежавшее ей одной, ее полную собственность, что с того, что эта собственность внезапно взбунтовалась, предпочла некоторую самостоятельность! Ничего, поершится, поживет отдельно от семьи, обо всем поразмыслит и поймет, что к чему. Вот тогда-то все вернется на круги своя…
А я взял и женился. Мила взвилась. Не могу отыскать другого слова, именно взвилась, в ней долго накипало раздражение, и в конце концов она выкинула такой вот номер: сперва заявила, что не желает, чтобы я виделся с Юркой, потом огорошила признанием – Юрка не мой сын…
Как говорится, хоть стой, хоть падай…
Почему я женился на Нате? Моя мать спросила меня, я ответил:
– С нею сравнительно легко…
Мать сказала:
– Так не говорят, когда любят.
Я ответил, что она живет устаревшими категориями, что есть множество великолепных вещей, кроме любви и счастья, которые украшают жизнь, делают ее вполне приемлемой.
И когда имеется налицо умение приспосабливаться, так называемая совместимость, то это, право же, не хуже пылкой любви. Даже я бы так сказал:
– Чем более пылкой была любовь, тем скорее она гаснет, а совместимость, приспосабливаемость друг к другу остаются порой надолго.
У Наты, как мне думается, только один недостаток: она считает, что все вокруг пламенно и страстно влюблены в нее. Поначалу меня это смешило, даже немного трогало, потом стало раздражать. Быть до такой степени упоенной собой, покоряющей всех, кто бы ни встретился ей на пути…
Но ничего не поделаешь, она вполне серьезно считает себя неотразимой.
Это свойство значительно облегчает ей жизнь, но является несносным для меня. Впрочем, при всем при том Ната человек и в самом деле легкий, незлой, к тому же хорошая хозяйка. Чего же еще требовалось от жены?..
Ловлю себя на том, что невольно подсмеиваюсь над самим собой: было время, когда я страстно влюбился, без мыслей, без рассуждений. Прошли годы, и пылкую любовь заменили трезвые, рациональные рассуждения.
Странно это все, до того странно…
Юрка знает, что я женился. Однако, тактичный от природы, он не выкажет своих личных чувств, даже познакомившись с Натой, он будет корректен и сдержан. Ната тоже, наверное, останется верна привычному своему добродушию, и все пройдет, как говорится, на высшем уровне.
Я уехал в Пермь на другой день после встречи с Юркой.
Самолет уходил очень рано, перед тем как сесть в самолет, я позвонил Юрке, он собирался в школу.
– Откуда ты, па? – закричал Юрка. – Неужели уже добрался до Перми?
– Еще нет, – ответил я. – Говорю с аэродрома.
– Из Домодедова? – спросил он.
– Так точно.
– Па, – сказал Юрка, – когда приедешь, поедем вместе в Домодедово, я ведь никогда еще не видел этого аэродрома…
– Поедем, – сказал я.
– Ну, счастливого пути, – сказал Юрка. – Мне пора…
– Счастливо, – ответил я и повесил трубку. И подумал:
«Интересно, была ли Мила дома? Да, наверное, была, она уходит позднее Юрки, значит, она слышала наш разговор. Ну и пускай. Пусть знает, что я не откажусь от него. Ни за что и никогда не откажусь…»
Я позвонил ему из Перми, как мы и договорились, спустя четыре дня, в три часа. Он сразу же ответил.
– Я знал, что это ты…
Голос Юрки словно бы коснулся самого моего сердца. Мальчик мой, он ждал, что я позвоню…
– Как ты? – спросил я.
– Все нормально. Когда приедешь?
– Еще точно не знаю. Постараюсь поскорее.
– Я получил по математике «пять», – сказал Юрка. – Первая пятерка за весь год!
– Хорошо бы, если бы и не последняя, – сказал я.
Он согласился со мной:
– Конечно, хорошо.
Он замолчал. Я позвал его:
– Алло, ты где, Юра?
– Я здесь, – чуть помедлив, ответил он.
– Мне показалось, что ты куда-то пропал.
Он спросил, как мне показалось, с некоторым не присущим ему вызовом:
– Ты доволен, что я получил по математике пятерку?
Мне показалось, что он с каким-то особенным интересом ждет моего ответа.
– Конечно, доволен, – ответил я. – Ты еще можешь сомневаться?
– Нет, я тоже думаю, что ты доволен, – сказал Юрка и снова спросил: – Скоро приедешь?
– Скоро. Ты один дома?
Я спросил и тут же глянул на часы, нет, вроде бы Миле еще рано быть дома…
– Мама только что пришла, – сказал Юрка. – Ей надо ехать в управление, и она приехала домой переодеться…
Он понизил голос, сказал совершенно так, как иной раз говорил я:
– Ты же знаешь, эти женщины, вечно им надо причепуриться, куда бы они ни шли – в булочную, в баню или на работу!
– Это точно, – согласился я. – Верно подмечено. Передай привет маме.
– Непременно, – пообещал Юрка. – У тебя как, монеты еще не кончились?
– На исходе, – ответил я.
– Надо было взять у меня тогда два пятиалтынных, – сказал он. – Хватило бы еще на минуту…
По его голосу я понял, что он улыбается.
– Хотя, с другой стороны, – продолжал он, – что можно сказать за минуту?
– Очень многое, – промолвил я. – Разве не так?
– Приезжай поскорее, – сказал Юрка. – Слышишь?
– Слышу, – ответил я. – Постараюсь выполнить твое желание. Я скучаю по тебе.
Он сказал:
– Я тоже.
И тут наш разговор мгновенно окончился, монет у меня больше не было, и я даже не успел спросить, слышит ли Мила, что мы говорим; впрочем, нет, я бы не стал спрашивать о ней.
Я вышел из здания телеграфа. Было дождливо, пасмурно, но в душе у меня жила радость: он ждет меня. Скучает по мне. Вот так вот сам и признался, я его ни о чем не спрашивал, не тянул из него какие бы то ни было слова.
Он два раза спросил, когда я приеду, и сказал: «Приезжай скорее».
И, когда я сказал, что скучаю по нему, он ответил: «Я тоже».
Вот так. Я знаю его с первого дня. Знаю, как мне думается, все или почти все о нем. Он не любит кривить душой, лгать, притворяться. Не любит и не умеет. Стало быть, то, что он сказал, – чистая правда.
Интересно, подумал я, раз Мила дома, она, выходит, слышала наш разговор? Как она отнеслась к нему? Хватило ли у нее ума не вмешиваться, потому что поняла, что Юрка был и останется моим сыном, что бы она ни говорила…
Проехал мимо автобус, обдав меня брызгами воды.
Юрка сказал бы: «Словно кит выбросил фонтанчик…»
Почему это так получается, что бы я ни видел, о чем бы ни думал, все мои мысли прежде всего связаны с ним, только с ним…
Сумской, мамин друг, сказал мне однажды:
– В тебе, Игорь, сильно развито материнское начало…
Я неподдельно удивился:
– Материнское? Наверно, вы хотели сказать – отцовское?
– Я сказал то, что хотел сказать, – ответил он. – Именно материнское, признаться, мне это представляется несколько необычным для нормального современного мужчины. Ведь не будем скрывать друг от друга, для тебя самый дорогой на свете человек – твой сын. Верно?
– Верно, – ответил я.
Я подходил к моей гостинице, и вдруг внезапная мысль поразила меня: почему Юрка спросил, доволен ли я, что он получил по математике пятерку?
Неужели он что-то заподозрил? Или Мила ни с того ни с сего решилась рассказать ему? Или он где-то что-то услышал?
Я тут же оспорил самого себя. В самом деле, скоро и вправду стану полным психом, стараюсь видеть черные пятна на светлом небосводе. Он спросил меня просто потому, что, наверное, ему показалось, я не так радостно реагировал на эту самую пятерку. Вот и все, и ничего больше. Ровным счетом ничего…
Я прилетел в Москву в пятницу вечером. Днем я позвонил Нате на работу, предупредил, что я приезжаю.
– А я без тебя сделала ремонт, – весело проговорила Ната в трубку. – Нашла мастера, и он провернул весь ремонт за неделю. Похвали меня, слышишь?
– Молодчина, – сказал я, подумав при этом: «Сейчас скажет, что этот мастер влюбился в нее, а потому и постарался сделать ремонт побыстрее и получше…»
– Пироги утром тебе поджарила во фритюре, твои любимые, с картошкой и с луком, – сказала Ната. – Глинтвейн сделала, как ты любишь, с изюмом, с пряностями и с лимонной цедрой…
– Молодчина, – одобрил я ее еще раз.
Сидя в самолете, глядя в окно на курчавые белые облака, похожие на взбитые сливки, я думал о том, что, кажется, с Натой мне повезло, добродушна, превосходная хозяйка, по-моему, любит меня, мне с ней легко, необременительно, чего еще желать можно?
Так думал я, а потом мне вспомнились мамины слова:
– Когда любят, так не говорят…
Что ж, я не спорю, может быть, так оно и есть. Когда-то я любил, да, любил по-настоящему, так, как, наверное, уже никогда любить не буду. Зато теперь мне спокойно и уютно, словно в дождь под надежной крышей, возле теплой печки.
И Нате хорошо, не сомневаюсь. Одним словом, как я уже говорил как-то, кроме любви и счастья, есть на свете множество вещей, способных украсить жизнь. В общем, и так жить можно. Совсем даже неплохо…
Комната поразила меня блеском свежепобеленного потолка, нарядными обоями, блистающим, покрытым лаком паркетом. На столе в голубой миске лежали большие, упоительно пахнувшие жареные пирожки с картошкой и с луком, в хрустальном графине искрился темно-рубиновый глинтвейн.
– Как? – спросила меня Ната, обводя вокруг себя рукой. – Хорош ремонтик?
– Очень хорош, – искренне ответил я. – Только знаешь что…
– Что? – испуганно спросила она. – Тебе не нравятся обои? Да? Я боялась, что они покажутся тебе чересчур вызывающими.
– Да нет, обои прекрасные, – успокоил я Нату. – Просто я хотел сказать, что, может быть, и не к чему было затевать весь этот сыр-бор, ведь в новом году нам должны дать новую и, заметь, отдельную квартиру.
Ната махнула рукой.
– Пока дадут, сколько воды утечет…
– Мне обещали твердо, – сказал я.
– Ничего, пусть хотя бы несколько месяцев будем жить не в грязи и запущенности, а в чистоте и блеске, – сказала Ната.
– Откуда ты деньги взяла на ремонт? – спросил я. – Должно быть, вся эта красота совсем не дешево стоит.
Ната улыбнулась.
– Представь, я очаровала заведующего ремонтной мастерской, и он сделал смету, самую что ни на есть дешевую. Он так и сказал:
– Только для вас стараюсь, для одной лишь вас…
Ната оставалась верна себе. Но на этот раз ее невинное, в сущности, хвастовство не раздражало меня, и я даже не воспользовался возможностью малость поехидничать над нею и над ее непобедимыми чарами.
Все-таки она старалась для меня, и я не мог не оценить ее стараний. Даже если бы и хотел, все равно не мог бы…
И еще я подумал, что мама наверняка сказала бы:
– Когда любят, то думают иначе…
…Этот день я, наверное, никогда не забуду. Должно быть, до конца дней буду помнить все-все – и дождливый рассвет за окном, и быстрые тучи, бежавшие по небу, и запах кофе, который варила Ната, и телефонный звонок в коридоре.
– Кто там надрывается изо всех сил? – сказала Ната, внеся в комнату тарелку с аппетитно поджаренными гренками. – Наверно, к Тусе…
Туся, самая легкомысленная обитательница нашего переулка, проживает в соседней комнате, и ей с утра до вечера звонят различные кавалеры разнообразных возрастов – от семнадцати до, кажется, семидесяти. Туся работает кассиром в сберкассе, имеет в наличии двадцать один год, огромную белокурую гриву, хорошо намазанные глаза и по общему признанию является необыкновенно сексапильной.
– Да, – сказал я. – Не иначе опять Тусю, скоро ее начнут вызванивать даже ночью…
Но в эту самую минуту не кто иной, как Туся, постучала в нашу дверь и позвала меня:
– Игорь Алексеевич, вас к телефону…
Я пожал плечами, переглянулся с Натой. Кому это я мог понадобиться в такую рань?
Быстро накинул на себя пиджак, натянул брюки, вышел в коридор, взял трубку. И вдруг задыхающийся незнакомый голос:
– С Юркой плохо, Игорь…
Сперва я ничего не понял.
– Что? Кто говорит? С каким Юркой?
И Мила, это был ее не узнанный мною, внезапно изменившийся голос, закричала в трубку:
– С Юркой, с нашим сыном плохо, понял?
Но я уже бросил трубку, сорвал с вешалки возле своих дверей плащ.
Помню встревоженные глаза Наты, ее вдруг побледневшее лицо.
– Гарик, милый, что случилось?
– Потом, – отмахнулся я и выбежал на улицу.
И надо же так, чтобы в эту самую минуту мимо нашего подъезда проезжало такси с зеленым огоньком. Я махнул рукой, машина остановилась, я вскочил в машину, крикнул: «Сокольники» – и откинулся назад.
«С Юркой плохо».
Слова Милы бились, стучали, горели в моем мозгу. Что такое? Почему плохо? Жив ли он? Или нет, уже нет? Не может этого быть! А почему не может?..
И в то же время в бешеные, взъерошенные мои мысли вклинились еще два Милиных слова:
«Нашим сыном…»
Стало быть, что же, она сама себя опровергла? И он мой сын? Или нет? Когда же она лгала, а когда говорила правду?
Красная кнопка вызова лифта не гасла, лифт был, очевидно, занят. Я не стал ждать, кинулся по лестнице наверх, на пятый этаж. Дверь квартиры была открыта, Мила стояла в дверях.
– Что? – выдохнул я. – Он жив?
Она заговорила быстро, возбужденно:
– Жив, жив. Только что позвонили из больницы, я тут же позвонила тебе, но тебя уже не было…
– Из какой больницы? – спросил я.
– Из сто пятой. Его увезли в пятом часу и уже сделали операцию аппендицита.
– Он жив? – снова спросил я.
– Жив, жив, – ответила Мила. – А почему мы здесь стоим? Пойдем в комнату…
Я прошел вслед за ней и закрыл за собой дверь. Все было как во сне, как будто бы достоверно, правдиво и в то же время необычно. Горела лампа в коридоре, на полу под вешалкой валялась Юркина куртка, синяя с красными полосками на плечах. Я поднял куртку, повесил на крючок. От куртки пахло дождем, сыростью, осенними горьковатыми листьями…
– Говори же наконец, – сказал я. – Как это все было?..
Мила села за стол напротив меня, вынула сигарету из пачки, лежавшей на столе, закурила. Протянула мне пачку, и я тоже взял сигарету, решил закурить, хотя дал матери самое честное слово, что брошу курить, и уже не курил целых четыре дня.
– Он разбудил меня около четырех, – начала Мила, глубоко затягиваясь. – Такие были боли в животе, что уже не мог больше терпеть. Я сразу догадалась, наверное, аппендицит.
– А не что-то другое?
– Могло оказаться и чем-то другим, само собой. Но все-таки я почему-то сразу подумала – аппендицит. Оказалось, живот у него заболел примерно в два часа ночи, но он не хотел меня будить.
Мила с силой придавила недокуренную сигарету о дно пепельницы. По щекам ее покатились слезы.
– Бедняга, подумай только, он жалел меня, мучился, но не стал будить, думал, пройдет, и так целых два часа…
«Целых два часа, – подумал я. – Сто двадцать минут непрерывных, всевозрастающих мучений. Кругом ночь, тишина, мрак, и только, кажется, он один на всем белом свете не спит, страдает и в то же время, жалея мать, не хочет прервать ее сон…»
Какой же он у меня сильный и великодушный!
Он казался мне маленьким, по-мальчишески неразумным, даже в чем-то беспомощным, а оказалось, что я проглядел его, он вырос незаметно для меня, вдруг возмужал, стал мужчиной…
Я осознал разом, что мне решительно, безусловно все равно, сказала тогда Мила правду или солгала. Плевать мне на все слова, какие бы они ни были – плохие, хорошие, добрые, злые.
Только бы Юрка остался жив. Больше я не желал ничего.
Мила прикурила новую сигарету от моей.
– Боюсь звонить, – сказала она.
– Кому звонить? – спросил я.
– Хирургу. Тому, кто его прооперировал. Мне сказали, что он будет в половине восьмого в своем кабинете. А я боюсь…
– Тебе же сказали, что все прошло хорошо, – сказал я.
По щекам ее снова покатились слезы.
– Ну не надо, – сказал я. – Ну перестань…
Я подвинул свой стул, сел рядом с нею.
– Все равно боюсь, – прошептала она. – Вдруг что-то случилось, какое-то осложнение, бывает же так, разве нет?
– Не надо, Мила, – сказал я, осторожно погладив ее по голове. Она молча ткнулась мокрым, заплаканным лицом в мое плечо. И мне почудилось на миг, что рядом со мной та, впервые увиденная, тоненькая, не очень красивая девочка, с которой я когда-то познакомился на пляже…
Вдруг вспомнилось все, что было тогда, все, что, как я полагал, давным-давно позабыто, прошло, сгинуло…
Я вновь ощутил себя молодым, сутуловатым от худобы и чересчур высокого роста, шагающим рядом с Милой по тихим, памятным с детства замоскворецким переулкам: в памяти ожил тот давний дождливый вечер, когда мы возвращались из Нескучного сада и я провожал Милу до ее дома в Старомонетном переулке.
Тогда, как мне думалось, решилось все: мы договорились больше не встречаться.
– Никогда и ни за что, – сказала Мила, и я повторил:
– Никогда!
Лил дождь как из ведра, шумели деревья, каштановые волосы Милы стали влажными, потемнели от дождя. Я довел ее до дома, повернулся, побежал к себе, на проспект Мира. Мне казалось, что она так и осталась стоять возле своего дома и, несмотря на дождь, глядит мне вслед и ждет, ждет меня…
И тогда я не выдержал, обернулся. Нет, ее не было, и я побежал дальше, я бежал, не разбирая дороги, по лужам, дождь хлестал меня по голове, по плечам, я бежал, повторяя про себя:
– Никогда ни за что…
А ведь что, собственно, произошло? Я приревновал ее, потому что сам не ожидал, что окажусь до того ревнивым, и было бы к кому ревновать, а то к Сережке Соболеву, испытанному дураку, на которого ни одна девушка не смотрела серьезно. И вдруг она, моя Мила, танцевала с ним подряд все танцы на танцплощадке парка культуры…
Неужели он ей понравился в самом деле? Или она просто хотела меня подразнить? В таком случае почему же она согласилась со мной? Почему повторила те же самые страшные слова «никогда», «ни за что»?
Утром, очень рано, еще все вокруг спали, я прибежал обратно на Старомонетный, стал прохаживаться по тротуару. Я решил: буду ходить все время до тех пор, пока она не выйдет, мне казалось, что мы объяснились не до конца, мы не должны, не смеем вот так проститься, так нельзя, невозможно, недопустимо…
Я повторял про себя все, что хотел сказать ей, я спрашивал, отвечал за нее, спорил, ругался, негодовал, ярился и снова менял гнев на милость, как вдруг она выскочила из дверей, как раз тогда, когда я меньше всего ожидал увидеть ее, в этот самый момент я доказывал ей, что она не права, что я ее знать не желаю, что никогда больше даже головы не поверну в ее сторону, и вот она выскочила из дверей, увидела меня, подбежала ко мне, ткнулась лицом в мое плечо. Все, что я говорил ей, все мысленные и действительные слова, все было позабыто. Я ничего, никого не видел, никого не хотел знать; приподняв обеими руками ее голову, я смотрел в безбоязненно повернутое ко мне лицо, в круглые, испуганные, чуть косящие глаза…
…– Боюсь звонить, – сказала Мила, сдвинув темные, недлинные, с изломом брови (точно такие же брови у Юрки). – Боюсь…
Я спросил:
– Хочешь, я позвоню?
– Да, – ответила она, – хочу.
– Давай номер.
Я набрал номер. Мила стояла сзади меня, я слышал ее тяжелое дыхание.
– Слушаю, – сказал жесткий мужской голос.
Я назвал себя. Спросил, стараясь, чтобы голос мой звучал по возможности спокойно, как здоровье Юры Куприянова, моего сына, мальчика четырнадцати лет и четырех месяцев от роду, того самого…
– Понятно, – прервал меня голос. – А то я не знаю, кто такой Юра. Все будет в порядке, можете не волноваться.
– Все будет в порядке? – переспросил я.
Милины пальцы крепко сжали мое плечо.
– Правда? – спросила она. – Пусть даст честное слово!
Я не успел ничего сказать дальше. Голос продолжал:
– Все идет так, как следует. Принесите ему клюквенный морс…
– А еще что? – спросил я. Он ответил торопливо:
– Больше ничего не надо. А сейчас, простите, мне некогда, есть еще больные, кроме вашего сына…
В трубке щелкнуло, короткие гудки закололи ухо, но в этот момент они казались мне поистине райской музыкой.
Я повернулся к Миле.
– Слыхала? Все в порядке…
В ответ она снова заплакала, но уже громче, в голос.
Я закричал на нее:
– Перестань! Немедленно перестань, сию же минуту! Как тебе не совестно? Все хорошо, он жив, все позади, и он скоро будет совершенно здоров, а ты плачешь…
Мила совсем по-детски (так делал Юрка в детстве) крепко-накрепко вытерла ладонью глаза.
– Я знаю, все хорошо, но, как вспомню, что с ним было, что ему досталось, не могу…
И она опять заплакала, еще горше, хотя самое страшное было позади. Уже позади. И он остался жив, и мы знали, что скоро он снова будет дома…
Я не стал ее больше уговаривать. Пусть выплачется хорошенько…
И в самом деле, рыдания Милы стали затихать, потом окончательно замолкли. Мила взяла полотенце, вытерла им глаза и щеки.
– Ну как? – спросил я. – Уже приходишь в себя?
– Вроде, – ответила Мила.
– Доктор сказал, что ему нужен клюквенный морс, а больше пока что ничего, – заметил я.
Мила прерывисто вздохнула.
– Сегодня сделаю ему морс.
– А у тебя клюква есть?
– Нет, – спохватилась она. – В самом деле, у меня же нет клюквы, ни единой ягодки.
– Тогда я сейчас побегу на рынок, куплю клюкву.
– Иди, – сказала Мила. – Сядешь на троллейбус возле нашего дома и прямиком до Преображенского рынка, там всегда есть клюква, в любое время года.
– Дай какую-нибудь сумку, – сказал я.
– Возьми.
Мила сняла висевшую между окнами на крючке вязаную кошелку.
– Может быть, еще что-нибудь купишь? Например, апельсиновый сок?
– Доктор сказал, что, кроме клюквенного морса, ничего нельзя.
– Это сегодня, – резонно заметила Мила. – А скажем, через два-три дня?
– Тоже верно. Значит, апельсиновый сок? Сколько банок?
– Хватит две, – ответила Мила. – А если не будет апельсинового сока, купи виноградный, хотя Юрка любит апельсиновый и совершенно не выносит виноградного.








