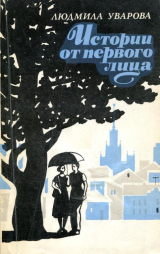
Текст книги "Истории от первого лица (Повести. Рассказы)"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
НА ДНЯХ ИЛИ РАНЬШЕ
БАБУШКАЭто он придумал, Юрка, мой внук, – повесить на дерево бумажки с написанными на них желаниями.
Утром, проснувшись, я привычно глянула в окно, но поначалу ничего не поняла. Что-то белеет на ветвях тополя, растущего под окном, а что, не пойму никак. Я не поленилась, сбежала вниз, подпрыгнула, сорвала одну бумажку. Так и есть, Юркин почерк, круглые, небрежно склоненные в одну сторону буквы Б с высокой закорючкой, а у К загогулина длинная, похожая на кнут.
«Чтобы к будущему лету у меня был гоночный велосипед».
Я знаю, это его мечта, но мне до того не хочется, чтобы она осуществилась…
Одна надежда, что и к этой мечте он так же охладеет, как и ко всем предыдущим своим мечтам и желаниям.
Он в отца, такая же неровная, увлекающаяся, импульсивная натура.
Что касается бумажек с желаниями, то меня, признаться, они немало удивили. Вот уж чего никак не ожидала от такого большого мальчика! Или это просто-напросто очередная игра? Ведь он наверняка мог предполагать, что я увижу эти самые бумажки, и все это сделал лишь для того, чтобы подразнить меня?..
Как-то, в очередную субботу, он приехал ко мне с ночевкой, и мы с ним вместе смотрели по телевизору передачу «Баварские сказки». Там некий мальчик вешал на дерево бумажки с желаниями, а по ночам, когда он спал, являлись из-под земли гномы, снимали бумажки с дерева и выполняли желания мальчика.
– Хорошо устроился парень, – сказал тогда Юрка.
Я согласилась с ним:
– Само собой, неплохо.
– Только не пойму, – сказал Юрка, – как это он не боялся, что ветер сдует эти самые бумажки?
– Он их, наверное, навертел на ветки.
– Как навертел? – спросил Юрка.
– Очень просто, нарезал бумагу длинными полосками и обернул ими ветки, может быть, даже прикрепил булавками, получилось совсем как папильотки.
– Что это такое – папильотки? – удивился Юрка. – Какое смешное слово!
Я подумала о том, как быстро, стремительно меняется время, многие новые слова врываются в наш обиходный язык, зато иные старые слова вдруг навсегда, прочно отмирают и уже кажутся незнакомыми, даже смешными для современного уха…
Я стала терпеливо пояснять Юрке:
– Папильотки – это такие бумажки, которые женщины навертывают на волосы, чтобы волосы становились кудрявыми…
– По-моему, прямые волосы куда красивее, – сказал Юрка. – Я, например, терпеть не могу такие вот овечьи кудряшки у некоторых девчонок…
– Когда-то, в давние времена, кудри считались верхом моды, – сказала я.
– Значит, ты тоже навертывала волосы на эти самые папильотки? – удивился Юрка.
– Тоже, когда была молодая…
Я заметила удивленный взгляд, который Юрка бросил на меня. Должно быть, никак не может вообразить меня молодой.
– А может быть, куда проще было бы, если уж ты так хотела, навертеть волосы на бигуди? – спросил Юрка.
– Когда я была молодая, их еще и в помине не было, – ответила я. – Тогда у женщин в ходу были именно папильотки.
– Выходит, этот парень из сказки собезьянничал у женщин? – заметил Юрка и добавил: – Надо будет посоветовать маме накручивать волосы на папильотки вместо бигуди. Она иногда ложится спать с бигуди в волосах, и я всякий раз думаю, неужели ей удобно спать на таких вот железках?
– Теперь папильотки уже давно не в моде, – сказала я.
– Почему? – спросил Юрка. – Ведь с ними, как я понимаю, куда удобнее.
Я сказала:
– Мода – штука капризная и не всегда понятная. Так говорит обычно мой друг Сумской.
Но Юрка не согласился со мной.
– Мода всецело зависит от людей, как люди решат, так и будет…
Может быть, именно тогда он и решил попробовать накрутить эти самые папильотки на ветки дерева…
Я подпрыгнула, сорвала еще две бумажки. На одной было написано: «Хочу живого дельфина», на другой: «Хочу в Австралию или на Азорские острова, все равно».
Меня особенно умилило это «все равно».
«Какой же он, в сущности, ребенок», – с удовольствием подумала я. Ведь не секрет, что мы, взрослые, любим, чтобы наши дети подольше оставались детьми…
Я снова повесила бумажки на дерево, пусть, подумала я, он не знает, что я читала. Пусть сказка продолжается хотя бы еще немного…
Юрке четырнадцать лет. Примерно с трех до семи он жил у меня; когда время пришло учиться в школе, родители забрали его к себе.
Но ему недолго довелось прожить вместе с отцом и с матерью. Вскоре они разошлись, разменяли свою двухкомнатную малогабаритную квартиру, сын переехал в коммуналку, где ему в результате обмена выделили комнату, что-то около десяти метров, а невестка с Юркой получила маленькую однокомнатную квартиру в Сокольниках. И я, чтобы быть ближе к Юрке, сменяла Тушино на Красносельскую, потеряв при этом шесть метров: у меня была комната в девятнадцать метров, а теперь около тринадцати. Ну что ж, зато я могу часто видеться с Юркой, а в субботу он приходит ко мне с ночевкой и остается вплоть до воскресенья. Само собой, так будет продолжаться недолго, в конце концов с годами у него появятся другие интересы, и это вполне естественно, и все-таки пока что он приходит, и это всегда радость для меня…
Я никогда ни во что не вмешивалась, тем более в отношения Игоря и невестки, не держала ни его, ни ее сторону, может быть, потому я не потеряла сына и сохранила пристойные отношения с невесткой.
Когда-то, тому уже скоро пятнадцать лет, Игорь захотел жениться на Миле. Она мне не очень понравилась, ну и что с того? Лишь бы ему была по душе.
Помню, Игорь впервые привел ее ко мне. Рыжеватая, очень худенькая, с острым треугольным личиком и неясно намеченными бровями, она протянула немного влажную руку, тихо произнесла:
– Мила…
Какая же она была несмелая, конфузливая! Как легко вспыхивали смущенным румянцем ее щеки, серенькие глаза, туманясь, скользили в сторону.
Сын говорил:
– Мила очень застенчива…
Должно быть, ему это нравилось, он считал ее застенчивость непременной прерогативой женственной слабости, столь отрадной мужскому сердцу.
Но постепенно Мила начала все больше набирать силы и смелости и спустя каких-нибудь два-три года стала совсем иной, уверенной в себе, снисходительно-небрежной, насмешливой.
Безусловно умная, откровенно некрасивая, она страстно желала казаться смазливой дурочкой, слабой, беспомощной, даже в чем-то нелепой, но привлекательной в глазах этих чертовых мужиков…
Увы! Чего нет, того нет и в помине не было. Мужчины говорили ей всякие громко звучащие слова вроде: «Ваш острый ум», «Ваши всеми признаваемые деловые качества», но бегали за девчонками, которые по уму ей и в подметки не годились. Зато обладали мордашкой, умели кокетничать и нравиться.
Но, несмотря ни на что, Мила ни капельки не чувствует себя обделенной или в чем-то униженной. Кроме того, она начисто лишена каких бы то ни было комплексов. Может быть, этому немало способствует то, что Мила заслуженно считается превосходным специалистом: она модельер современной одежды, работает в Доме моделей, где ее все уважают и с ее мнением считаются. Мой старинный друг Сумской сказал про нее однажды:
– Мила не промах, умеет чувствовать конъюнктуру и предвидеть перспективу.
– Что это значит? – спросила я. – Откуда такая железно-непререкаемая формулировка?
– Станешь старше – поймешь, – ответил он.
Мы с ним дружим, должно быть, лет сорок пять, а то и все полсотни. Некогда жили по соседству, ходили в одну и ту же школу, только в разные классы, я поступила в первый класс «А», а он в первый «Б»; вместе бегали на каток, на Петровку, 26, ездили в один и тот же пионерский лагерь, на Истру, неподалеку от Нового Иерусалима.
Одно время мне казалось, что я влюблена в него, но он как-то признался, что собирается жениться.
Так и сказал:
– Ты, как мой друг, должна знать об этом самой первой.
Я весело согласилась:
– А как же!
В скором времени он женился на балерине из театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, этакой длинноногой рыжеволосой деве с загадочно мерцающими продолговатыми глазами, похожей на египтянку.
Я от души пожелала им счастья, я не сомневалась, что Сумской окажется превосходным мужем, правда, разумеется, я не могла себе представить, какой женой будет его избранница.
А они оба, неожиданно для всех, сумели хорошо ужиться. И любили друг друга, родили двух сыновей.
Я нечасто бывала у них, но все же порой они приглашали меня на семейные праздники. Правда, почему-то одну, без мужа. Я вышла замуж поздно, и, по-моему, Сумскому не нравился мой муж. Впрочем, это уже совсем другая история, к моему рассказу не имеющая решительно никакого отношения.
Бывая у них, я нередко думала:
«Вот подлинно счастливая семья!»
Но, как известно, стекло и счастье легко бьются. Все кончилось однажды, в недобрый сорок второй год. Оба сына погибли на фронте, один в январе, другой позднее, осенью, жена Сумского не сумела справиться со своим горем, умерла от инфаркта, в ту пору инфаркт назывался – разрыв сердца.
После смерти жены Сумской сменял свою отдельную двухкомнатную квартиру на комнату в коммуналке.
Рассказал мне после:
– Когда я дал объявление об обмене, то полагал, что на меня саранчой налетят жаждущие, начнут звонить с утра до вечера и с вечера до утра. И что же? Представь себе, целых два дня ни одного звонка. Ни единого. Как нарочно!
– Почему? – спросила я. Он ответил:
– Не верили, просто не могли своим глазам поверить, кое-кто считал даже, что это розыгрыш, не иначе, потому что разве может в самом деле найтись такой чудак, чтобы в полном уме и разуме захотеть поменять отдельное изолированное жилье на коммунальную обитель?
Потом, естественно, посыпались предложения, чуть ли не каждую минуту звонил телефон, и предлагались различные варианты для обмена…
– Как же ты сумел из множества предложений выбрать свой вариант? – спросила я.
– Очень просто.
Он вытянул вперед указательный палец.
– Видишь мой палец? Вот я ткнул этим самым пальцем в свой синодик – список адресов. Ткнул не глядя, наугад. Это была квартира в Колобовском переулке. Комната в пятнадцать метров, квадратная, кроме меня, еще четыре семьи, дом не то чтобы старинный, но все же постройки начала века, район, сама знаешь, отличный…
Мне неизвестна семья, которая сменялась с Сумским. Но могу себе представить радость, охватившую этих людей, когда некто предложил вот так вот, за здорово живешь, решительно безо всякой доплаты (я уверена, что Сумской не взял ни копейки) переехать в его квартиру.
Должно быть, его посчитали малость не в себе. Но ведь не расскажешь же всем, как трудно, невозможно жить в опустевшей квартире, где стены кричат и ни на минуту не дают позабыть о прошлом…
Сумской привязан к моему Юрке, приносит ему книги, часто беседует с ним, а о чем, признаться, не знаю, ни разу не прислушивалась. Приходя ко мне, он первым делом спрашивает:
– Где парень?
И заметно скучнеет, если Юрки нет у меня.
Может быть, Юрка напоминает ему одного из сыновей? Не знаю.
Он старается не вспоминать о сыновьях. Лишь однажды признался:
– Сегодня приснился мне Гога…
Гога – младший сын, и в самом деле Юрка чем-то неуловимо походит на него. Помолчал, добавил:
– Сколько ему было бы сейчас? Можешь себе представить – сорок. Старый, в сущности, мужик, а мне все видится совсем маленьким, вот этаким…
В моей памяти Гога тоже остался низкорослым, коренастым юношей с цыпками на руках, обветренными худыми щеками. Выгоревшие волосы надо лбом, глаза, не то серые, не то зеленые, от загара кажутся выцветшими, совершенно светлыми.
Наверное, и вправду справедливы слова:
«Мертвые остаются молодыми…»
Юрка любит Сумского; мне думается, Юрка вообще редко к кому плохо относится. Удивительно добросердечный и доверчивый мальчик. Правда, если уж невзлюбит, то всерьез, на всю, как выражается Игорь, железку. Ничем тогда его не уломать, ничем не растрогать.
Кроме того, он реактивен, очень вспыльчив, быстро вспыхивает, но зато так же быстро успокаивается.
Помнится, он тогда еще жил у меня, и было ему около пяти лет. Как-то перед сном я читала ему басню Крылова «Стрекоза и муравей». Внезапно он выхватил книжку из моих рук, стал яростно рвать страницы, одну за другой.
Вначале я даже испугалась: что такое с ребенком? Не тронулся ли ни с того ни с сего? Ведь и так может случиться…
А он рвал страницы в клочья и кричал:
– Ненавижу гадкого злюку! Не читай мне про него больше!
Потом все разъяснилось. Юрка разозлился на жадюгу муравья, который не пожелал накормить и обогреть бедную легкомысленную стрекозу.
– Вот увидишь, – категорически заявил Юрка, – стрекоза ему еще задаст так, как следует…
А спустя два дня сказал:
– Я тоже сочинил басню.
– Как называется твоя басня? – спросила я.
Он выждал многозначительную паузу.
– «Муравей и стрекоза».
И тут же начал лупить наизусть:
«Муравей стал старый, и ему было очень холодно в доме и нечего кушать, и он пошел искать стрекозу, потому что стрекоза жила в хорошем доме, в самом хорошем доме во всем городе, и у нее было много всего, всякой еды: и зефир, и вобла, и копченая колбаса, и лимонад. Муравей нашел стрекозу, а она спросила:
– Что тебе надо?
Потом как закричит:
– А ну, пошел вон!»
Юрка отчеканил все это в один присест, не переводя дыхания.
– Ну как? – спросил он.
Я улыбнулась.
– Почему ты смеешься? – возмущенно спросил он. – Чего тут такого смешного?
– Прежде всего, почему ты думаешь, что стрекоза должна любить зефир и воблу?
– Потому что я люблю зефир и воблу, – ответил Юрка.
– Это все понятно, но у стрекозы может быть другой вкус.
Он подумал немного.
– А как бы ты сказала?
– Я бы сказала просто: «У стрекозы было много еды».
– Что ж, – согласился он, – можно и так, бабкин. Но я еще посоветуюсь со стариком.
Отца он зовет старик. Меня – бабкин.
Это первое слово, произнесенное им, так я и осталась бабкиным до сих пор. И ничего, откликаюсь…
Валю Курганову, самую хорошенькую ученицу седьмых классов его школы, он прозвал Лошадь. Сперва все дивились, какая там лошадь, откуда, потом мало-помалу согласились с ним. В самом деле, эта высокая, как бы вытянутая вверх девочка с узкой породистой головой и длинной, до бровей челкой чем-то напоминает порывистую, горячих кровей лошадку. У Вали почти черные глаза, тонкий, с постоянно раздувающимися ноздрями нос, белые длинные зубы.
Ее уже никто не зовет по имени. Лошадь и Лошадь, и все тут.
Когда-то Валя обижалась, после привыкла. Если звонит Юрке и он спросит:
– Это кто, Лошадь?
Отвечает:
– Она самая…
Валины родители так же, как и Юркины, в разводе. Валя тоже живет с матерью, довольно редко видится с отцом. Однажды сказала о нем:
– Мне все равно, есть у меня отец или нет его…
Юрка признался мне, что она переживает за мать, за то, что отец внезапно, в один день, собрался и ушел из дома.
– Представь себе, бабкин, я спросил Лошадь, к кому ушел отец, она ответила: «Ни к кому, просто снял комнату и переехал туда и живет совершенно один».
Юрка пожал плечами.
– Тоже вроде нашего старика…
Юрка не осуждает отца, не допытывается ни у матери, ни у меня, почему они разошлись.
Он сохраняет полный нейтралитет. Ни о чем не расспрашивает, никого не осуждает и уж наверняка не стремится помирить родителей.
Внешне и Мила и Игорь остались в добрых отношениях.
Игорь шутит порой:
– Блюдем мир, как можем…
Иногда они все трое идут в кино – Мила, Игорь и Юрка. С виду вполне респектабельная, благополучная семья, идут рядом, беседуют, улыбаются друг другу. И после сеанса обедают вместе или в каком-либо ресторане, или у Милы.
Как-то и меня позвали в воскресенье к Миле на обед. Я немного опоздала, пришла, когда они уже сидели за столом, Юрка и Игорь, Мила подавала второе, накладывала в тарелки салат. Потом и сама села за стол. Мирно беседовали, шутили, Игорь рассказывал смешные анекдоты из жизни альпинистов, в юности он ходил пару раз в горы и потому считает себя опытным, бывалым альпинистом.
Потом он ушел, пожал Милину руку, поцеловал меня, хлопнул по плечу Юрку.
– Пошли, сын, проводи старика до метро…
Они вышли вместе. Мила стала убирать посуду, выносить ее на кухню. Я тоже собрала тарелки, дошла до стеклянной двери, ведущей на кухню, остановилась, вижу: Мила стоит спиной ко мне, плечи опущены. Вдруг почувствовала на спине мой взгляд, обернулась, весело улыбаясь, тряхнула волосами, заговорила о чем-то незначительном, о чем, я тут же позабыла.
Почему они разошлись, не знаю. И кто был инициатором развода, тоже не знаю. Кажется, все было решено вроде бы безболезненно и с согласия обоих.
Что ж, если так, тем лучше. Пусть будет меньше страданий, пусть…
Недавно мой сын снова женился. Опять, как в первый раз, не спросил меня, не посоветовался. Просто привел ее ко мне, познакомил:
– Это моя жена…
Ната – крепкая, приземистая, коренастая. Черные быстрые глаза, твердые щеки. Много курит, красиво затягиваясь и пуская изо рта быстро тающие колечки; как мне думается, добродушна и в меру покладиста.
Но одно плохо: она хвастлива, чересчур самоуверенна. То и дело говорит о своих успехах, поминутно цитирует высказывания мужчин, их комплименты и страстные признания:
– Еду в метро, а он напротив уселся, глаз с меня не спускает, такой чудак…
– Прямо не знаю, что делать, все глядят, я прохожу словно сквозь строй взглядов…
– Он говорит, я просто сна и отдыха лишился из-за вас…
– Дай ему эуноктин или другое снотворное, – сказал как-то мой сын. – Как же это можно не спать целыми сутками, не ровен час – ослабеет напрочь…
Ната приняла его слова всерьез. Спросила:
– Ты что, кажется, ревнуешь?
– Ни капельки, – ответил сын, как я поняла, совершенно искренне.
Игорь сказал мне один на один:
– Она меня устраивает, с ней в общем легко…
А она полагает, что он потерял голову от любви.
Должно быть, все-таки Игорю будет с ней спокойнее, чем с Милой. Она не такая колючая, не взбалмошная, если бы еще поменьше хвасталась своими победами, ей бы цены не было.
Она еще ни разу не видела Юрку. Как-то они отнесутся друг к другу? Понравятся ли? Впрочем, какое это все имеет значение? Вместе им все равно не жить.
…Это случилось на днях. Я собиралась ложиться спать, когда зазвонил телефон. Звонила Мила.
– Вы не спите?
– Еще нет, – ответила я. – Что случилось?
– Ничего такого, – сказала она.
– Юрка здоров? – спросила я и замерла, ожидая ответа.
– Здоров, – сказала Мила. – С ним все в порядке, не беспокойтесь.
У меня сразу отлегло от сердца. Юрка здоров, это самое главное, все остальное неважно.
– Я бы хотела, чтобы вы передали вашему сыну, чтобы он перестал ходить к нам, – сказала Мила.
Я переспросила:
– Что? Что ты сказала?
– Я не хочу, чтобы ваш сын продолжал ходить к нам, – сказала Мила.
– Почему? Что случилось?
– Ни почему. Ничего не случилось.
– Но все-таки? – не отставала я. – Все-таки, почему?
– Я так решила, – сказала Мила. – Я считаю, что больше нам ни к чему встречаться, ни мне с ним, ни Юрке.
Она помедлила и добавила:
– И к вам, полагаю, Юрке не к чему приходить, хватит!
– Мила, – воскликнула я, – помилуй, что ты говоришь?
В ответ я услышала короткие злые гудки. Разумеется, в эту ночь я ни на секунду не сомкнула глаз. Что с Милой? Какая муха ее укусила? Я едва дождалась утра, позвонила сыну. Он выслушал меня, усмехнулся.
– Что за чудачка, однако!
Я возмутилась:
– Ты еще смеешься!
– А что мне, плакать? – удивился он, и мне представилось, как он щурит свои темные, в смуглых веках глаза, чуть усмехаясь краешком рта, такого же, как у его покойного отца, как бы немного припухшего…
– Это все из-за того, что я женился, – сказал сын. – Посмел жениться без ее на то разрешения.
Я сказала:
– Не думаю, чтобы Мила хотела сойтись с тобой…
– И я не думаю, – согласился он. – Ее устраивал статус-кво, чтобы мы жили порознь и время от времени встречались, а вот менять что-то, не спросясь у нее, скажем, жизнь, – это уже никак не годится…
Признаюсь, его спокойный насмешливый голос успокоил меня, и я стала на все случившееся смотреть другими глазами. В самом деле, все это несерьезно. Сын поговорит с нею, объяснит все как есть и уговорит ее ничего не менять. И все останется так, как было. И Юрка по-прежнему будет приходить ко мне на субботу и воскресенье и встречаться с отцом, и Мила будет по-прежнему относиться ко мне и к Игорю в достаточной мере миролюбиво, чего же еще желать?..
Но нет, все оказалось совсем непросто и решительно неожиданно не только для меня, но и для Игоря.
Спустя два дня Игорь явился ко мне. Явился внезапно, не позвонив, что было решительно не в его правилах.
Я сидела дома, перепечатывала на машинке диссертацию некоего ученого мужа, пришедшего ко мне по рекомендации Сумского. Рукопись была трудная, все страницы исчерканы, множество помарок, кроме того, почерк неразборчивый, небрежный.
Я пыталась разобрать необычное слово, и тут в дверях раздался звонок. Должно быть, звонили не в первый раз, потому что звонок был долгий, настойчивый.
Я открыла дверь и увидела сына.
– Что, не ждала? – спросил он.
Прошел в комнату, сел в кресло напротив моего стола, вынул пачку сигарет, закурил.
Мне сразу показалось, что он явился неспроста и не знает, как начать разговор. Впрочем, подумала я, может быть, мне это только кажется…
Однако нет, мне это вовсе не показалось. Он выкурил сигарету, аккуратно погасил ее о дно пепельницы. Хотел было закурить другую, но я остановила его.
– Сделай передышку, не кури подряд.
– Хорошо, не буду, – покорно промолвил он, и вдруг эта покорность больно отозвалась в моем сердце. Я уже почти уверилась: что-то случилось, что, я еще не знаю, но ничего хорошего, это уж как пить дать.
И я не ошиблась.
Он посмотрел на меня и сказал негромко:
– Я только что от Милы.
– Вот как, – сказала я, – сам к ней решил пойти или она тебя вызвала?
– Не имеет значения, – ответил Игорь, и я мысленно согласилась с ним. В конце концов, в самом деле неважно, он ли пришел к ней по своей доброй воле, или она вызвала его к себе.
– Мила меня огорошила, – начал Игорь. – Можешь себе вообразить, она сказала, что Юрка не мой сын.
– Как не твой? А чей же?
Он не слушал меня.
– Не мой сын, может ли быть такое, посуди сама? Юрка, мой сын, оказывается, совсем не мой ребенок, а чужой навсегда и навеки!
Я подумала было, что Игорь шутит, потом глянула в его сильно побледневшее, словно разом осунувшееся лицо (и как это я сразу не заметила, что он изменился) и поняла: то, что он говорит, правда.
Нет, я не знала, не могла знать, сказала ли Мила правду, или это все было почему-то придумано ею. Но я поверила Игорю, что Мила произнесла именно эти самые слова.
– Она сошла с ума, – сказала я убежденно. – Честное слово, просто-напросто…
Он не слушал меня, хмуро сдвинув брови, барабанил пальцами по колену. Это была его давняя детская привычка: в минуты волнений хмуриться и барабанить пальцами по колену.
Потом он вынул новую сигарету, закурил, и я уже не пыталась остановить его. Пусть курит, пусть, если это может хотя бы в какой-то степени успокоить…
Машинально я выдвинула ящик стола, за которым сидела. И первое, что бросилось в глаза, Юрка, его лицо. Глядит на меня чуть исподлобья, губы полуоткрыты, между бровями залегла едва заметная складочка.
Эта карточка самая моя любимая. Сколько ему было тогда лет? Кажется, семь. Да, ровно семь и полтора месяца. В тот год он впервые пошел в школу.
До сих пор помнится мне день первого сентября, как бы пропахший ядреным, свежим запахом спелой антоновки и нежным ароматом цветов, которые несли школьники. И у нашего Юрки тоже в руках букет розовых гвоздик. Он держит букет крепко, слегка наклонив его, словно пику. Брови сдвинуты, глаза сосредоточенны и серьезны.
Он кивнул нам, провожавшим его, – мне, матери, отцу – и пошел к школе не оборачиваясь.
Мила сказала:
– Какой же он все-таки маленький…
– Ну, не такой уж маленький, – заметил Игорь.
– Нет, маленький, – упрямо повторила Мила, неожиданно слезы блеснули в ее глазах. – Наверно, он будет самым маленьким в классе, – с горестной убежденностью проговорила она. – Все будут обижать его, маленьких всегда обижают…
– Вот еще, – возмутился Игорь. – Уж ты скажешь…
Мне тоже захотелось плакать. Я представила себе на миг Юрку, самого маленького, беззащитного в классе, и силой заставила себя удержаться от слез.
А он все шел не оборачиваясь и скрылся в толпе школьников, которые, как и он, пришли в «первый раз в первый класс».
Потом случилось так, что все наши волнения и тревоги оказались напрасными. Уже с третьего класса Юрка начал безостановочно расти, к четырнадцати годам вымахал ростом чуть ли не выше Игоря, и я надеялась, что он не остановится: будет расти еще и еще.
Игорь говорил:
– Кем он станет, не знаю, но баскетболист, надо думать, получится из него отменный – радость команды и ее надежда…
Мила жаловалась, что не напасется на него рубашек, джинсов, обуви и трусов, почти мгновенно из всего вырастает.
…Игорь вынул новую сигарету. Я встала, открыла форточку. Мой немой, но в достаточной мере выразительный и красноречивый укор отрезвил Игоря.
– Прости, мама, – виновато сказал он. – Я тут надымил у тебя.
– Ты же обещал бросить курить. – напомнила я. – Где же твое слово?
– Брошу, – сказал он.
– Когда?
– Со временем.
Юрка обычно говорит: «Со временем или раньше».
Как хорошо, что Юрка не курит! Я знаю, он не обманывает меня, он бы признался, если бы курил. Но нет, не курит и не курил ни разу…
Он виделся мне в этот миг как живой, словно бы находился здесь, рядом, возле нас, знакомая до последней родинки – длинная, всегда загорелая шея, сильные мальчишеские руки, крупный рот, складочка между бровей, выгоревшая от солнца прядь надо лбом…
Казалось, он вплотную приблизился в этот миг ко мне, говорил что-то, хмурился я снова улыбался…
Рука об руку с Юркой я шла по дороге, ведущей назад, в прошлое. Я снова сидела рядом с ним за столом, он писал свои примеры и предложения, а я проверяла и находила ошибки, он злился и снова писал в тетради, и я опять проверяла то, что он написал.
Я провожала его на каток, кутала ему горло шарфом и знала, что, выйдя на улицу, он мгновенно сдернет шарф и быстро забудет все мои советы и наставления.
Он оказался превосходным баскетболистом – я ходила в спортзал тайно от Юрки поглядеть на него; и рыскала по всей Москве, искала ему подарок ко дню рождения; и навещала его, когда он болел, ставила ему горчичники на его сильную загорелую спину со знакомой, похожей на изюминку, темно-коричневой родинкой между лопатками; и кипятила ему молоко, а он незаметно выливал молоко в цветочный горшок.
Я спросила Игоря:
– Ты что, стал меньше любить своего сына?
– Меньше? – переспросил он.
– Ну да, меньше, после слов, которые сказала Мила?
– Я хочу знать правду, – ответил он.
– Правда одна, – сказала я. – Одна-единственная, справедливая и неделимая.
– Именно?
– Юрка был и остался твоим сыном, – сказала я. – Понял? Был и остался.
Он взял мою ладонь, прижал к своим губам, я кожей ощутила сухой, неровный жар век, шероховатость щек.
– Мама, – сказал Игорь, – что же мне делать? Скажи, что?
– Перестань! – строго заметила я. – Что это такое? Вдруг раскис, как желе, сам же учил Юрку никогда, ни при каких обстоятельствах не пищать! – Он опустил мою руку. Я повторила: – Юрка был и остался твоим сыном.
Он медленно покачал головой.
– Если бы это было так на самом деле…
– Это так, и только так и не иначе! – Я чувствовала, что голос мой звучит непререкаемо убежденно и строго. – Только так, и все! И хватит об этом. Слышишь?
– Слышу, – ответил Игорь. – Слышу, бабкин.
Он улыбнулся и вдруг, разом, в один миг стал казаться моложе. Много моложе.
– Конечно, бабкин, – сказала я. – Кто же я еще? Разумеется, бабкин, и никто другой…








