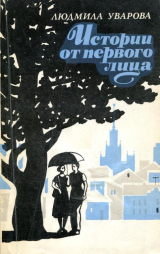
Текст книги "Истории от первого лица (Повести. Рассказы)"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Финансами он распоряжался умело, потому что, как я поняла по некоторым деталям, был в достаточной мере скареден, но старался скрыть свою скаредность и очень любил играть роль широкого бесхитростного парняги с душой нараспашку, которому ничего не жаль.
«Гуляй, Вася, деньги подешевели», – была его любимая поговорка, а на самом деле деньги для него вовсе не были дешевы, он знал им цену и умел считать каждый рубль.
Все это я поняла много позднее, а в ту пору он понравился мне: красив, остроумен, как будто бы не злой.
Правда, немного сентиментален, я заключила это потому, что он частенько плакал или в кино на просмотре душещипательного индийского фильма, или когда смотрел по телевизору трогательный спектакль.
Он рассказывал мне о том, что его отец разошелся с мамой, когда ему, Валентину, было пять лет, и при этом плакал, говоря, что ему до сих пор не хватает отца. Плакал он от жалости к самому себе.
Его мать считала, что он прежде всего прирожденный актер, по ее мнению, его актерские наклонности были незаурядны, он умел, что называется, вживаться в ту роль, которая представлялась ему наиболее для него интересной, то он притворялся рубахой-парнем, то этаким серьезным и упорным тружеником, не помышляющим ни о чем больше, как об учебе, то легкомысленным и веселым общим любимцем.
Следует отдать должное, в каждой роли он был по-своему искренен, каждой отдавался полностью, всей душой.
Но главное – он очень любил себя. И умел превосходно устраиваться. Мне еще ни разу не встретился человек, который умел бы так же уютно, с комфортом, по-хозяйски устраиваться в жизни, как Валентин.
Он знал, с кем стоит поболтать о пустяках, а кого подробнее расспросить о здоровье и самочувствии, кому достать последнюю книжную новинку, с кем пойти на хоккейный матч, кого пригласить в консерваторию, на концерт органной музыки, а кого в творческий клуб, на капустник.
Его непосредственность, природная веселость, наконец, врожденное обаяние служили ему верную службу, и он попадал в яблочко, кажется, еще ни разу не ошибся.
В одиннадцатый класс школы рабочей молодежи он перешел из десятилетки по зрелом размышлении, перво-наперво директором здесь был отец приятеля детства, с которым некогда вместе ходили в детский сад, стало быть, можно было надеяться, что отец приятеля поможет получить приличный аттестат, который предопределит дальнейшее восхождение – поможет поступить в вуз, потом, в отличие от нормальной школы, здесь было три свободных дня, можно было, как он говорил, заняться отхожим промыслом.
Он был трудолюбив, этого от него не отнимешь, целеустремлен и очень хотел поскорее встать на собственные ноги.
Ему помогли стать заместителем администратора творческого клуба, зарплата была небольшая, но он сумел завязать много полезных, нужных знакомств, кроме того, жил вместе с матерью на ее зарплату, свой заработок почти полностью откладывал на сберкнижку, копил деньги, чтобы купить автомашину.
Мы встречались с ним около года.
Право, не пойму, был ли он по-настоящему увлечен мною или ловко, умело играл, сумев, по своему обыкновению, вжиться в нужную для него роль.
Моя мама утверждала:
– Конечно, он был влюблен в тебя, как же иначе?
По мнению мамы, в меня невозможно не влюбиться, я не обвиняла ее, такова сила материнской слепоты.
Валентин, кроме того, ей нравился, ведь он обладал этим редким свойством – обаять любого, кого только пожелает, особенно пожилых дам.
Признавался мне со смехом:
– Я действую безошибочно на присущий им инстинкт материнства и еще на слезодавильную железу.
Он смеялся, а я злилась на него и говорила, что цинизм иссушает душу хуже ветра-суховея, который дует в степях Приазовья.
Однако я и цинизм прощала ему. Прощала известное потребительство, даже его лицемерие. Мне казалось, это все наносное, пройдет со временем, в конце концов кто же без недостатков?
Я верила, что так оно и есть. Потому что хотела верить.
И он понимал, что я хочу верить. У него все, как есть, было математически точно выверено и взвешено.
Теперь, когда прошло уже какое-то время с той поры, я поняла все то, что следовало тогда понять.
Перед окончанием им школы я сумела переговорить со всеми моими коллегами и членами педсовета.
К нему отнеслись снисходительно, хотя, надо отдать должное, он занимался день и ночь и в конце концов получил приличный аттестат. Дальнейшее уже зависело только от него – сдать экзамены в институт международных отношений.
Он сказал мне:
– Я должен во что бы то ни стало поступить! У меня больше нет времени!
– Почему нет? – спросила я.
– Потому… что, если провалюсь, меня забреют в армию.
– Ну и что с того? – сказала я. – У меня двоюродный брат служил два года в армии, вернулся поздоровевшим, крепким и прошлой осенью снова поступил в свой институт, в тот, в который хотел поступить…
Валентин без улыбки, пристально оглядел меня.
– Ты что, – спросил он, – ты это серьезно?
– Вполне серьезно, – ответила я.
– В таком случае, – сказал он, – ты до ужаса простая.
– В каком смысле простая? – спросила я.
– В любом. Простая, как мычанье.
Я хотела было обидеться, но передумала, хотя слова его все-таки запали мне в душу. Стало быть, я простая, как мычанье?
Допустим. А какой же сложности он? Второй, третьей или какой-то сверхскоростной, не поддающейся счету?
Потом все забылось, и эти его слова и моя невысказанная обида, началась страда сдачи экзаменов.
Валентин по целым дням сидел в библиотеке, читал всевозможные учебники и пособия.
Я приходила к нему через день, «натаскивала» его по немецкому, в МИМО, я знала, особое внимание уделяют знанию иностранных языков.
Кроме меня к нему приходил приятель его матери, педагог русского языка и литературы, и он писал диктанты под его диктовку и раз от раза делал все меньше ошибок.
Как и большинство мужчин, он не отличался способностями к языку, и мне приходилось подолгу биться, чтобы он усвоил согласования времен, запомнил спряжения глаголов немецкой грамматики – одной из самых сложных грамматик в мире.
Мама и папа ругали меня за то, что я так бездарно провожу каникулы. Мама говорила грустно:
– Ты же решительно не отдыхаешь…
Ей вторил папа:
– Как же ты будешь работать целый год, если совсем не отдохнула?
Я отвечала беспечно:
– У меня будут еще зимние и весенние каникулы. Как-нибудь перебьюсь…
Мне очень хотелось, чтобы Валентин стал студентом МИМО.
Когда-то мама говорила:
– Мы, женщины нашей семьи, и я, и бабка, и прабабка, все мы одинаковы в одном: умеем сильно, всей душой привязаться к любимому и даже, если нужно, пожертвовать ради него жизнью. Но, если что-то не по нас, что-то не нравится, отталкивает, то можем резко и мгновенно разорвать самые крепкие связи.
Я знала, что бабка, мать моей мамы, некогда ушла от мужа. Само собой, в те годы, в начале века, это было, как мы теперь выражаемся, своего рода ЧП.
Муж бабки служил чиновником особых поручений при пензенском губернаторе, кажется, был вполне респектабельный господин во всех отношениях.
Что-то произошло, а что – мама запамятовала или не хотела почему-то мне рассказать, и бабка однажды ночью, крадучись, ушла из его дома, потом уехала в Москву, устроилась жить у подруги, подруга же достала ей кое-какие уроки.
Потом она встретила студента, тоже, подобно ей, обучавшего наукам отпрысков купеческих семей, они полюбили друг друга и поженились гражданским браком, ибо бабка все еще числилась женой чиновника особых поручений, с которым была повенчана в церкви.
Бабка с дедом прожили вместе почти сорок лет, умерли в течение одного месяца, она раньше, он на две недели позднее. Мама утверждала, что такое счастье дается двум любящим далеко не часто – умереть почти в одно и то же время.
А они крепко любили друг друга: мама моя родилась в конце тридцатых годов, первая подшучивала над собой:
– Я должна непременно быть счастливой, ведь я – незаконнорожденная!
Потому что и в самом деле ее родители так и остались до конца дней невенчанными.
Я считала маму счастливой прежде всего благодаря покладистому характеру папы. Он был как воск или, скорее, как сливочное масло, мажь его на что хочешь…
Нет, у Валентина характер был далеко не шелковый. Это я поняла давно, но старалась мириться со всем тем, что мне не нравилось в нем, мама учила меня, что людей следует принимать с их достоинствами и недостатками.
В середине августа стало известно: Валентин зачислен в МИМО.
По-моему, я радовалась даже сильнее, чем он. Он снисходительно принимал мои восторги, словно ждал, что иначе не может быть.
И тогда-то, за две недели до начала занятий, и случилась наша первая размолвка.
Я пришла к нему вечером, в субботу.
Мы собирались пойти в кино смотреть французский фильм «Очевидные доказательства».
Валентин побрился, принял душ, надел белую рубашку к синий блайзер с блестящими пуговицами.
Причесывая влажные после душа волосы перед зеркалом и внимательно разглядывая себя в зеркале, спросил:
– А я вроде бы смотрюсь, как считаешь?
Я сказала:
– Не выношу, когда мужчины пристально смотрят на себя в зеркало.
Он с улыбкой обернулся ко мне.
– Значит, по-твоему, мужчина не должен смотреть в зеркало, бриться, мыться, а обязан ходить черт знает в каком виде?
– К чему преувеличения? – спросила я. – Можно глянуть в зеркало, но не любоваться собой подолгу, побриться, но не гладить себя по щекам и не говорить, что я вроде бы смотрюсь!
Он нахмурился, пробормотал:
– Вот злюка!
И тут же улыбнулся, широко, чтобы подчеркнуть, что он шутит, что назвал меня злюкой так, ради красного словца…
Мы уже собирались уходить, когда я увидела: на столе возле окошка висит не очень длинная коса, темно-русая, туго заплетенная.
– Это еще что такое? – спросила я.
Он спокойно ответил:
– Долгая история.
– А ты расскажи, – попросила я.
Он спросил:
– Ты хочешь, чтобы я рассказал историю этой косы?
– Конечно, хочу, иначе бы не просила.
– Тогда слушай, – начал он, сев на тахту. – Была одна девушка, вернее, она существует и по сей день. Она меня любит. Очень любит, – повторил он, вынимая из кармана блайзера пачку сигарет «Столичные».
Я слушала, не перебивая. Он закурил сигарету.
– А я ее, к сожалению, не любил. – Почему? – не выдержала я.
– Потому, что люблю другую, – тебя! Довольна?
Я промолчала, он продолжал:
– У нас с ней было горячее и непростое объяснение.
– Когда?
– Давно. Еще до Нового года. Я ей все высказал, объяснил, что между нами все кончено, что я ничего не могу с собой поделать, но не могу ее любить.
– А она что же?
– Она спросила: «Это окончательно? Навсегда и навеки?» Я ей сказал: «Да, навсегда». Она сказала, что, несмотря ни на что, любит меня безумно и никогда не перестанет любить. Я не поверил, я сказал, что вообще не верю в любовь. Но это я так, для вида сказал, – он тут же поправился. – Ты же понимаешь, сбрехнул, чтобы она отстала, надо же как-то ее убедить! Я говорю ей, что никому не верю, ни ей, что она меня любит, ни в любовь вообще.
Потом он продолжал дальше:
– Тут она меня спросила, что надо сделать, чтобы я ей поверил? Она все сделает, только бы я ей поверил. И – можешь себе представить…
Он засмеялся.
– Я возьми и скажи: «Слабо отрезать свою косу? Если любишь – отрежь!» А коса у нее преотличная, не правда ли? И что же? Я не успел оглянуться, как она схватила ножницы со стола и чик – отрезала свою прекрасную косу.
– Сразу не могла, – сказала я.
– Как, сразу? – переспросил он, но тут же понял. – Она, конечно, немного покромсала ее, коса толстая, ножницы, хотя и острые, я их недавно наточил, не берут косу, но все-таки в конце концов отрезала.
– И ты все время смотрел, как она отрезала свою косу? – спросила я.
Он пожал плечами.
– Что я мог сделать? Если бы ты знала, какая она решительная и резкая!
– Не хочу знать, – пробормотала я.
Мысленно представила себе, как эта девушка, которая любит его, одной рукой держит косу, а другой – ножницы. И старается отрезать косу, а туго заплетенные волосы не поддаются никак…
– И потом в конце концов она отрезала косу?
– Как видишь.
– И подала тебе ее из рук в руки?
Он ответил не сразу:
– Она швырнула мне косу в лицо.
Я захлопала в ладоши.
– И немедленно ушла? Да? Даже не поглядела на тебя и ушла?
Он спросил удивленно:
– А ты откуда знаешь?
Я засмеялась.
– Что за молодчина! Я бы тоже так сделала! Швырнула бы тебе косу и убежала. И черт с тобой.
Он недовольно поморщился.
– Что за вульгарные выражения? Тая, я от тебя такого не ждал!
А я смеялась, смеялась, не могла остановиться.
Мы так и не попали в кино, на французский фильм.
Потому что я ушла домой. Вволю посмеялась и ушла. Выбежала в коридор, хлопнула дверью, сбежала по лестнице вниз. Только меня и видели…
Он не являлся несколько дней, и я, само собой, не приходила к нему. Мы не перезванивались, как обычно, по нескольку раз в день. Хотя, разумеется, я скучала. Я привязалась к нему. И ловила себя не раз на том, что тоскую и жду его, кидаюсь на каждый звонок, а он все не звонит, не приходит…
И я дала себе слово, что ни за что не позвоню первой.
В конце концов он явился ко мне с повинной. Сказал:
– Давай, старуха, помиримся, в самом деле, куда мы денемся друг от дружки?
И я сдалась. Мне и самой до смерти хотелось помириться с ним. И сразу псе стало на свое место. И во мне все успокоилось, притихло.
Но, как бы там ни было, когда я вспоминала о косе, висевшей в его комнате, на стене, становилось как-то не по себе. Словно проглотила длинный гвоздь и он колом стоит в горле, ни туда, ни сюда…
Потом постепенно все стерлось, забылось.
Он начал учиться на первом курсе и поначалу был в восторге. Признавался:
– Там до того интересно…
Все время грозился привести меня к ним на вечер. По его словам, у них в институте проводятся различные вечера, там собирается интересная публика – студенты, преподаватели, дипломаты, все, как один, остроумны, злы, пальца в рот не клади, все жизнерадостны и веселы. Современные, одним словом…
Однажды, это было вскоре после студенческих каникул, я пришла к нему домой. Еще утром он позвонил, сказал, что нездоров, даже не пошел в институт, просил навестить его, потому что тоскливо и как-то ужасно одиноко на душе.
Я пришла не одна, а с Милкой, подругой детства, с которой мы прожили на Сретенском бульваре в большой, густо населенной квартире долгие годы.
Милка была тоже педагог, преподавала географию в техникуме, подобно мне, она тоже переехала вместе с мамой в отдельную квартиру в Мневники, время от времени она бывала у меня, но я еще ни разу не была у нее, потому что, во-первых, она жила невероятно далеко от меня, во-вторых, свободные часы я проводила большей частью с Валентином и на встречи со старыми друзьями у меня просто-напросто не оставалось времени.
Милка в детстве была нехороша собой, большеротая, с выпуклыми, чересчур близко поставленными глазами, на подбородке постоянно прыщики, но, став старше, она смогла, как сама признавалась, в корне преобразиться: врожденный вкус и умелое применение косметики сделали свое дело: ресницы были намазаны тушью и от этого казались длиннее и гуще, на лицо был положен тон золотистого цвета, потому все неровности и шероховатости казались сглаженными, толстые губы, чуть тронутые помадой, оказались модными. Милка утверждала:
– Вот именно такие губы носят теперь во всем мире!
Одевалась она спортивно, носила брюки, водолазки, длинные, сплошь в замках-«молниях» жакеты и куртки.
Волосы красила в аспидно-черный цвет.
Само собой, Милка нравилась далеко не всем, наблюдательная, резкая, умевшая подметить смешное в каждом человеке, она не щадила даже саму себя. Говорила о себе откровенно:
– На первый взгляд я – ничего, но следует остерегаться второго взгляда. Я уже не говорю о последующих…
Валентин встретил нас хорошо, вскочил с тахты, на которой лежал, побежал на кухню, предупредив, что сейчас приготовит кофе по совершенно особому рецепту.
Мы остались с Милкой вдвоем.
Милка огляделась вокруг, сказала:
– Неплохая обитель. Он что, один здесь живет?
– С мамой. Она в другой комнате.
– Она дома?
– На работе.
– Зарабатывает деньгу, чтобы обеспечить сыночка всем необходимым арсеналом?
Я возразила:
– Зачем ты так? Он и сам зарабатывает.
Она усмехнулась.
– Знаем мы эти заработки, кошке на рыбку.
– Ну почему же?
Милка махнула рукой.
– Ладно. А он ничего, не отравишься. Как у вас с ним, на полном серьезе?
– По-моему, да, – ответила я. – Вроде все хорошо.
Милка задумчиво оглядела меня.
– Нет, – сказала она. – Не женится он на тебе.
– Почему?
– Потому что ты его не устраиваешь, слишком хорошенькая и в то же время неперспективная.
– Вот как, – я засмеялась. – Что значит «неперспективная»?
– А ты не смейся, – посоветовала Милка. – Будешь смеяться – напрочь отстанешь от требований времени, тут не смеяться надо, а понять, что к чему.
– Валяй дальше, – сказала я. Она продолжала:
– Перспективная девушка – это или дочь непосредственного начальника, декана там, что ли, или папаши с громким именем, или сама с усами, известная балерина, известный геолог, еще что-нибудь в этом роде. А ты кто? Педагогша средней школы, и все? К тому же еще и папа пенсионер, аж сто двадцать монет в месяц?
Мне был неприятен этот разговор. Должно быть, самое правильное было бы замолчать, перевести разговор на другую тему, но я разозлилась и уже не хотелось себя сдерживать.
– Зачем ты так говоришь? – спросила я. – Он меня любит, я уверена, что любит!
– Все они любят, – сказала Милка. Взяла из пачки, лежавшей на журнальном столике, сигарету, щелкнула зажигалкой, прикурила.
– Да, любит, – повторила я. – Какая бы я ни была, перспективная или не очень, а он любит меня!
– И женится на тебе?
– Да.
– Уверена?
– На все сто.
– А как к тебе его мамаша?
– Послушай, – сказала я. – А какое тебе до всего до этого дело?
Она не успела ответить, в комнату вошел Валентин, неся поднос с тремя чашками кофе. Поставил поднос на столик, повернул обратно на кухню, принес новый поднос с печеньем, сахаром и молочником со сливками. Спросил:
– Как, девочки, проголодались?
– Чуть-чуть, – ответила Милка. – Может, какой-нибудь бутербродик можно получить в этом доме?
Глаза ее блестели. Я разозлилась, надо же так, прийти в первый раз в незнакомый дом и сразу же потребовать бутерброд!
Валентин сказал с сожалением:
– Нет ничего! Я болею, мама не успела ничего купить, ведь в нашей семье я – хозяйка, мама у меня дама ученая, ее проза жизни не касается…
– Ладно, – сказала Милка.
Я взяла чашку, стала прихлебывать горячий, очень сладкий кофе.
– Вкусно? – спросил Валентин. – Это по-турецки, я сыплю в кофейник кофе, потом наливаю холодную воду, вода нагревается, но не до кипения. Прежде, чем вскипит, я снимаю кофейник с огня.
Хлопнул себя по лбу.
– Погодите, девочки, кажется, на кухне есть рижский бальзам.
– Ура! – воскликнула Милка.
Он вышел из комнаты.
Милка сказала:
– Мужик хозяйственный, наверное, будет хорошим мужем.
– Там поглядим, – сказала я.
– И глядеть нечего. Если ты не хочешь, передай мне, я не откажусь!
Я засмеялась совершенно искрение.
– А если он не захочет, что тогда?
– А ведь ты его любишь, – задумчиво произнесла Милка.
– Да, – ответила я. – Люблю и никогда не соглашусь уступить его тебе хотя бы на минуту. Усекла?
Тут он вошел снова, неся черную прямоугольную бутылку рижского бальзама.
– Как, девочки, приемлем?
– Я – да, – сказала Милка.
– А я – нет, – сказала я.
Он обернулся ко мне:
– Для тебя, малыш, у меня тоже есть кое-что…
И снова отправился на кухню.
– Интересно, что это такое? – спросила Милка.
Я ответила с досадой:
– А тебе не все равно?
Она меня сильно раздражала, и я не пыталась даже скрыть своего раздражения. Меня злил ее безапелляционный тон, недвусмысленное кокетство и откровенное заигрывание с Валентином. И он тоже казался мне каким-то неестественным, непохожим на себя.
– А вот и не все равно, – ответила Милка. – И вообще перестань дуться, а то, гляди, как бы ему не надоело глядеть на твою надутую морду!
– Не надоест, – сказала я.
Она сощурила сильно намазанные глаза.
– Уж так уж ты уверена в нем?
– Да, – сказала я. – Уж так уж уверена. На все сто!
– Напрасно, – сказала Милка.
– Почему напрасно?
– Ни в одном мужике нельзя быть уверенной на все сто.
– А вот я уверена.
– Чем больше уверенность, тем сильнее после разочарование.
– Это уж не твоя забота.
Она улыбнулась.
– Не злись. Я же не собираюсь отбивать его у тебя.
– Если бы даже и собиралась, все равно ничего бы не вышло.
– Думаешь?
– Да, я имею обыкновение думать.
– Я тоже. Значит, ты в нем уверена?
Я до того разозлилась, что на миг даже лишилась слов от злости. Не знаю, чем бы окончился наш разговор, если бы в комнату опять не вошел Валентин. Он нес мне банку апельсинового сока.
– Кажется, это ты любишь?
– Кажется, да, – ответила я.
Он лег на тахту, заложив руки за голову.
– Вы обе хорошо смотритесь, одна исключает другую.
– Это что, комплимент мне или ей? – спросила Милка.
Он не ответил. Перевел глаза с нее на меня, потом спросил:
– Вы ко мне хорошо относитесь?
– Очень, – сказала Милка. – Не правда ли, Тайка?
– Почему ты это спрашиваешь? – удивилась я.
– Я сейчас узнаю, как вы ко мне относитесь по-настоящему, – сказал Валентин, перекатываясь на бок. Приподнял валик тахты, за валиком притаился недавно им купленный японский магнитофон.
– Вот послушайте, – сказал Валентин и нажал кнопку.
И мы услышали:
– Он что, один здесь живет?
– Нет, с мамой, она в другой комнате…
Наши голоса, мой и Милкин, уже не принадлежали нам, жили отдельно от нас и повторяли послушно все то, что было говорено раньше, когда мы считали, что мы одни в комнате…
– Какая бы я ни была, перспективная или нет, а он любит меня!
– И женится на тебе? – допытывалась Милка.
– Да.
– Уверена?
– На все сто!
Милкины щеки, даже под толстым слоем тона, вдруг резко побледнели.
– Что это? – воскликнула она. – Что же это такое?
Я была ошеломлена не меньше ее, Валентин улыбался, а в комнате звучали наши, уже не принадлежавшие нам голоса:
– Мужик хозяйственный, значит, будет хороший муж.
– Там поглядим.
– Это… это подлость, – вдруг взорвалась Милка. – Самая настоящая подлость!
Валентин хохотал, вытирая выступившие на глазах от неудержимого смеха слезы.
Милка вскочила, схватила со стола свою сумку, бросилась к дверям. Обернулась к Валентину.
– Вы, знаете, кто?
– Нет, – смеясь, ответил Валентин. – Подскажите!
– Подлец! – выкрикнула Милка, хлопнув дверью изо всех сил.
Он продолжал смеяться, слезы катились по его щекам.
– Она не ожидала, – вымолвил он наконец. – Ни за что, никак не могла ожидать…
Я молчала. Он крепко-накрепко вытер глаза и спросил:
– А ты как считаешь?
– То же самое, что и она.
Он переспросил:
– Что это значит?
Мне не хотелось произнести то же слово, я отвернулась, крепко сжимая руки, потом разом решилась, выбежала из его квартиры на лестницу.
Я бежала по улицам и переулкам и думала все время: «Как он мог? Неужели не понимает, что это все безнравственно, что это подло?»
Я долго не могла прийти в себя. Мама не уставала допытываться:
– Что с тобой, девочка? Почему ты такая расстроенная?
– Это тебе кажется, – отвечала я. – Все в порядке, ничего не случилось…
Потом ее расспросы и откровенная тревога, которая ясно читалась в мамином лице, надоели мне и я заперлась в своей комнате.
Я хотела не думать о нем и не могла. За эти месяцы он врос в меня, я уже не представляла себе своей жизни без него.
Но в ушах моих звучал мой собственный голос, записанный на пленку его магнитофоном, я зажимала обеими руками уши, словно голос и в самом деле раздавался очень близко.
Мама тихонько царапалась в мою дверь, прислушиваясь к моему дыханию, но я не впустила ее.
Я хотела остаться совсем одна и не видеть никого, ничего…
Прошло несколько дней, в субботу я поздно вечером возвращалась домой из своей школы рабочей молодежи.
Я чувствовала себя очень усталой, мало того, что у меня было своих четыре урока, пришлось еще заменить заболевшую учительницу в параллельном классе.
Я ни о чем другом не думала, ничего иного не хотела – выпить горячего чая, самого горячего, обжигающего, с лимоном и сразу лечь в постель, потушить свет и спать, спать…
Кто-то в темноте шагнул ко мне из нашего подъезда. Я вздрогнула от неожиданности.
– Неужели испугалась? – спросил Валентин.
Обнял меня, приблизив свое лицо к моему.
– Ужасно трудно без тебя, поняла?
Я хотела оттолкнуть его от себя, произнести массу жестких, злых слов.
О, как часто мысленно я говорила с ним, уничтожая его своим презрением, бросая в лицо колкие обидные фразы; и вот мы свиделись наяву, и я молчу, как утопленник, и нет сил сбросить с себя его руки, отвернуться от него, прогнать от себя и потом спокойно пройти мимо…
Нет, я не могла ни отвернуться, ни прогнать его. И он знал об этом. Молча взял мою руку, повел за собой. Неяркий уличный фонарь осветил машину сиреневого цвета, стоявшую на противоположной стороне.
– Автомобиль подан, – сказал Валентин. – Не угодно ли, миледи, сесть и прокатиться?
– Твоя машина? – спросила я.
– Моя, – ответил он. – Наконец-то сбылась мечта идиота. Ты же знаешь, я копил четыре года и вот – как видишь!
– Наверно, мама подкинула немалую толику, – сказала я.
Он улыбнулся.
– Имело место. Что есть, то есть.
Я села в машину рядом с ним. Он включил зажигание.
И мы поехали к нему, и я впервые осталась ночевать у него, а утром вдруг спохватилась – ведь я же не предупредила маму и папу, они же, наверное, с ума сходят, где я, что со мной…
Валентин спал на тахте рядом. Во сне лицо его казалось добрым, незащищенным, но в глубине души я знала: эта доброта и незащищенность кажущиеся, ненастоящие, скорее, он ко всему равнодушен, не зол, не ехиден, нет, просто ему все равно, что с кем происходит…
«А может быть, я ошибаюсь? – мысленно спросила я себя. – Может быть, он и в самом деле добр? Ну, хорошо, пусть даже и равнодушен, разве я меньше люблю его из-за того, что он равнодушен?»
И ответила сама себе:
«Нет, не меньше».
Я встала, тихо оделась. Но он мгновенно проснулся, приподнял голову с подушки, сна ни в одном глазу.
– Куда ты, Тайкин?
– Надо позвонить маме…
– Позвони и скажи, что ты вышла замуж, – сказал он. – И что мы сегодня вместе с тобой придем к ним и обо всем поговорим.
Я набрала свой номер, и мама сразу же ответила мне.
– Это я, мама, – сказала я. – Прости, что не позвонила.
– Тая, – проговорила мама. – Девочка моя…
Голос ее оборвался. Трубку взял папа.
– Таинька, что с тобой? Где ты? Мы же буквально голову потеряли, не знали, где ты, что с тобой…
– Я вышла замуж, – сказала я. – За Валентина.
И тут я услышала, как мой всегда выдержанный, спокойный папа вдруг закричал что есть сил:
– Мусенька! Послушай! Она вышла замуж! Вышла замуж, понимаешь? Да перестань же плакать!
Ровно в три часа мы с Валентином подъехали к нашему дому на его сиреневой машине.
Мы вошли в переднюю, и мама кинулась мне на шею, а папа долго, упорно кашлял, мама плакала, целовала меня и все говорила о том, что вчера она решительно не знала, что делать, куда бежать…
Я глянула на нее, на папу, мне показалось, что оба они за эту ночь состарились, даже словно бы согнулись из-за безумной тревоги за меня, и впервые мне стало совестно, и я стала мысленно ругать себя за свое легкомыслие, за жестокосердие, за то, что думала только лишь о себе, а о них, о тех, кто меня любит больше всего на свете, даже не вспомнила…
Валентин все время шутил, рассказывал смешные истории, он вообще умел, что называется, держать стол и, где бы ни появился, куда бы ни пришел, почти сразу же становился душой общества.
Папа и мама улыбались, слушая его рассказы о студентах МИМО, о том, какие казусы случаются в том самом творческом клубе, где он работал администратором.
С губ Валентина легко слетали имена и фамилии знаменитостей, с которыми он, должно быть, был на короткой ноге, и, когда он называл очередного известного писателя, или актера, или музыканта просто по имени – Коля, Петя, Вася, мама и папа переглядывались, а Валентина их внимание и нескрываемый интерес вдохновляли еще сильнее, и он продолжал нестись дальше на крыльях своих рассказов и баек.
И все-таки, несмотря на то, что все номера Валентина были мною достаточно хорошо изучены за эти годы, я ловила себя на том, что мне интересно слушать эти рассказы, пусть даже известные с первого до последнего слова.
В тот вечер мы долго еще сидели у моих родителей.
Я говорю у моих родителей, потому что это был уже не мой дом. Я переехала к Валентину.
Как раз к тому времени его мать вернулась из командировки.
Она была немногословна, острое костистое лицо, очки в толстой оправе, редкая улыбка. Типичная ученая дама.
– Вот, – сказал Валентин. – Вот, мама, моя жена!
Она оглядела меня с ног до головы. Протянула мне руку. У нее было крепкое пожатие, сильная ладонь. Она сказала, обращаясь к сыну:
– Ты всегда отличался хорошим вкусом.
Я почувствовала, что краснею. Даже Валентин, я заметила, вдруг растерянно заморгал глазами. А она продолжала невозмутимо:
– Я имела в виду твое уменье хорошо и правильно организовать свою жизнь.
Она еще раз посмотрела на меня, слегка улыбнулась. От улыбки ее костистое лицо стало словно бы мягче, женственней.
– Дорогая, я ничего иного не имела в виду. Верите мне?
Я кивнула ей. Я уже сразу поняла, что мы с нею сумеем удержаться на параллельных линиях корректных и добрососедских отношений. И соблюдать к тому же известное уважение друг к другу. А это уже не мало…
Наше совместное житье-бытье с Валентином складывалось таким образом: с утра он уходил в свой институт, сам себе готовил завтрак, сам мыл и убирал посуду на кухне, этому он был приучен старухой домработницей, прожившей у них в доме без малого тридцать лет и лишь недавно, года два тому назад, умершей.
Я вставала в одно время с Вероникой Кузьминичной, сперва наводила порядок в нашей комнате, потом готовила завтрак ей и себе, потом она уезжала в свой НИИ, я же шла за покупками. Потом готовила обед. Я была не из самых лучших хозяек, и обеды у меня получались весьма примитивные: брошу кусок мяса в кастрюлю, залью водой, как закипит, засыплю какой-нибудь крупой – это суп, положу другой кусок мяса на сковородку – это второе. Гарниром ко второму служили картошка, макароны или рис.
После обеда мы пили чай с конфетами или иногда с пирожными. А на ужин ели колбасу, или я варила сосиски или две пачки пельменей на троих и, разумеется, кефир. Иногда я жарила картошку.
На мое счастье, ни Валентин, ни его мать не были привередливы и не требовали от меня каких-либо разносолов. Беспрекословно съедали все, что я ставила на стол, не обсуждая мои кулинарные способности и никогда не подсмеиваясь надо мной.








