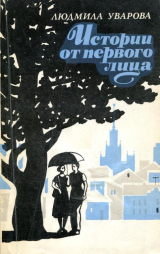
Текст книги "Истории от первого лица (Повести. Рассказы)"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
…Над пустырем появились первые звезды. Они только-только вылупились, еще неяркие, словно бы заспанные, потом засияли одна за другой и осветили валявшиеся повсюду на земле железные баки, дырявые кастрюли, сетки кроватей, все эти приметы уже исчезнувшей жизни, которые казались особенно жалкими, беззащитными в чистом свете городских звезд.
Позади меня послышались шаги. Я обернулась. Кто-то пришел?
Нет, эти люди были мне незнакомы: высокий худой старик, одетый в драповое пальто, и женщина очень маленького роста, издали кажущаяся девочкой.
Он бережно вел ее под руку. Она шла, твердо ударяя о землю то одной, то другой ногой, словно стараясь глубже врезать каждый свой шаг.
Я разглядела ее: она была тоже немолода – мешки под глазами, отекшие щеки, нездоровая, желтоватая бледность лица…
Они остановились неподалеку от меня.
– Отдохни, – сказал он.
– Я не устала.
– Отдохни, детка, – повторил он.
Я перехватила его взгляд, заботливый, беспокойный и нежный.
– Тебе не холодно? – спросил он.
– Нет.
– По-моему, ты замерзла…
– Да что ты, совершенно тепло!
Они говорили, не замечая меня, словно были совсем одни.
– Отдохнула? – спросил он.
– Да, вполне.
– Все-таки постоим еще немного.
– Нет, нет, пойдем, я хочу ходить…
Он поправил шарфик, вылезший из-под ее воротника.
И они отправились дальше, и она по-прежнему твердо, очень четко ступала каждой ногой, словно проверяла ее прочность, а он старался примерить свои шаги к ее шагам.
Должно быть, это самое большое счастье, только оно дается далеко не всем: прожить вместе до старости и продолжать любить друг друга.
Как это говорил Витька?
«Они жили долго и умерли в один день…»
Мне вспомнились наши соседи со второго этажа – Нина Львовна и Сергей Павлович.
Вот была дружная пара, вторую такую не скоро отыщешь. Всегда и везде вместе, один без другого ни шагу; им было уже далеко за шестьдесят, а он для нее был Сереженькой, она же для него Ниночкой. Только так, не иначе.
Очень забавно говорили они друг с другом:
– Ниночка, дружок, ты забыла, ведь это было тогда, когда у нас кончился гипертонический криз.
– Что ты, Сереженька, не спорь со мной, все случилось значительно раньше, когда у нас был радикулит.
Это было трогательно, и чуточку смешно, и все-таки очень трогательно, хотя говорили они совершенно серьезно, ее гипертония и его радикулит были для них поистине семейными, общими болезнями.
Я часто думала: что-то будет, если один из них умрет?
Однажды я слышала – старик Карандеев с присущей ему грубой прямотой спросил Сергея Павловича:
– Вы смерти боитесь?
Старик Карандеев любил кокетничать со смертью, часто говорил о том, что ждет ее, избавительницу, каждый день, хотя стоило ему чихнуть три раза подряд – и он уже лез в кровать под одеяло.
– Нет, не боюсь, – сказал Сергей Павлович. – Смерть не самое страшное…
С легкой Витькиной руки их в доме прозвали «старосветские квартиросъемщики», они знали об этом и нисколько не обижались.
Им не довелось умереть в один день. Уже после войны Нина Львовна однажды не проснулась утром. Это была легкая смерть, как выразился все тот же старик Карандеев, кончина праведника, но Сергею Павловичу было от того не легче.
Растерянный, беспомощный, он бродил целыми днями то по двору, то по окрестным улицам и, когда встречал знакомых, начинал одно и то же:
– Почему она раньше, а не я? Как это так получилось?
Мы все жалели его и вспоминали Витьку, который когда-то очень любил их, хотя частенько посмеивался над ними.
Витька был смелый, мне кажется – он не боялся никого и ничего.
Помню, однажды, когда я еще училась в пятом классе, рано утром я проснулась от шума под моими окнами. Я быстро оделась, выбежала во двор.
Здоровенный мужчина, о таких говорят – косая сажень в плечах, мордастый, небритый, наотмашь бил Аську Щавелеву куда попало – по лицу, в грудь, по животу. Аська увертывалась от него, а он снова настигал ее и бил беспощадно, приговаривая:
– Вот тебе! Мало? На! Мне не жалко!
А в окнах стояли наши соседи, смотрели на них. Мне запомнилось лицо старика Карандеева, его безгубый рот растянулся в улыбке, брови дрожали от удовольствия.
И в этот момент во двор выскочил Витька. Он был в майке, в трусах, растрепанный, – видно, прямо с постели, даже не успел одеться.
Он был на целую голову ниже этого мужчины, щуплый, узкоплечий, и вдруг он бросился на него и, размахнувшись, влепил кулаком в подбородок.
И тот, здоровый, огромный, не помнящий себя от ярости, ошеломленно уставился на Витьку.
А Витька наносил ему все новые удары, и, должно быть, всем остальным, смотревшим из окон, стало внезапно совестно. На крыльцо выскочил муж Дуси Карандеевой, Валерий, высокий, жилистый парень.
– Это еще что такое? – заорал он. – Пошел отсюда к чертовой матери!
И вместе с Витькой набросился на мужчину. И тот убежал. Втянул голову в плечи, метнулся из двора на улицу и побежал так, словно за ним гнались. Но никто не гнался за ним.
Избитая, растерзанная, но неистребимая Аська с гордостью похвалялась потом:
– Вот до чего он меня любит! Если ревнует – так ревнует, не как-нибудь!
Когда я училась в седьмом классе, Витька и Семен, окончившие десятилетку, решили отправиться в поход на Кавказ. Они сообща уговорили мою маму, и она согласилась отпустить меня с ними.
Ростик же вместе с родителями предполагал поехать в Крым, как он говорил – пожить там «дикарями».
Каждый вечер мы собирались в «Трубке мира» и вели долгие разговоры.
Денег у нас было в обрез, все рассчитано тютелька в тютельку, но все-таки хватало, чтобы пройти по Военно-Грузинской дороге, а потом мы решили спуститься к морю, в Гагру, и каждый день купаться.
За несколько дней до нашего отъезда мою маму свезли в больницу: у нее оказался острый приступ аппендицита, и ей сделали операцию.
Прибежав из больницы домой, я сразу же вызвала ребят. Доктор сказал, что у мамы тяжелое положение, есть подозрение на перитонит, а я была дома совсем одна, отец находился в командировке, старший брат недавно ушел в армию.
– Дела!.. – сказал Витька и посмотрел на Семена.
– Да-а, – протянул Семен.
Витька задумался, наморщив лоб.
– Надо успеть, – сказал он.
– Куда успеть?
Но Семен понял:
– Успеем.
– Чего успеем? – спросила я.
– Сдать билеты.
– Чего?! Вы-то при чем? Езжайте – все!
Но Витька вдруг рассердился:
– Хватит расспросов! И вообще, кто ты такая, чтобы приказывать?
– Я не приказываю, но вы же хотели ехать…
– Хотели, да передумали…
– Ты лучше помолчи, – добавил Семен, – молчание – золото!
Они остались. А Ростик уехал.
Стояло жаркое лето, и мы, все трое, каждый день ездили в больницу. Семен и Витька ждали меня в больничном саду, пока я сидела в палате у мамы.
А потом я шла к Семену обедать.
Его мама была радушной, кормила меня всякими вкусными вещами. И я иногда говорила, больше для вида:
– Сейчас бы вы в море купались…
Витька смеялся:
– Чудак-человек! Чего жалеть? Еще успеем во всех морях, какие есть, выкупаться…
Когда мама поправилась, была уже середина августа, и ехать в поход было поздно.
Поздно еще и потому, что оба, и Семен и Витька, собирались устраиваться. Витька поступил на Могэс, учеником монтера, а Семен начал учиться на курсах по подготовке в вуз.
Я любила мать Семена и не любила его отца.
О его матери, Елене Прокофьевне, все говорили: она умеет помогать молча. И в самом деле, почти все наши жильцы постоянно одалживали у нее деньги, и она никогда не помнила, кто сколько должен, и никому не напоминала о долге.
Семья Семена жила по сравнению с другими обеспеченно: отец работал на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» старшим мастером, Елена Прокофьевна шила на дому. Она обшивала многих наших модниц и порой даже не брала денег, если видела, что заплатить трудно.
– Ладно, отдадите в другой раз, когда будут деньги, – говорила она.
Семен относился к отцу ровно, может быть, даже равнодушно, но мать он любил необычайно; иные ребята подсмеивались над ним за то, что он ничего не делал, не спросив у мамы, за то, что он, такой обычно невозмутимый, не мог скрыть своего беспокойства, если она где-нибудь долго задерживалась.
Ростик сказал ему как-то:
– Ты типичный маменькин сынок.
Семен не успел ничего ответить, Витька резко одернул Ростика.
Витькина мать умерла в прошлом году, и он тяжело переживал ее смерть.
– Ты счастливый, – сказал Витька Семену, сказал спокойно, без зависти. – У тебя мать живая. Это счастье.
– Да, счастье, – согласился Семен.
Отец Семена, Дмитрий Петрович, был вроде бы неплохой человек, ласковый, улыбчивый, одинаково приветливый со всеми, но меня утомляли его бесконечные улыбки; он улыбался, а мне думалось, что все в нем лжет: и узкие, шоколадного цвета глаза, и суетливые, не знавшие покоя руки.
Может быть, потому, что он работал на кондитерской фабрике, казалось, от него постоянно пахнет приторным запахом ванили и сахарной пудры.
У Дмитрия Петровича была манера говорить поговорками. Витька сказал про него однажды, что он изъясняется лозунгами, словно цитирует статью в газете.
Стоило мне прийти к ним, как Дмитрий Петрович тут же начинал:
– Катюша пришла! Гость в дом – радость в дом!
И улыбался, а мне не хотелось отвечать на его улыбку.
В последнее время его стали иногда встречать с кассиршей из кино «Великан», что на Серпуховской площади.
Кассирша была тощая блондинка с тяжелой челюстью, брови ее были выщипаны по тогдашней моде, а яркий рот обрисован темно-красной помадой в виде сердечка.
Она носила очень короткие платья и граненые, кораллового цвета бусы. Летом она прикрывала лицо газовой косынкой, чтобы не загорать; когда она выдавала билеты, ногти на ее руках так и бросались в глаза – длинные, ярко-розовые и такие блестящие, что тоже казались гранеными, как бусы.
Однажды мы с Семеном и Витькой сговорились поехать кататься на речном трамвае.
Мы зашли за Семеном, но он отказался:
– Не могу, ребята, тут мне книгу очень интересную дали на два дня, а я еще и половины не прочитал!
– Что за книга? – спросил Витька.
– «Королева Марго».
– А может, все-таки пойдем? – спросил Витька.
Семен отрицательно покачал головой.
– Он человек каменный, – сказал Витька. – А у каменного человека слово каменное. Раз сказал – нет, значит, нет!
Елена Прокофьевна поглядела на сына:
– Да ну его, это он меня не хочет оставлять, думает, не понимаю?
– Я? – удивился Семен. – Почему это не хочу?
– Отца дома нет, он на собрании, совсем замучили человека: что ни день – собрание или совещание, дома побыть не дадут.
Она вздохнула.
– Жалко его, люди завидуют, сладкая, дескать, работа, захочешь – ешь шоколад или конфеты сколько угодно, а он устает до того, что и представить себе трудно…
Она взглянула на часы.
– Вот глядите, уже половина шестого, а у них, должно быть, собрание часов до десяти затянется, и сиди там не евши…
Семен широко распахнул перед нами дверь.
– Прошу, – сказал он вежливо.
Мы вышли.
– Странное дело, – сказал Витька задумчиво, – по-моему, мы с ним вместе эту самую «Королеву Марго» читали года два назад…
Мы сели в трамвай возле Чугунного моста. Неяркий закат отражался в розовой воде Москвы-реки. Ветер бил в лицо.
– Вот так бы ехать и ехать, – сказала я Витьке, – и чтобы кругом вода и ветер. Хорошо, правда?
– Правда, – ответил Витька, подставляя лицо ветру.
Внезапно я почувствовала на себе чей-то взгляд. Казалось, меня толкнули и приказали: «Оглянись!»
Я обернулась. На самой задней скамейке, тесно прижавшись друг к другу, сидели Дмитрий Петрович и кассирша из кино «Великан».
Она улыбалась, что-то шептала ему на ухо, а он рассеянно слушал, не сводя с меня глаз. Я посмотрела на Витьку и сразу поняла: он тоже видел их…
Все было так, как раньше, как минуту назад: и ветер, бивший в лицо, и розовая гладь реки, от которой несло прохладой, и закат, догоравший где-то за Воробьевыми горами, и все было совсем по-другому…
– Давай вылезем и пересядем на другой трамвай,–сказал Витька.
– Хочу домой, – сказала я.
Мы вылезли на пристани «Парк культуры», остались ждать встречного трамвая.
Кто-то подошел к нам, стал рядом. Дмитрий Петрович.
– В парк гулять? – спросил он, улыбаясь.
– Нет, мы хотим домой поехать, – сдержанно ответил Витька.
Узкие, шоколадного цвета глаза Дмитрия Петровича ласково оглядели меня.
– Как ты вытянулась, Катюша! Я ведь тебя эконькой помню, – он показал рукой, – и каждый день вижу, не замечаю, а тут глянул – смотрю: выросла, похорошела, совсем другая стала. Молодое растет, старое старится, не так ли, ребятки?
Он выжидательно обвел взглядом меня и Витьку. Губы его напряженно улыбались. Каждое слово его, казалось, источало назойливый запах ванили.
Он подошел совсем близко.
– У меня к вам просьба, – сказал тихо, – вы знаете что? Вы не говорите ничего там, дома…
– Мы не из болтливых, – оборвал его Витька.
Он засмеялся, словно Витька сказал что-то смешное.
– Я знаю, дружок. Я совершенно уверен…
Подошел встречный трамвай. Я дернула Витьку за руку:
– Пошли садиться…
Мы побежали по дощатым мосткам к трамваю.
Мы сели на скамейку возле окна, трамвай заскользил по воде. Я посмотрела на пристань. Дмитрий Петрович стоял все там же, где мы оставили его, на губах застыла все та же искательная улыбка.
Я не выдержала, показала ему язык. Все равно издали ему не разглядеть, а мне на минутку стало легче. Он и в самом деле ничего не увидел. Он даже руку поднял, посылая нам привет.
– Никому ни слова, – сказал Витька, – и у себя дома тоже никому, поняла?
Я кивнула.
– Какой он липучий, настоящая помадка с цукатом…
– Тянучка, – сказал Витька. – Но все равно, ты понимаешь…
Я смотрела на воду, но уже не видела ничего: ни лодок, сновавших по реке, ни теплого, постепенно темневшего неба, ни Воробьевых гор, которые медленно уплывали назад…
Это была моя первая встреча с ложью. С настоящей, взрослой ложью, облеченной, как оно ей и полагается, в будто бы пристойную форму.
Я пыталась уговорить себя. Ведь многие люди лгут, мне и самой приходилось иной раз соврать в школе: не сделаешь урок, а потом бормочешь учителю, стараясь не смотреть в глаза, что, дескать, плохо себя чувствовала, или мама была больна, или еще что-то говоришь, понимаешь – никто тебе не верит, и совестно, и противно, и готова хоть сейчас провалиться сквозь землю…
– Это с непривычки, – говорил Ростик, умевший как никто найти самые что ни на есть достойные причины для своей лени, – привыкнешь и тоже научишься врать без запинки, как по-писаному.
А я не хотела учиться. Я переживала, когда приходилось соврать учителю, каждый раз давала себе слово больше не врать. Решиться когда-нибудь и сказать правду, вот так вот просто, откровенно: поленилась, была, скажем, на катке или в кино и потому не сумела выучить…
Но сейчас было совсем другое. Сейчас мне лгал взрослый человек, лгал, глядя мне прямо в глаза!
И вдруг я испугалась: что, если Елена Прокофьевна увидит меня и все сразу поймет?
Витька сказал:
– Я знаю, о чем ты думаешь.
– Ну и знай.
– Не надо ершиться, Катеринский, я-то ни в чем не виноват…
Он вгляделся в меня, сказал строго:
– Перестань! Слышишь?
А я ничего не могла поделать. Слезы сами собой катились по моим щекам.
– Отстань! – сказала я, злясь на самое себя. – И не разглядывай меня, я тебе не картина…
Витька отвернулся. Больше мы не сказали ни слова за всю дорогу до нашего дома.
Я встретилась с Семеном на следующий вечер.
– Хорошо покатались? – спросил он.
Я ответила по возможности небрежно, стараясь глядеть поверх его головы:
– Ничего, неплохо…
И мы заговорили о чем-то другом…
Спустя неделю вместе с Семеном и Витькой мы поехали в Сокольники поглядеть на соревнования велосипедистов.
Семен был мрачен. Все время о чем-то думал, иногда принимался насвистывать какой-то мотив и снова замолкал.
Мы долго гуляли по сокольническим просекам, смотрели соревнования, досыта наелись мороженого и выпили множество стаканов газированной воды.
Больше всех съела я – три эскимо и еще два кругляша с вафлями.
Витька с искренним удивлением поглядывал на меня:
– Смотри, Катерской, не объешься, часом!
Я обиделась:
– А тебе что, жалко?
Витька сказал уважительно:
– Знаешь, Катькин, когда ты умрешь, я уверен, твой желудок отдадут в Институт мозга, не иначе!
– Согласна, – ответила я, нисколько не притворяясь: в самом деле, не все ли равно, куда отдадут мой желудок после смерти?
Мы веселились в тот день так, как уже давно не веселились, даже Семен немножко оживился, но самое веселье ожидало нас впереди – надо ехать домой, а ни у кого ни копейки.
– Как же так получилось? – недоумевал Витька. – У меня же было целых два рубля!
– И у меня рубль, – сказал Семен.
А мне оставалось только развести руками, я с самого начала была некредитоспособна.
– Не рассчитали, – сказал Витька. – Даже домой не на чем уехать. Вот к чему приводят излишние наслаждения жизнью: вино, женщины и азартные игры…
– Пошли пешком, – предложила я.
– А не устанешь? – спросил Семен.
– Ничего, – сказала я. – Погода хорошая, дойдем…
И мы отправились пешком из Сокольников на Мытную улицу.
Постепенно спустились сумерки. Матовая, ровная синева неба темнела, становясь густо-аквамариновой, сухой, как бы таившей в себе непролитую тяжесть дождя. Но дождя не было уже целых две недели, листья на деревьях стали жесткими и пожелтели, поблекли раньше времени.
Когда мы приблизились к площади трех вокзалов, вдруг потянуло сердитым ветром близкой грозы, но гроза обманула, пронеслась стороной, – должно быть, где-то далеко, может, в Измайлове или в Кунцеве, шел дождь, а здесь по-прежнему было жарко и тихо.
Вдали послышался гудок паровоза. Он звучал протяжно и почему-то тоскливо, словно паровозу не хотелось отправляться в путь.
– Когда я слышу гудки, меня всегда тянет уехать, – сказал Витька.
– Куда?
– Все равно куда. Просто хочется сесть в поезд и катить куда-нибудь, и чтобы колеса стучали, и за окном станции, станции, леса, опять станции…
Он замолчал, задумался.
– Мой отец уехал вчера в командировку, – сказал Семен.
– Далеко?
– Нет, недалеко. В Тулу.
– Надолго?
Это спросил Витька. Семен пожал плечами:
– Дня на три, на четыре…
– Тула – это близко, – сказал Витька. – Вот, например, в Хабаровск или во Владивосток уехать – дней десять проедешь, не меньше…
Семен произнес задумчиво:
– Он обычно ненадолго уезжает…
До сих пор не пойму, почему Семен заговорил о том, о чем ему наверняка трудно, почти невозможно было говорить. А может, молчать оказалось еще труднее? Или хотелось поделиться с нами? Или просто он понимал, что об этом все знают и мы тоже не можем не знать?..
Он сказал отрывисто, глядя себе под ноги:
– Она ведь ни о чем не догадывается…
Я хотела было спросить, о ком это он говорит, но Витькины пальцы вовремя сжали мою руку.
– Она его собирает в дорогу, рубашки кладет, носки, ничего не забыла, даже пирамидон: а вдруг у него голова заболит? Он смеется: «Я же не на Северный полюс еду», – а она…
– Да пусть верит, – сказал Витька. – Это именно то, что нужно!
Семен в упор посмотрел на Витьку, словно видел его впервые.
– А я все вижу, – тихо произнес Семен. – Он говорит, улыбается, глаза щурит, а я-то все знаю…
Лицо Семена покраснело, даже шишковатый лоб его покрылся неровными красными пятнами.
– Его посылают в командировку на день или на два, а он приурочит к концу недели, чтобы под выходной вернуться к той, и весь выходной с нею, и это уже все знают, все, кроме матери…
Губы Семена дрожали, он откашлялся, провел рукой по лицу, как бы умываясь, заговорил уже более спокойно:
– Я молчу. Я все время молчу. Не хочу, чтобы она знала…
– Пойдем быстрее, – сказал Витька, – а то мы к ночи не дойдем…
Мы прошли еще несколько шагов. Семен сказал:
– Никак не пойму – почему одного кого-то любят, верят ему, а другого, может, он в тысячу раз лучше, и в грош не ставят?
– Брось философию разводить, – сказал Витька. – Запутаешься.
Мы прибавили шагу. На улицах уже зажглись фонари, от прокаленных за день каменных стен несло сухим, устойчивым жаром.
Семен сказал:
– Все-таки это счастье, что она ничего не знает…
Я не выдержала:
– А ты уверен?
– Да.
– Счастье в незнании, – сказал Витька.
– Думаешь? – спросил Семен и сам же ответил: – Да, счастье в незнании.
Мы добрались до дома уже в двенадцатом часу. Я долго не могла заснуть в ту ночь.
6…На том месте, где некогда стояли дровяные сараи, валялась груда досок. Я подошла ближе. Я увидела обшарпанную, обмытую дождями доску. И вдруг мне почудилось: я вижу почти стертый от времени зеленый след на доске. Да, так и есть. Может, это была часть нарисованной когда-то Витькой «Трубки мира»?
Странное чувство охватило меня. Это чувство мне довелось уже испытать прошлой осенью, когда я шла уральским жиденьким лесом и прямо перед собой увидела копну скошенного сена. И тогда показалось – кто-то позвал меня давно забытым, но хорошо знакомым голосом.
Я остановилась и сразу вспомнила: однажды Витька достал где-то сена и устлал им пол в нашем сарае.
Пряный, немного печальный запах медленно увядавшей травы жил в «Трубке мира» вплоть до самых морозов, и вот спустя годы в лесу я снова вдохнула его, и невольно увиделся мне тогда наш дом на Мытной, окна в батистовых занавесках, лопухи во дворе, пестрые зобастые голуби, сиротливо ютившиеся на крыше.
Я вновь ощутила себя маленькой, низкорослой, с острыми плечами; как бы со стороны я увидела всегда растрепанные волосы, пальцы в цыпках, неровный румянец обветренных щек…
Это была как бы встреча с детством, вплотную, лицом к лицу, казалось – вот оно, совсем рядом, стоит только протянуть руку.
Я протянула руку, взяла клочок сена, окунулась в него лицом, и сухие травинки, беспощадно сожженные солнцем, небольно укололи мои щеки.
Теперь я тоже стояла, молча глядела на стертый, еле заметный зеленый след.
Доска уцелела, даже краска не совсем смылась, а человека, державшего тюбик с краской, давно уже нет на свете.








