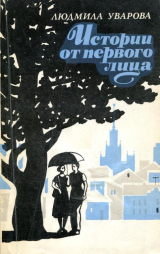
Текст книги "Истории от первого лица (Повести. Рассказы)"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
– Война, Катюша, штука жестокая. Требует жертв! – Хорошо выбритые щеки его сияли перламутровым румянцем. – Поверь, я тоже рвался на фронт, я все время подавал заявления, а мне сказали: цыц, сиди здесь, ты нужен фронту в Москве.
Я часто ловила себя на ненаходчивости, неумении вовремя ответить.
Витька говорил обо мне:
«У тебя рот на запоре, зато на лестнице ты уже герой!»
И это было правдой. Сколько раз я копила в себе надлежащие острые слова, могущие поразить в самое сердце, но говорить их было уже некому.
Отец Семена прошел мимо, должно быть, и думать обо мне не думал, а я все стояла, смотрела ему вслед, и сколько всего мне хотелось ему высказать, сколько всего, а его уже и след простыл…
9…Подул легкий ветер и снова скрылся. Чьи-то шаги послышались вдалеке. Они приближались ко мне, они были уже совсем рядом.
Я вскочила, обернулась и увидела Семена.
Мы не встречались много лет, но я узнала его высокий, уже с пролысинами, шишковатый лоб, ямочку на щеке, спокойные, улыбающиеся глаза.
Он обнял меня, потом слегка оттолкнул от себя.
– Вот и ты, – сказал, улыбаясь и морща губы. – Пришла все-таки, явилась, Катериненко…
Зачем он назвал меня так? Ведь я дала себе слово: быть сдержанной, быть совершенно спокойной… Он сказал:
– Ну, прости, ну, я дурак полный и окончательный! Что можно с этим поделать?
Это была не первая наша встреча с начала войны. В сорок третьем он приезжал ненадолго в Москву после госпиталя. Тогда он пришел ко мне, очень худой, даже словно бы ставший выше ростом, опираясь на палку.
Я бросилась к нему, я не знала, что сказать, будто языка лишилась от радости. И закричала восторженно, изо всех сил:
– Абракадабра!
– Маком, – сказал он. – Нога не сгибается!
Потом мы долго сидели вдвоем.
Я знала из последних Витькиных писем, что Витьку послали на какое-то особой важности спецзадание и, может статься, он будет писать мне с перерывами, а если писем и вовсе не будет, чтобы я не волновалась.
Значит, он просто какое-то время не имеет права писать.
Я сказала:
– Все-таки я получаю от него письма, редко, правда…
– Стало быть, он жив…
– Он в партизанах? – спросила я. – Или где-нибудь там, в тылу врага?
Семен помедлил прежде, чем ответить.
– В партизанах.
– Так я и думала. Это не очень опасно?
– На войне все опасно. Но раз ты получаешь письма, значит, он жив.
– Отец его тоже недавно получил письмо…
Я заходила к Евгению Макаровичу каждую неделю. Иногда два раза в неделю. Чаще не получалось, я очень уставала на заводе. Случалось, мы работали по шестнадцать часов подряд, а выходной получали нечасто.
Дуся Карандеева взяла меня в свою бригаду токарей-инструментальщиков. Бригада называлась фронтовой. Дуся была бригадиром. А я была, по-моему, самым неумелым токарем на всем заводе. Даже теперь, когда я вспоминаю, сколько я тогда запорола деталей, мне становится страшно, и я искренне дивлюсь: зачем меня держали в лучшей, передовой бригаде? Но Дуся утверждала:
– Мы должны тебя поднять до себя. Это наша первоочередная задача.
И они старались всей бригадой. Не переводя дыхания учили меня, как надо затачивать резец, как проводить текущий ремонт станка и что надо делать, чтобы продлить службу оборудования.
Теоретически я все понимала как следует. Но, едва лишь вставала за станок, почему-то забывала о наиглавнейшем правиле – плавной остановке станка. Я рывком, сгоряча поворачивала ручку. И Дуся каждый раз говорила:
– За тебя, как за вредность, нам всем полагалось бы литр молока в день…
Тогда, на заводе, я стала писать в заводскую многотиражку. Я писала очерки о трудовых подвигах моих товарищей, работавших для фронта, и однажды один очерк даже перепечатали в «Комсомольской правде»; я вырезала очерк и послала его в письме Витьке.
Я писала ему часто, почти каждый день. Я знала – Витьке все интересно про меня, и я описывала ему свой цех и всех членов бригады и еще писала, что Евгений Макарович в полном порядке, жив, здоров и по-прежнему в комнате у него полным-полно собак, птиц и кошек, которые чудом как уживаются друг с другом.
Я не писала ему всей правды: ведь на Евгения Макаровича обрушилась противная болезнь – катаракта, и он уже не мог работать в своей поликлинике, а лечил животных на дому.
Он слепнул день ото дня. Я привела его в глазную больницу, больничный врач настаивал на операции.
– Может быть, поможет…
Но Евгений Макарович отказался наотрез.
– Не хочу. Как будет, так будет. Я сам врач, знаю, что такое в глаз с ножом лезть…
Я рассказала Семену всю правду. Семен помрачнел.
– А как он питается?
– В поликлинике ему пока что оставили карточку. Я отовариваю ее, только он сам почти ничего не ест, все отдает собакам…
– По-прежнему у него полно собак?
– Еще больше. Мне кажется, он их специально выискивает, а ты же понимаешь, с продуктами не густо…
– Да, не густо…
Должно быть, в этот момент Семен подумал и о своей матери, у которой тоже было далеко не густо.
Отец Семена по-прежнему работал на «Красном Октябре».
Там он получал концентраты, даже сахар, к тому же у него был литерный паек, но этим всем он пользовался вместе со своей новой женой.
Семен пробыл в Москве шесть дней. С отцом так и не захотел встретиться.
10…– Сколько мы не виделись? – спросил Семен. – Пятнадцать лет, не правда ли?
– Пятнадцать лет и четыре месяца, ты же всегда любил точность.
Он кивнул.
Однажды мы встретились после войны. Тогда я уже последний год жила на Мытной, мы собирались переехать на новую квартиру, которую дали отцу.
Я уже давно знала все. Знала, что Витька погиб, мои письма возвращались нераспечатанными обратно, и потом, уже незадолго до своей смерти, Евгений Макарович получил похоронку.
По правде говоря, я была довольна, что мы переезжаем. Наша новая квартира находилась на Земляном валу; мне было тяжело оставаться жить на Мытной, видеть двор, «Трубку мира», Витькины окна, в которых висят чужие занавески.
И когда я проходила по двору, мне вспоминались наши встречи, разговоры, недолгие ссоры, и я опять, как некогда в детстве, думала: а что, если бы вдруг ожили и пролились дождем все сказанные нами слова?
В тот раз Семен рассказал мне, как это все было. Витька погиб в начале сорок третьего в бою, в том самом, где Семена ранило в ногу.
Еще задолго до того они сговорились друг с другом: кто останется в живых, будет посылать письма погибшего домой, чтобы дома думали, что он жив. Ведь узнать о несчастье никогда не поздно.
Они написали несколько писем впрок: Семен – матери, Витька – отцу и мне.
Я слушала Семена, все никак не могла уяснить себе, о чем он говорит. И вдруг поняла разом, в один миг. Я воскликнула:
– Ты посылал его письма?! Ты, а не он?!
Я закрыла лицо руками. Я не верила и не могла не верить. Как это все могло быть?
– Уже тогда, когда я в сорок третьем приезжал на побывку, Витьки не было. И я посылал тебе его письма, все время посылал. А потом отцу написали из полка…
Я сказала:
– Иди. Хочется побыть одной…
Он ушел. Я вынула Витькины письма, те, последние, я хотела перечитать их и вдруг испугалась.
Мне стало страшно от мысли, что будет со мной, когда я прочитаю хотя бы одно слово.
Почему мы, люди, так боимся за самих себя? Почему страшимся горя, страданий, боли, в самом деле – почему?
От врожденного эгоизма? От стремления отстранить от себя все то, что может уколоть, поранить?
И потому стараемся не вспоминать о тех, кого нет, не перечитывать писем, не смотреть на фотографии…
Щадя себя, мы стараемся поскорее забыть обо всем, обо всех. А забывать нельзя! Надо любить и помнить, всегда помнить, до самого конца.
В одном из последних писем Витька писал:
«Катющенко, давай условимся: что бы ни случилось, не забывать о нашем союзе четверых. Перво-наперво – я предлагаю обязательно устраивать день традиционной встречи, помнишь, как у нас это делали в школе? Но этот день будет лишь для нас, для четверых. Например, первого января. Хорошо? Где бы мы ни были, какие дела бы ни ждали, но первого января мы должны собраться в «Трубке мира», даже если она будет заперта».
Это письмо Семен послал мне уже после гибели Витьки. Семен сказал мне: Витька погиб двадцатого сентября.
– Он хотел, чтобы у нас был день встречи друзей.
– Знаю, мы говорили с ним…
– Пусть будет двадцатого сентября…
Семен согласился:
– Пусть…
Но нам никак не удавалось встретиться – ни двадцатого сентября, ни в какой-либо другой день.
Я уехала собкором газеты в Челябинск, потом в Свердловск, потом я перешла работать в ТАСС и меня послали в длительную командировку за границу. Когда я приехала в Москву, Семен тоже был в командировке: он работал начальником поезда, ему приходилось много ездить по всей стране.
И Ростика тоже не пришлось увидеть: тогда, в Сибири, он окончил ветеринарный факультет, женился на своей сокурснице и вместе с ней уехал на Дальний Восток, стал главным зоотехником крупного зверосовхоза.
И только этой осенью мы все трое списались и решили встретиться в шесть часов вечера двадцатого сентября в нашем старом дворе возле «Трубки мира».
…– Удивительно, – сказал Семен, – наш дом мне всегда казался незыблемым, думалось, никто никогда его не сломает, а вот пришел и увидел: нет его…
– Да, нет и не будет…
– Ростик сказал бы: а жизнь внесла свои коррективы.
– Вот именно. А как он? Придет?
– Нет, я получил от него письмо.
– Что-нибудь случилось?
– С ним ничего, он здоров, но с его женой неприятность. Серебристая лиса, как он пишет, необыкновенная умница, отхватила ей палец.
Хотя во всем сказанном Семеном не было ровно ничего смешного, я улыбнулась. Мне было совестно, но я не могла сдержаться. И Семен тоже улыбнулся.
– Чего ты улыбаешься? – с возмущением спросила я.
– А ты чего?
– Ничего. Чисто нервное.
– Неправда. Ты подумала то же, что и я.
– Что же?
– Что Ростик, должно быть, сперва пожалел лису…
– Нет, я подумала, что он хитрит, ему не с руки приезжать сейчас, и он выдумал причину поромантичнее…
– Нет, это правда, – сказал Семен, должно быть так и не научившийся лгать, – у него такие подробности в письме. Целую страницу отвел описанию привычек и наклонностей этой лисы. Зовут ее, кстати, Эвелина. Ты же помнишь, он любил красивые имена.
– Интересно, какой он стал?..
– Два года назад он приезжал в Москву. Ты была где-то в отъезде. Он растолстел, говорит, что жена у него замечательная, тоже очень любит животных. Детей нет, зато в доме полно собак и кошек, есть даже енот и пятнистый олень по имени Роланд, как же иначе?
– Он счастлив?
– Судя по письмам – абсолютно, хотя зарплаты не хватает, все уходит на прокорм всей этой живности… Помнишь, как когда-то у Евгения Макаровича? Но все равно он счастлив, это главное!
Я посмотрела на Семена. Мы ведь давно не виделись, я не знала, как сложилась его жизнь. Он сказал:
– А я женился. Семь лет тому назад.
– Поздравляю. Очень рада за тебя и за нее.
– Ты знаешь ее.
Я все-таки женщина, я не могла не спросить, кто она.
– Ты знаешь ее, – повторил он. – Она моложе меня, намного моложе, но мы живем очень хорошо, дружно.
– Кто же она, скажи?
– Аля, дочь Таисии Михайловны.
И тут я вспомнила: ведь Аську Щавелеву полностью звали Таисия Михайловна.
Всю войну Аська получала письма от своего мужа Степана Федоровича.
Аська ликовала, по нескольку раз перечитывала немногие строчки, бурно целовала бумагу, потом кидалась к Але, крепко прижимала ее к себе.
– Папка наш жив! – кричала Аська. – Слышишь, дочка, живой наш папка!
И мы все радовались за нее, только Дуся Карандеева, у которой муж пропал без вести с начала войны, иной раз завистливо вздыхала:
– Везет нашей Аське невпроворот…
Но вот война кончилась, и письма от него вдруг перестали приходить.
Аська выплакала себе все глаза и все время твердила одно и то же:
– Он погиб, это я всеми своими жилочками чувствую…
Потом принималась целовать Алю, причитая над ней:
– Сиротинка ты моя разнесчастная, что же теперь с нами будет?!
Аля, тоненькая, вытянувшаяся не по годам – ей минуло четырнадцать, – хмурилась, недовольно останавливала ее:
– Хватит, довольно. Зачем ты так?
Аська испуганно замолкала, но, когда Аля уходила в школу, вновь принималась причитать и плакать, и тогда старик Карандеев, окончательно высохший, но не утративший своей на диво живучей неприязни, выходил из комнаты и гудел в коридоре:
– Когда это кончится?! Жизни от тебя нет, покою не найдешь ни днем ни ночью. Все одно никто тебе не поверит: как гонялась за кобелями, так и будешь гоняться…
В ту пору Семен уже демобилизовался. Иногда вечером заходил к Аське. Аська изливала ему свои горести, он слушал, молча следя глазами за Алей.
Аля была старательной, все вечера сидела за уроками.
Порой оборачивалась к Семену, застенчиво спрашивала его:
– Как будет по-немецки «лес шумит»?
– Надо подумать, – отвечал Семен. – Лес будет «дер вальд», а вот как шумит – не знаю. У тебя есть словарь?
Вместе с Алей он искал нужное слово в словаре и еще помогал ей решать задачи по алгебре и геометрии.
Зато Аля тоже помогала ему – иной раз принесет продукты, сготовит обед или постирает. Ведь Елена Прокофьевна уже ничего не могла делать по хозяйству: осложнение после гриппа сказалось на ее суставах, она вся согнулась, скукожилась, пальцы некогда ловких рук стали распухшими, искривленными…
Как-то к Семену зашел отец, начал было разговор о том, что вроде у него есть сын и вроде нет, и как же так можно? Люди расходятся, а дети, в конце концов, ни при чем, не их это дело…
Но Семен так и не дослушал отца, взял и выставил его молча за дверь.
11Однажды Аська получила письмо. Едва прочитала первые строчки, как закричала дурным голосом:
– Живой! Он живой, люди добрые, живой, живой!..
Через несколько минут все в доме знали о том, что случилось с Аськиным мужем.
Он был ранен в Германии уже незадолго до Победы, ему оторвало миной обе ноги. Долгое время он лежал в различных госпиталях, потому что никак не поправлялся, и врачи полагали, что ему уже не выжить. Он выжил и уехал в село под Рязань, к матери покойной жены, бабушке Али.
Он писал, что понимает, Аська еще молодая, ей нужно устроить свою судьбу, искать человека по себе, а он полный инвалид и не хочет быть ей в тягость. И потому он дает ей свободу и нисколько на нее не серчает, дело житейское. Об одном просит ее: если надумает она построить новую семейную жизнь, а его дочь ей в том помеха, пусть отошлет девочку по адресу, который прилагает в письме, к бабушке.
– Долго думал! – кричала Аська, заливаясь счастливыми слезами. – Вы только послушайте, люди добрые, он мне свободу решился дать, полную свободу! Добрый какой нашелся! А на кой, понимаете, ляд мне свобода без него и без Али?!
В эти дни она словно бы помолодела, опять стала похожей на прежнюю Аську.
Глаза ее искрились победным блеском, она чертом носилась по двору и всем, кого бы ни встретила, охотно рассказывала, что придумал ее дорогой благоверный, – она так и выражалась: «дорогой благоверный», – и что они с Алей просто смехом смеялись над его письмом.
Впрочем, Аля не смеялась. Только когда Аська, окончательно расходившись, вдруг начинала плакать и причитать: «Несчастный ты мой, да как же это с тобой приключилось? Да почему это с тобой такое?!» – Аля тихонько дергала ее за руку:
– Не надо, мама, успокойся, не надо…
– Мы поедем за ним, – решила Аська. – Он, дурак, небось и ждать нас не ждет и не думает, что он мне во всяком обличье нужный, хоть без ног, хоть без рук, мы поедем и привезем его домой.
У Али была не по возрасту трезвая голова.
– А как он доберется до поезда? Ведь от деревни до станции километров двадцать, а в колхозе могут лошадь не дать. Все лошади в поле…
Аська задумалась. А что, если так?..
Целую ночь она пролежала без сна, думала, размышляла, прикидывала. На рассвете поднялась ни свет ни заря, приказала Але:
– Не ходи в школу, дожидайся меня!..
В полдень к нашему дому подкатил большой, красного цвета, совершенно пустой автобус. Он был, видимо, очень древний, скрипел, дрожал, трясся и скрежетал всеми своими частями; казалось, еще немного – и он окончательно развалится.
В кабине водителя сидела сияющая Аська.
– Поехали, – быстро сказала Аська Але. – Мне в парке автобус дали, он списанный, но ничего, я с ним справлюсь. Не впервой!
Весь наш дом ждал приезда Степана Федоровича. Мы с Дусей убрались в Аськиной комнате, вымыли пол, вытерли до алмазного блеска стекла, выстирали и накрахмалили занавески на окне. Дуся напекла пирогов, а Сергей Павлович принес баночку вишневого варенья. Варенье было засахаренное, должно быть довоенное, и мы с Дусей добавили воды и переварили его.
Семен раздобыл бутылку водки и маринованных огурцов. Я отварила картошки, свеклы и моркови для винегрета.
Только старик Карандеев ворчал без устали:
– Какой светлый праздник, скажите на милость! Она его все одно в инвалидный дом сдаст. Сперва комнату под него получит, а потом сдаст, потому как ей мужик нужен, а не инвалид безногий!
Но Дуся сурово прикрикнула на него, и он затих, обиженный и непримиримый.
Они приехали к концу недели.
Степан Федорович стал еще некрасивее, исхудал, постарел, волосы сильно поседели, он тяжело передвигался на костылях, к которым, видно, никак не мог привыкнуть.
Аська и Аля осторожно усадили его на диван. Он положил возле себя костыли, сказал негромко, как бы не веря самому себе:
– Вот я и дома…
Несколько дней подряд дверь в их комнату не закрывалась. Приходили соседи, рабочие с завода, на котором он работал, Аськины друзья из автобусного парка. Каждый приносил с собой что-нибудь выпить.
Все кричали, шумели, смеялись, даже плакали, и все-таки громче всех раздавался Аськин голос.
Она то пела песни, полузакрыв глаза и откинув назад голову, то садилась рядом с мужем, обняв его за плечи, то командовала Але:
– А ну, ставь на стол бутылку, видишь, принесли?
И смеялась от радости, и внезапно принималась всхлипывать, и целовала худое, измученное лицо мужа, и опять хохотала, кричала на весь дом:
– Нет, вы только подумайте – он от меня избавиться порешил, да не на ту напал! Нет, шалишь, со мной шутки коротки, я как болячка нарывная, меня сковырни – опять пристану…
А потом в комнату вошел не кто иной, как старик Карандеев. Он молча поставил на стол бутылку наливки, крепко, с чувством пожал руку Степану Федоровичу, обернулся к Аське и медленно произнес:
– Давайте выпьем с вами, Таисия Михайловна, за счастливое возвращение вашего супруга…
И ошеломленная Аська, на минуту лишившись слов, чинно чокнулась с его рюмкой.
12…– Нам дали квартиру в Кузьминках, – сказал Семен. – Квартира хорошая, в новом доме, лифт туда и обратно, так что Степану Федоровичу удобно, только Але далеко от работы…
– Она кем работает?
– В научно-исследовательском институте.
– А что она окончила?
– Строительный институт, – чуть горделиво произнес Семен. – Диплом с отличием.
– А как Ась… Как Таисия Михайловна?
– Она на пенсии, по-прежнему все такая же… – он поискал слово, – активная. Стала общественницей в нашем ЖЭКе. Командует всеми дворниками и лифтершами, они ее как огня боятся…
Глаза его сощурились в улыбке.
– В прошлом году задумала даже в дружинники записаться, едва мы с Алей удержали ее…
Я спросила:
– У вас дети есть?
– Сын, – ответил он. – Четыре года и один месяц.
– И сколько дней?
Он серьезно ответил:
– И восемь дней.
– Как зовут?
– Виктор. Мы замолчали.
– Больше всех Витька любит Степана Федоровича. Старик просто от него не отходит. Витька был еще совсем маленький и все никак не хотел заснуть, а старик сидит возле его кроватки, поет военные песни: «Идет война народная», «В лесу прифронтовом», «Землянку», – аж весь взмокнет, только замолчит, а Витька вдруг: «Деда, пой еще про войну!» Дед уверяет, что Витька будет полководцем, на меньшее он не согласен.
– Хотелось бы их всех увидеть, – сказала я.
– Поедем хоть сейчас.
– Сейчас? Не знаю…
– А мы тебя все помним. Все твои очерки читаем. Аля вырезает из газеты. У нас, если хочешь знать, уже целый альбом твоих вырезок. Слушай, а как это ты стала журналисткой?
– Да так как-то получилось…
– Все-таки?
– Сперва писала в заводскую многотиражку, потом мне стали иногда давать задания из «Московского большевика», а потом я ушла с завода в газету…
– Смотри-ка! – с удивлением произнес Семен. – Кто бы мог подумать? Ведь раньше ты не была выдумщицей. Помнишь, как мы рассказывали наши истории, ты ничего не умела сочинять…
– А я и теперь не сочиняю. Пишу то, что вижу.
– Ты бы о нас написала, – сказал он. – О Витьке…
– Пишу, – сказала я. – Только об этом еще никто не знает. Ты первый.
– О ком ты еще пишешь?
– О тебе, о Ростике, даже о старике Карандееве, в общем, никого не пропускаю…
– А что ты обо мне пишешь?
Я невольно усмехнулась. Когда-то Витька уверял меня, что люди делятся на детей и взрослых. Витька принадлежал к детям, это точно, но Семен… вот бы уж никогда не подумала, он был такой трезвый, уравновешенный…
– Чего ты смеешься? – спросил Семен.
– Ничего. Своим мыслям, тебя они никак не касаются.
– Если обо мне будешь писать, то так и знай: я счастливый. Мне повезло, по-моему, даже больше, чем Ростику.
– Я рада, что ты счастливый. Не каждый может так сказать о себе.
– Я могу. Она меня любит, и я ее люблю. Мы по-настоящему счастливы, по самому большому счету!
Мне показалось, он стремится убедить не только меня, а прежде всего себя.
Он взглянул на меня и словно бы понял то, о чем я подумала. Лицо его густо покраснело. Он еще не утратил давней своей особенности быстро заливаться краской.
– Нет, правда, мы то, что называется счастливая семья.
– Я же тебе и так верю…
Он сказал медленно, словно обдумывая каждое свое слово:
– Только иногда мне кажется – ей скучно со мной. Ведь она много моложе меня. А может, это мне кажется?
Я улыбнулась, хотя то, что он говорил, вовсе не было веселым.
– Может, и правда кажется?
Он помедлил немного:
– Нет, не кажется…
– Ты уверен?
– Пожалуй.
– Хватит, – сказала я. – К чему это?
Он спросил с болью, настолько очевидной, что нельзя было ей не поверить:
– А кому я еще могу сказать, как не тебе?
– Говори.
– И скажу. Я тебе все скажу, все-все.
– Давай.
Он говорил отрывисто, не глядя на меня:
– Я понимаю. У нее это все от жалости. Да, она просто пожалела меня.
Я возмутилась:
– Что ты выдумываешь? При чем здесь жалость?
Но он не слушал меня, он повторял с горькой убежденностью, которую, я знала, ничем не переломить:
– У нее все от жалости. Только от жалости…
Я ничего не ответила. Он сказал:
– Я приехал с фронта, нога… сама видишь, ну и вот, я ходил к ним, к ней и к Таисии Михайловне, подолгу сидел у них, и они постепенно привыкли ко мне. Но ведь привычка еще не любовь, верно?
– Привычка свыше нам дана, – сказала я и осеклась, мысленно обругав себя. Тоже нашла время и место показывать свою эрудицию!
Но он не обратил на мои слова никакого внимания.
– А потом как-то так получилось, что я понял – не могу без нее. Не могу – и все тут. Но я понимал также, что намного старше ее, и я боялся сказать хотя бы одно слово, я бы никогда в жизни не признался, и тут…
– Аська вмешалась? – догадалась я.
Он ненавязчиво поправил меня:
– Таисия Михайловна. Да, она как-то, когда Али не было дома, прямо так и сказала мне: «Ты об чем думаешь? Ждешь, когда ее из-под твоего носа уведут?»
– И что же?
– И тогда я сказал Але все, что хотел…
Я спросила, чтобы как-то переменить тему:
– Аля изменилась? Какая она теперь?
– Красивая, – сказал Семен. Глаза его прояснились, стали мягкими, теплыми, и я вдруг поняла, как сильно и преданно любит он ее. Неужели она не ценит такую любовь? Неужели не понимает своего счастья?
Он произнес задумчиво, словно отвечал невысказанной мной мысли:
– Она хорошая. Очень хорошая. Но, конечно, я все понимаю, ей нужен был бы другой, намного моложе…
Взглянул на меня, торопливо, словно боялся, что я перебью его, сказал:
– А вообще-то мы счастливы! Честное слово, все у нас хорошо…
– Верю, – сказала я. – А когда-нибудь ссоритесь?
– С кем? С Алей?
– Да.
– Всяко бывает. А вообще редко, все равно я не выдержу, прав или не прав, первый заговорю с ней…
– А мы с Витькой когда-то решили: никогда не ссориться, во всем уступать друг другу.
– И Витька сказал, конечно, что будет уступать первый?
– Откуда ты знаешь?
– До сих пор мне его не хватает. Иногда проснешься ночью, все спят, кругом тихо, спокойно – и вдруг словно лбом о стену. А его нет. Нет Витьки…
Я промолчала. Что я могла ответить ему? Вся моя жизнь, все последующие годы были пронизаны памятью о Витьке, я не могла, даже если бы и хотела, разминуться с памятью о нем. Даже теперь, спустя годы, я старалась проследить его жизнь на фронте, неведомую мне и оттого еще более страшную, я постоянно спрашивала себя мысленно: «А что сказал бы Витька? А как бы ему это показалось? Если бы он знал это, если бы видел…»
– Когда я стал старше, я понял, что было в нем главное, – сказал Семен.
– Что же?
– Талантливость. Он был талантлив во всем: и в любви, и в дружбе, и в отношении к людям. Знаешь, я не могу тебе объяснить, как это получается, но люди к нему тянулись так, словно к огню, когда, скажем, холодно, охота согреться и всем хочется поближе к огню…
Он чуть испуганно взглянул на меня.
– Ты не смеешься надо мной? Конечно, я не умею писать очерки…
– Я поняла все, что ты сказал…
– Люди всегда тянутся к таланту, каждому хочется погреться возле таланта, не правда ли?
– Пожалуй, ты прав.
– Его все любили. Все, кто знал его…
Я молча кивнула.
– Он получал больше всех писем. А ему никто не завидовал. Тем, кого любят, по-настоящему любят, не завидуют.
Я тоже так думала.
– Он перечитывал твои письма, – бывало, сидит над письмом, словно наизусть его учит. Я спросил его как-то, чего это он так долго изучает, а он говорит: «Как думаешь, что теперь делает наш Катющенко?»
– Не надо, – сказала я. – Сейчас не надо.
Семен порылся в кармане, вынул конверт, перевязанный тонкой бечевкой.
– Это тебе.
Я раскрыла конверт – и увидела мои письма, целую связку исписанных моим почерком листков. И еще там лежала маленькая фотография. В холодном, мерцающем свете звезд я разглядела свое лицо, сердитое лицо подростка, не любившего сниматься.
На оборотной стороне уже почти стерлись слова, написанные мною тогда:
«Жду тебя. Твой Катериненко-Катерская-Катющенко».
Я спрятала конверт в сумку.
И вдруг случилось чудо, ведь чудо всегда случается, если его ждешь… Внезапно ожили слова, что когда-то были сказаны здесь…
Они пролились, словно дождь, они перебивали друг друга и в то же время, не сливаясь, продолжали звучать в моих ушах, и я отчетливо различала среди многих других голос Витьки.
Я неслышно повторяла за ним все то, что он говорил, я ловила губами его слова, как снежинки, глотала их, не насыщаясь, а они лились на меня, возрожденные, оттаявшие, радостные, потому что им все-таки суждено было снова ожить.
Может, Семен слышал то же, что и я?
Я прижалась лицом к его щеке. Я знала, мы оба думаем об одном и том же.
О том, что надо уметь помнить. Продолжать любить и не страшиться вспоминать то, что прошло и уже не вернется.
– Поедем к тебе, – сказала я. – Вот сейчас прямо возьмем такси и поедем.
– Поедем, – сказал Семен.
Мы вышли на улицу, одновременно оглянулись. Пустырь лежал за нашей спиной, и ветер беспрепятственно, все нарастая, гулял над ящиками, досками, кучами щебня и мусора, таившими в себе молчаливые останки жизни, некогда шумной и суетливой.
И показалось – там, на том самом месте, где была наша «Трубка мира», стоит девочка, которую я хорошо знаю.
Еще издали мне увиделись ее приподнятые, острые плечи, всегда растрепанные волосы.
На какой-то миг я опять ощутила прежнюю утреннюю радость, когда, просыпаясь, я предчувствовала впереди долгий день, обещавший все сразу: яблочный запах первого снега, свежий ветер с Москвы-реки, Витькины насмешливые глаза…
Над головой девочки сияли в полную свою силу осенние крупные, светлые звезды. Они то вспыхивали, ярко переливаясь, то почти гасли. Может быть, это были те самые нейтронные звезды, чье свечение длится всего-навсего тысячу лет и ни одного дня больше…








