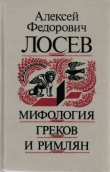Текст книги "Языки современной поэзии"
Автор книги: Людмила Зубова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
И растет, наплывает тревога, трирема, трагедия, трещина,
и никак не растает таблетка, облатка, тусклая капсула,
рассосаться не может ее оболочка, обложка, обличив, облачко,
раствориться не хочет окно, циркуль, соль и любое творение,
и никак не нащупать опору, основу, корпус, остов, корпускулу.
Такие ряды напоминают синонимические цепочки в средневековом стиле «плетение словес» (XIV–XV вв.), например, в сочинениях Епифания Премудрого. Этот стиль орнаментальной прозы (возможно, что и ранней поэзии – Матхаузерова, 1974: 86–90) возник из идеи исихазма о непознаваемости и неназываемости Бога, истины (см.: Прохоров, 1968).
Как будто иллюстрируя эту идею, стихотворение заканчивается словами между тем как душа все отходит от тела, все ширится трещина, / все отходит от берега лодка, трирема, трагедия, истина.
Различная предметная отнесенность существительных одной лексико-семантической группы, объединенной значением ‘документальное подтверждение чего-л.’, организует такое стихотворение:
ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
1. …вот направлениев кино,
2. анкетаза пальто,
3. менютеатра (там давно
дают совсем не то:
там в основном идет вода,
парад
или развод;
покажут деньги иногда,
не чаще раза в год),
4. рецептна поезд и постель,
5. приказ, что мне семь лет,
6. указна блюдо для гостей, (?)
7. вот проезднойна хлеб,
8. рекомендацияза свет,
за телефон и газ,
9. вот в поликлинику билет.
10. путевкав первый класс,
11. актпостановки на прикол
учета за жилье,
12. а этот старый протокол—
из прачечной белье,
13. свидетельствоо чистке штор
и пары свитеров
14. и двухсторонний договор
с врачом о том, что я с тех пор
практически здоров:
14. 1. физически;
14. 2. психически;
14. 3. фактически;
14. 4. и всячески;
14. 5. по соглашению сторон
я с двух сторон здоров.
Я отдаю себе отчет,
что это просто бред.
15. К нему подколот крупный счет
за справку, что вода течет
в сберкнижкуза билет
16. с сопроводительным письмом
о том, что справокнет,
поскольку счастья в жизни нет,
поскольку жизни нет [449]449
Строчков, 2006: 304–305.
[Закрыть].
В этом тексте слова направление, анкета, меню, рецепт, указ, приказ, проездной, рекомендация, билет, путевка, акт, протокол, свидетельство, договор, счет, справка, сопроводительное письмоотнесены к иным предметам и ситуациям, чем предполагает норма. Неназванными, но подразумеваемыми оказываются слова квитанция, карточка, чек, прописка, заказ.
В некоторых случаях основой переименования является полисемия именно неназванного слова. Так, абсурдное сочетание проездной на хлебвозникает, вероятно, потому, что существует сочетание карточкана хлеб, а слово проездной(предпочитаемое москвичами для обозначения долговременного билета на транспорт) иначе называется карточкой(словом, более употребительным в Петербурге). Возможны и другие мотивации сочетания проездной на хлеб: покупатель получает в кассе чек, а в языке есть и выражение дорожный чек;за хлебом надо ехать на транспорте.
Словом карточкаобозначается и документ, дающий право на постоянное обслуживание в поликлинике (официальное название – история болезни) – у Строчкова это в поликлинику билет.
Иногда переименование связано с содержанием документа. Например, сочетание анкета за пальтоможно объяснить тем, что в квитанции ателье или химчистки обозначаются некоторые сведения, типичные для анкеты: фамилия, адрес, телефон. Протоколиз прачечной – вероятно, потому, что в соответствующей квитанции, как в протоколе, перечисляются предметы одежды, постельного белья и, возможно, приводятся сведения об их загрязненности. Не исключено, что в данном случае действует и ассоциация с фразеологизмом стирать грязное белье [450]450
Варианты: полоскать грязное белье; перебирать грязное белье; рыться в грязном белье.
[Закрыть]в значении ‘обсуждать непривлекательные подробности частной жизни’.
Строка Приказ, что мне семь летнапоминает и о том, что семилетний ребенок поступает в школу, и это фиксируется приказом в школьных документах, а также о том, что взрослые постоянно приказывают первокласснику, говоря, что он теперь уже совсем большой.
В некоторой степени это стихотворение напоминает «путаницы» фольклорных текстов и произведений для детей (см.: Чуковский, 2003: 500–504), активизирующие в сознании представление о правильном устройстве мира, а также абсурдистские семантические эксперименты обэриутов. Однако эксперимент Строчкова по переименованию документов касается не логики мироздания, а логики языка.
В начале стихотворения строка там в основном идет водаотносится и к меню ресторана или столовой, и к репертуару театра, причем словом водаобозначено сразу несколько явлений: возможно, не только водянистая пища и пустословие, но и вода, капающая из неисправного крана или сквозь протекающую крышу, или постоянно текущая из сливного бачка. В последней строфе опять названа вода, вероятнее всего, связанная с неисправностями оборудования, но эта же вода течет в сберкнижку (обратим внимание на отсутствие запятой после слова течети на бюрократическое выражение текущий счет).
Слова Я отдаю себе отчет, / Что это просто бредимеют, по крайней мере, двойной смысл: это бред и потому, что в тексте все названо неправильно, хотя в авторском переименовании есть свои резоны, и потому, что таким сложным, не вполне логичным образом устроен язык: суть явления одна, а слова для его обозначения нужны разные.
Поэтика Строчкова заметно меняется, хотя ее основой продолжает оставаться многозначность слова. Изменение направлено и к максимальному упрощению, и к максимальному усложнению текста. При упрощении возрастает напряженность ключевого полисемантического слова. При этом ирония критического отношения к языку, в котором слово может значить так много, что теряет ясный смысл, уступает место сильной эмоции, а полисемия из объекта внимания и текстопорождающего импульса становится средством выразить эту эмоцию.
В результате появляются тексты как остро социальные, так и глубоко лиричные. Гражданская позиция поэта Строчкова выражена, например, в стихотворении «Седой кум»:
СЕДОЙ КУМ
Говорит Василий Соловьев-Седой Василию Лебедеву-Кумачу:
– Ораторию заказал мне Джугашвили-палач, посвященную
Ленину-палачу.
И придется писать, хоть, признаться, я совсем не хочу.
Говорит Василию Соловьеву-Седому Василий Лебедев-Кумач:
– Ораторию заказал мне, посвященную Ленину-палачу,
Джугашвили-палач.
Я писать не хочу, но придется писать, хоть плачь.
Написали они вдвоем ораторию про Джугашвили, посвященную Ильичу.
Что они при этом испытывали, пожалуй что, умолчу,
да и о чем они думали, думать я не хочу.
Только в наших душах до сих пор развивается-вьетсяэтот седой кумач.
И по ком этот плач? По себе самому этот плач.
Только слезы эти уже никого не спасут…
……………………………………………………
Дирижировал хором и оркестром народный Самуил Самосуд [451]451
Строчков, 2006: 35.
[Закрыть].
Формальным приемом, на котором основано стихотворение, является, на первый взгляд, простейший каламбур – причем из тех, какие считаются насмешками самого невысокого уровня: он обыгрывает фамилии знаменитых деятелей советской культуры. Однако смысл стихотворения далек от поверхностного, а его тональность от каламбурной забавы. Стихотворение говорит о том, что подневольная и вынужденно лживая советская культура вошла в духовный мир современного человека, несмотря на его сопротивление (да и о чем они думали, думать я не хочу).
Словосочетание седой кумач,объединившее части двойных фамилий поэта и композитора, обозначает в тексте Строчкова потускневшее красное знамя, оно развевается,как и положено этому предмету, и развивается: в наших душах до сих пор развивается-вьется этот седой кумач.Глагол развиватьсяобнаруживает свою полисемию – ‘разворачиваться’ и ‘изменяться от простого к сложному, становиться совершеннее’.
От сочетания седой кумачобразуется название стихотворения «Седой кум», в котором слово кумчитается и как термин семейных отношений со значением ‘крестный отец по отношению к родителям крестника и к крестной матери’ (Ожегов, Шведова, 1992: 321), и как слово из жаргона криминальной среды: ‘оперативный работник, следователь в местах заключения’ (Химик, 2004: 285). Последнее значение соотносится с заключительной строчкой стихотворения Дирижировал хором и оркестром народный Самуил Самосуд,в которой реальная фамилия дирижера, имевшего звание народного артиста, приобретает символический смысл. Первый корень этой фамилии повторяет начало имени Самуил, и здесь, как во многих других стихах Строчкова, обозначается тема евреев в русской культуре: прилагательное народныйотносится одновременно и к слову самосуд, и к возникающему в тексте сочетанию народный Самуил.
Структура второй строфы, почти повторяющей первую, тоже содержательна: этим повтором с минимальными вариациями сообщается (прежде всего на интонационном уровне): всё одно и то же, все всё понимают, высказывание существует в замкнутом пространстве тавтологий. Этот же смысл выражен и совпадением имен поэта и композитора (оба Василии – ср. разговорное междометие вась-вась,обозначающее доверительное общение, приятельские отношения), и общим приложением палачк именам диктаторов.
Пример усложненного текста (вполне понятного, но максимально насыщенного преобразованиями языковых единиц одновременно на всех уровнях – фонетическом, грамматическом, семантическом, образном) – стихотворение «Именно так обозначен был этот звук»:
Именно так обозначен был этот звук,
именно так: помаячил и был таков.
Именно так, не иначе, именно так,
словно бы кто помахал, подавая знак,
слабой рукой помавая, глубоко ушедшей в рукав
после того, как замер звук в тишине,
после того, как зуммер знака затих.
Был ли тот знак, тот звук предназначен мне,
или я принял его за других, за тех,
то ли он принял меня за тех, других?
Так ли, иначе ли, звук этот, знак возник,
слабый, как если сквозняк или зевок,
или в курятнике ночью звук возни,
или возьми, к примеру, вздохнул завод
у заводной игрушки уже потом,
после того, как она завалилась вбок,
кончив кружить; или коротко взныл кото* [452]452
Примечание В. Строчкова: «Японский струнный музыкальный инструмент, разновидность цитры».
[Закрыть],
струны которого зацепил клубок
или лапой котенок, который играл
этим клубком и, задевши за звук, удрал
вскачь, боком, боком, задрав восклицательный хвост.
Так ли, иначе, но так я и не узнал,
был так озвучен знак, то ли означенный звук
был порожден случайным движением рук,
обозначал ли он некий зов и сигнал,
мне предназначенный, или же просто крюк,
нотный знак, обознавшийся в паузе мной,
всхлип темноты, обожравшейся тишиной,
был ли у знака в начале заначен вопрос,
или у звука в конце вопросительный хвост [453]453
Строчков, 2004: 342–343.
[Закрыть].
Здесь речь идет о творческом импульсе. Этот импульс по ситуации, изображенной в тексте, возникает, соблазняет, дразнит и исчезает. Стихи предстают своеобразным отчетом о творческих муках: о бессилии распознать звук-знак и воплотить его. Строчков детально описывает возникновение неясного звука и пытается как-то его обозначить: то собственно фонетически – звукописью с доминирующими з, з’( звук – знак – возник – сквозняк – зевок – возни – возьми – вздохнул – завод – заводной – завалилась – взныл – задевши за звук – задрав),то метафорически – с развернутым сюжетом про котенка, разматывающего клубок, то упоминанием экзотического музыкального инструмента кото,порождающим серию анафорически созвучных слов ( кото – которого – котенок – который).Можно заметить, что глухие к, тэтого ряда противопоставлены звонким и звучным з, з’предыдущего ряда, что создает фонетический образ исчезновения звука. В многократной анафоре кото-(видимо, порожденной именно названием звукообразующего устройства) созвучие начальных фрагментов слов затухает в несовпадающих фрагментах этих слов. В таком контексте сочетание взныл котоконцентрирует в себе и напряжение фонетического контраста з, з’ – к, т,и противоречие между коннотациями, возникающими в сочетании русского глагола с названием японской реалии.
Здесь еще важна фонетическая близость слов котои кто.В просторечном произношении с добавочным гласным, воспроизводящим древнерусское произношение, местоимение ктоупотребляется и в синтаксической позиции литературных местоимений кто-нибудь, кто-то.Это вполне органично соответствует и конкретной семантике фрагмента (словно взныл кто),и общему смыслу текста про неясность, неопределенность звука как знака. А котенок, который разматывал клубок (возникает и фразеологическая ассоциация с выражением клубок противоречий),а потом удрал / вскачь, боком, боком, задрав восклицательный хвост,предстает неким воплощением своенравной музы и одновременно мифологической Ариадны с ее путеводной нитью.
Глагол взнылв таком контексте по смыслу может изображать не только звук музыкального инструмента, но и эмоциональный возглас.
Значение интенсивности, присущее экспрессивному неологизму взныл,усиливается разнообразными способами, специфичными для поэзии. Конечно, в этом случае имеется прямая производность неологизма взнылот слова взвыл.На фоне звуковых контрастов эти слова обнаруживают дополнительную системную связь, определяемую поэтической системой контекста: взвыл– выразил эмоцию громко и как обычно, как все, а взнылтихо, но с большим отчаянием и по-своему. Таким образом, в семантику слова взнылвходит вся та экспрессия, которая содержится в звуковом и образном воплощении стихотворения.
И при упрощении, и при усложнении текста полисемантический язык Владимира Строчкова осуществляет программу, соответствующую направлению языковой эволюции: «язык стремится к передаче все большего количества информации в единицу времени» (Николаева, 2000: 30).
Александр Левин: грамматический театр
Опишу ли, опишу ли
Опишулечки мои.
А. Левин
Александр Левин [454]454
Александр Левин (1957 г.р.) живет в Москве. Поэт, музыкант, журналист, редактор. По образованию инженер-электроник, специалист по компьютерным технологиям (автор многочисленных изданий книг «Самоучитель работы на компьютере», «Самоучитель полезных программ» и др.). Основные поэтические книги: Левин, 1995-а; Левин, 2001; Левин, 2007. Сборник стихов, совместный с В. Строчковым: Левин, Строчков, 2003. Большинство стихотворений из этих книг являются и песнями, некоторые из них изданы на аудиокассетах и компакт-дисках в исполнении автора: Левин, 1997; Левин, 1999; Левин, 2004; Левин, 2006-б.
[Закрыть]назвал один из разделов своей первой книги лингвопластикой. По существу, поэтический язык этого автора в целом представляет собой лингвопластику в разных ее проявлениях. В очень большой степени языковые эксперименты и преобразования в стихах Левина связаны с грамматикой. Этого поэта можно назвать режиссером грамматического театра, в котором части речи, формы слова, морфемы и все прочие элементы языка, перевоплощаясь, играют роли, вполне для них органичные. При этом создается особая реальность, позволяющая познавать мир подобно тому, как дети познают его в ролевых играх.
Александр Левин и Владимир Строчков, объясняя принципы их поэтики, написали:
Путь, выбранный в пространстве языка А. Левиным, пролегает через области активного воздействия на слово с использованием его как бы физических свойств: расчленяемости, способности к слипанию и сплетению с другими словами, растягиваемости, сжимаемости и других видов пластической деформации. Отсюда пошел термин «лингвопластика».
(Левин, Строчков, 2001: 170)
Многочисленные языковые эксперименты Левина давно замечены лингвистами (см., напр.: Штайн, 1996; Николина, 1998; Хасанова, 1999; Зубова, 2000; Ремчукова, 2005; Скворцов, 2005; Фатеева, 2006: 53–57).
Игорь Лощилов пишет об этом авторе так:
Миры суффиксов, корней и приставок, загадочный мир синтаксиса превращаются в некий лимб, из которого читатель слышит голоса нерожденных существ и непроявленных сущностей, заставляющих сложным сочетанием органики и механицизма вспомнить изобразительный опыт Эшера, Дали, Руссо, «насекомый мир» Н. Олейникова и Н. Заболоцкого, хармсовский вкус к детскому слову и слуху, хлебниковское «корнесловие». Специфически «левинским» кажется невообразимая (чуть было не сказалось «невыносимая») легкость этой поэзии, явственно слышимая в авторском пении-исполнении.
(Лощилов, 1995).
При всем этом поэтическое сообщение Левина серьезно по существу: его языковая игра наполнена онтологическим смыслом трансформаций как наиболее полного и адекватного проявления бытия, как воплощения разнообразных возможностей [455]455
О философии трансформаций см.: Каган, 2001: 52–67.
[Закрыть], а «в сердцевине, в глубине Левин – сокровенный лирик, извлекающий поэзию и лиризм оттуда, где им, казалось бы, и места уже нет» (Анпилов, 2006: 359).
Рассмотрим один из самых ярких примеров трансформации частей речи в стихах Левина:
РАЗНЫЕ ЛЕТАЛИ
За окном моим летали
две весёлые свистели.
Удалые щебетали
куст сирени тормошили.
А по крыше магазина
важно каркали гуляли
и большущие вопили
волочили взад-вперёд.
Две чирикали лихие
грызли корочки сухие,
отнимая их у толстых
косолапых воркутов.
А к окошечку подсели
две кричали-и-галдели
и стучали в батарею,
не снимая башмаков [456]456
Левин, 2007: 104.
[Закрыть].
В этом стихотворении большинство преобразованных форм – глаголы звучания: свистели, щебетали, каркали, вопили, чирикали, кричали, галдели [457]457
Ср. также в цикле В. Хлебникова «Птичка в клетке»: И я свирел в свою свирель, / И мир хотел в свою хотель(Хлебников, 1986: 41); Там, где жили свиристели, / Где качались тихо ели / Пролетели, улетели / Стая легких времирей(Хлебников, 1986: 42).
[Закрыть]. Предикаты в этом тексте превращаются в субъекты, и звуки становятся именами (ср. название птицы свиристель,во множественном числе омонимичное глаголу). Даже слово гуляли,в своем словарном значении не обозначающее звука, в этом тексте становится звукоподражательным (ономатопеей), тем более что оно очень похоже на словоформу гулили.В грамматических трансформациях устраняются специфически глагольные значения времени и вида, но при этом во всех случаях сохраняется значение динамики, заложенное в глагольных основах: динамика освобождается от частных признаков. Возникают значения конкретности и одушевленности. Появляется потенциальная промежуточная форма *гуляльили *гуляля(с немаркированным грамматическим родом).
На восприятие форм влияют словообразовательные ассоциации с существительными на – аль, – ель.Это могут быть слова мужского рода со значениями лица и деятеля – враль, коваль, строгаль,женского рода – удаль, печаль, невидаль, падаль, капель(все они генетически тоже отглагольны, хотя в современном языке их глагольное происхождение почти не ощутимо); слова на – ля– существительные женского рода, обозначающие птиц, животных, людей: цапля, гуля, косуля, козюля, краля, пискля, мямля, рохля, роднуля, капризуля, чистюля, грязнуля(обозначения людей преимущественно экспрессивно-оценочны, некоторые из них образованы от глаголов – пискля, мямля,некоторые от прилагательных – роднуля, чистюля, грязнуля).
В результате авторское включение слов свистели, щебетали, каркали, вопили, чирикали, кричали, галделив класс существительных актуализирует эти многочисленные языковые ассоциации слов, входящих в перечисленные ряды. Значение признака легко включается в авторские слова, потому что форма прошедшего времени когда-то его уже имела, поскольку была кратким причастием.
Другой пример – стихотворение «Когда душа стрела и пела…»:
Когда душа стрела и пела,
а в ней уныло и стонало,
и ухало, и бормотало,
и барахло, и одеяло…
О чём мы думали тогда?
О чём качали головами?
Что лучше – ахать или похоть?
Что лучше – лапоть или выпить?
Что лучше – тень или отстань?
Что лучше – осень или плесень?
Ну, перестань…
Такси меня куда-нибудь,
туда, где весело и жуть,
туда, где светится и птица,
где жить легко и далеко,
где, простыня и продолжаясь,
лежит поляна, а на ней
Полина или же Елена,
а может Лиза и зараза,
а может Оля и лелея,
а я такой всего боец…
Но там другой всему конец,
но там сдвигаются мотивы,
гремучи и локомотивы,
но там, права или трава,
болит и лает голова,
и наступающее худо
выходит медленно оттуда [458]458
Левин, 2007: 166.
[Закрыть].
В первых двух строчках стихотворения обозначены два противоположных состояния души, изображена раздвоенность ощущений, которая и задает интенцию грамматической неоднозначности слов. Динамизируя устоявшиеся в языке синтаксические связи, Левин приводит в движение субстанции, свойства, действия и заставляет слова обмениваться функциями. Это связано с воспоминанием о прошлом языка, с языковыми фантазиями, может быть, образами будущих слов. Так, подразумеваемые инфинитивы *стреть, *уныть, *одеятьпредставляют собой утраченные звенья словообразования. А потенциальные инфинитивы для глагольных форм барахло, простынязагадочны и призрачны.
И при частеречных, и при семантических трансформациях автор осуществляет своеобразную ревизию языка, создавая смысл и сюжет из намеренно неправильного, но вполне возможного понимания привычных слов.
Сюжетообразующей является и фонетика. Каждая строка фрагмента с именами содержит плавные звуковые переходы от одного имени к другому: лежит пол( яна, а на) ней; Полина ( илиже Еле)на; а может Л( иза и за)раза; а может О( ля и лелея).
Имя Полинаявляется в тексте фонетически производным от слова поляна(человек сливается с природой в фонетическом образе), союз илипредваряет появление имени Елена,а звуковой комплекс л ижена стыке слов или жеведет к имени Лиза,активизируя его созвучность с глаголом лизать.Эта псевдоэтимология поддерживается словом зараза.Имя Оля,возможно, тоже оказывается здесь по ассоциации с заразой: в 80-х годах появилась песенка со словами: Спит, спит, спит / Оля с кем попало, / А про СПИД, СПИД, СПИД / Оля не слыхала [459]459
Группа «Анонс», 2007.
[Закрыть]. Имя Оляпроявляет себя как возможное деепричастие, так как следующее имя – Лилия– дано сразу в виде деепричастия лелея(ср. архаико-поэтическое название цветка лилéя).Сочетание Оля и лелеяявляется также производным от созвучного фразеологизма холить и лелеять,вполне естественного в деепричастной форме.
Конечно, то, что мы видим в этом стихотворении, можно назвать и омонимическими каламбурами, но сгущение грамматических трансформаций в тексте дает представление о возможностях иной категоризации понятий, язык приводится в состояние первозданного хаоса с его архаическим синкретизмом и тут же гармонизируется заново поэзией превращений, то есть осуществляется деконструкция.
Особенно наглядно принцип деконструкции проявляется на примере существительного боециз строки а я такой всего боец.Левин переосмысливает слово, оставляя в неприкосновенности его морфемный состав.
Это слово в стихотворении могло бы восприниматься как семантически производное от словарного боец– ‘воин’, но здесь акцентируется не преемственность контекстуального значения, а его независимость. Можно представить себе такую логику в конструировании авторского слова: общелитературное значение слова боец– не единственно возможное для языка. То, что этим словом назван активный и в идеале смелый деятель, системно закономерно, но исторически случайно, ибо система допускает и образование слова от глагола бояться.Существует слово боякас тем же корнем (оно употребляется в языке детей или применительно к детям). Следовательно, нормативное лексическое значение боец– ‘воин’ не основано на системной необходимости, оно не определяется ни составом слов, ни способом словообразования. А если так, то корень – бой-противоречив по смыслу (энантиосемичен). Слово трусслишком порицательно, языку нужен и его более мягкий, необидный синоним, которым и могло бы стать слово боец.В стихотворении слово боецдвусмысленно: с одной стороны, бойцом можно было бы назвать мужчину, активного в отношениях с женщинами, но местоимение всегопридает этому слову противоположный смысл.
В лингвистические эксперименты Александра Левина вовлекаются все грамматические категории – и классифицирующие, и словоизменительные.
Рассмотрим пример, связанный с категорией рода: стихотворение «Тридцать первого числа…» [460]460
Другие примеры перемены грамматического рода в стихах Левина см.: Зубова, 2000: 262, 265–266, 271–273, 275–277, 290–293, 296–297.
[Закрыть]. В этом тексте лексическая омонимия, наложенная на перемену грамматического рода, – не просто игровой прием, а такой элемент поэтики, который придает тексту трагическое звучание:
Тридцать первого числа
в небе лампа расцвела,
тыща жёлтиков стояла,
а кругом трава росла.
Грозди белые с каштанов грузно свешивались вверх.
Мы носили нашу сумку в продуктовый магазин,
мы меняли наши деньги на картошку и батон,
мы смотрели, что бывает тридцать первого числа.
Тридцать первого числа
лета краснаяпришла.
Пудель белая бежала,
мелким хвостиком трясла.
Серый ворон хрипло крякал шерстяною головой.
С червяком скакал довольный предпоследний воробей.
Кот мяукал христа ради, разевая нервный рот,
с ним задумчиво ходила кошка, полная котят.
Тридцать первого числа
жизнь весёлая была,
даже музыка играла
тридцать первого числа.
В третьем-пятом магазине мы купили молока.
Нам играли трали-вали в полыселой голове.
Мы смотрели мульти-пульти в минусовые очки,
и тягучим чёрным мёдом солнце плавилось во рту.
Тридцать первого числа
наша очередь пришла,
чья-то ласточка летела.
Лета краснаятекла.
А за нею, ближе к ночи, нам отведать довелось
асфоделевого мёда на цветущем берегу,
где стоим мы, прижимая к нашей призрачной груди
две картонные коробки с порошковым молоком [461]461
Левин, 2007: 149–150.
[Закрыть].
Первое употребление словосочетания лета красная– традиционный поэтизм фольклорного происхождения лето красноесо сдвигом в роде. Замена среднего рода женским имеет прочную опору в народном языке: это диалектная утрата среднего рода словами с непроизводной основой в результате редукции заударного слога [462]462
Дополнительной причиной изменения могла быть и аналогия слов из той же лексико-семантической группы: зима, весна, осень.Ср. с франц. é té‘лето’, изменившим женский род на мужской под влиянием других названий сезонов (Пауль, 1960: 318; Есперсен, 1958: 266).
[Закрыть]. В той же строфе и слово пудельменяет свой род, напоминая историю слова лебедь,у которого есть то же определение, но в качестве постоянного эпитета: лебедь белая.
Трагический смысл приобретают и самое обыкновенное обозначение даты, и вся образная система текста. Автор изображает действия, которые, вопреки обычным ситуациям, не направлены на результат (Мы носили нашу сумку в продуктовый магазин) [463]463
Комментарий А. Левина в письме к Л. В. Зубовой: «Ну, прагматический смысл тут вполне даже имеется. Стихотворение написано в начале 90-х, тогда дефицит продуктов еще не кончился, в одном магазине купить разом все нужные продукты было невозможно, приходилось обходить по три, по пять. Вот и выходило, что таскаешь туда-сюда пустую сумку, как будто это и было абсурдной целью похода».
[Закрыть]и свойства, не характерные для предметов и существ в их обычной жизни. Ворон оказывается не черным, а серым [464]464
Комментарий А. Левина: «Это традиционное неразличение горожанином разных птиц – ворона и вороны. Поскольку в ороны у нас не живут, а ворон полно, то всякий городской ребенок, а также многий взрослый полагает, что это одно и то же. Так что с бытовой точки зрения вполне логично крупного, толстого самца серой вороны называть вороном» (в письме к Л. Зубовой).
[Закрыть]; слова с шерстяною головойбыли бы уместнее для изображения зверя; ворон не каркал,а крякал.То, что ворон крякал <…> головой,можно понимать не как абсурдную избыточность, типичную для наивных философов из прозы Андрея Платонова, а как изобразительный элемент: ворон как будто поднимает голову вверх (или кивает головой), ожидая смерти всего живого, хотя умереть предстоит и ему.
Картина беззаботного лета постепенно наполняется едва уловимыми тревожащими деталями, они накапливаются, и становится ясно, что это признаки конца света. Появляется чья-то ласточка —вероятно, мандельштамовская [465]465
Ср. строки: Когда Психея-жизнь спускается к теням / В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной, – / Слепая ласточка бросается к ногам / С стигийской нежностью и веткою зеленой(«Когда Психея-жизнь спускается к теням…» – Мандельштам, 1995: 152); Я слово позабыл, что я хотел сказать. / Слепая ласточка в чертог теней вернется(«Я слово позабыл, что я хотел сказать…» – Мандельштам, 1995: 152).
[Закрыть].
Знаменитые строки Мандельштама про ласточку ведут за собой тему забвения [466]466
Мандельштамовский подтекст можно видеть и в сочетании асфоделевого мёда:стихи Мандельштама Еще далёко асфоделей Прозрачно-серая весна…(Мандельштам, 1995: 140) – тоже о неузнаваемом приближении смерти. «Асфодели(сем. лилий) – в Греции цветы траура: на асфоделевых лугах в Аиде, по греч. мифам, находят приют души умерших» (Мец, 1995: 548).
[Закрыть], и далее следует строка Лета красная текла(теперь Летас заглавной буквы).
Перемена рода влечет за собой омонимичное существительное, оно придает другой смысл слову красная(теперь красная —‘кровавая'). Вслед за тем и глаголы пришла, теклаобнаруживают свою полисемию. То есть оказывается, что слово пришлауже при первом появлении относилось не только к наступлению лета, но и к смерти (возможно, что женский род слова смертьи дал первый импульс сдвигу лето—> лета—> Лета).А слово теклаподходит не только для того, чтобы говорить о реке, но и для того, чтобы сказать о времени. Совсем стертая языковая метафора течение временинаходит опору в одинаковом звучании слов лето(‘одно из времен года’) и Лета(‘река забвения’ или ‘река времен’). Это стихотворение Левина оказывается связанным и с предсмертными стихами Г. Р. Державина «Река времен в своем стремленьи…».
Для текста Левина принципиально важно, что полисемия слов обнаруживается не сразу. Ведь и на сюжетном уровне речь идет о сигналах, которые не сразу воспринимаются. В частности, и то, что обиходное выражение тридцать первого числаозначает ‘конец света’. Грамматико-семантический сюжет текста – волна смысловых сдвигов, порожденная неустойчивой принадлежностью слова к определенному грамматическому роду, – полностью соответствует сюжету повествования: смерть неизбежна и неузнаваема, хотя во всем есть ее приметы.
Рассмотренный текст показателен и в том отношении, что проявляет одну из самых важных особенностей современной поэзии: давно известные и даже банальные приемы языковой игры (зд. – совмещенная омонимия) выводятся за пределы игровой сферы. Это становится возможным благодаря максимальной функциональной нагруженности слова и формы.
В следующем стихотворении смыслообразующую и сюжетообразующую роль играет категория одушевленности / неодушевленности:
МЫ ГРИБОЕДЫ [467]467
В русском литературном языке слово грибоедимеет значение ‘жук, живущий в грибах и гнилой древесине и питающийся главным образом грибницей’ (Словарь, 1992: 335). Это значение известно далеко не всем носителям языка, о чем свидетельствует его отсутствие в словарях Ожегова и Шведовой, в словаре Ушакова и даже в словаре Даля. Интернет дает словарную ссылку только на Большую советскую энциклопедию. Однако в литературе это слово встречается, например, в таком тексте: «В старых грибах между трубчатым слоем и мясом шляпки всегда проделаны какие-то черные норки, овальные, вытянутые в ширину. Мне ни разу не удалось видеть в грибе самих грибоедов» (Солоухин, 2002: 55). Прозрачная внутренняя форма слова делает его потенциально возможным для обозначения любых существ, которые едят грибы, в том числе и для людей – любителей грибов.
[Закрыть]
Не всякий из нас
решится съесть гриб-маховик:
массивен, велик
и скорость имеет большую.
Но опытный грибоед
умеет и сам раскрутиться,
догнать грибаи спокойно
съесть маховикна ходу.
Не всякий из нас
умеет скушать валуй:
коленчат, тяжёл
и страшно стучит в работе.
Но опытный грибоед
сначала съедает подшипник,
и вывалившийся гриб
становится лёгкой добычей.
Не всякий из нас
любит испытывать груздь:
странное ощущение,
и чешутся перепонки.
Но опытный грибоед
специально ищет то место,
где гроздья изысканных
грустей радуют сердце гурмана.
Не всякий из нас знает,
как высасывать сок из маслёнок;
как правильно из молоканок
выплёвывать молоко;
что нужно перед едой
вырубать коротковолнушки,
иначе они в животе
начинают громко скрипеть.
Мы учим своих грибоедиков
подкрадываться к лисичкам,
выслеживать шампиньонов
и всяких хитрых строчков.
Мы учим своих грибоедиков
так съесть белый гриб-буровик,
чтоб зубы остались целы
и чтоб он не успел забуриться.
Мы любим собраться вместе
и послушать рассказы мудрейшин
о кознях грибов сатанинских,
о доблести и благочестии.
Мы любим своих грибоедиков
и славных своих грибоедок.
Мы любим чесать друг другу
перепонки, наевшись грустей.
Но каждый из нас знает,
что не следует есть мухоморов,
даже если ты очень голоден,
даже если счистить все мухи .
Потому что мы – грибоеды!
И предки у нас – грибоеды!
Поэтому нас, грибоедов,
не заставишь есть мухомор! [468]468
Левин, 2007: 114–116. Все графические выделения мои – Л.З.
[Закрыть]
Грамматический сдвиг от неодушевленности к одушевленности при назывании грибов соответствует типичным явлениям разговорного языка.
В стихотворении омонимическая и паронимическая игра слов порождает причудливое варьирование форм винительного падежа, совпадающего то с родительным, то с именительным. Отчасти это варьирование связано с тем, что «грибы в народных представлениях занимают промежуточное положение между растениями и животными [469]469
Такое же промежуточное положение грибов отмечают и биологи: «Долгое время грибы относили к растениям, с которыми грибы сближает способность к неограниченному росту, наличие клеточной стенки и неспособность к передвижению. Из-за отсутствия хлорофилла грибы лишены присущей растениям способности к фотосинтезу и обладают характерным для животных гетеротрофным типом питания. Кроме того, грибы не способны к фагоцитозу, подобно животным, но они поглощают необходимые вещества через всю поверхность тела (адсорбированное питание), для чего у них имеется очень большая внешняя поверхность, что не характерно для животных. К признакам животных относятся, помимо гетеротрофности, отсутствие пластид, отложение гликогена в качестве запасающего вещества и наличие в клеточной стенке хитина (при отсутствии последнего у растений)» (Грибы, 2009).
[Закрыть]; наделяются демоническими свойствами» (Белова, 1995: 548) [470]470
Подробное изложение мифологии, связанной с грибами, см: Топоров, 1987: 335–336.
[Закрыть], отчасти с особенностью поэтического мира Левина: для этого мира типичны единство и взаимные трансформации органических и неорганических сущностей, что отражено заглавием первого сборника поэта – «Биомеханика», в состав которого включено это стихотворение.
Так, сочетание догнать грибасоздает противоречие не только между нормативной неодушевленностью и контекстуальной одушевленностью [471]471
В. Б. Крысько, не соглашаясь трактовать сочетания типа нашел боровикав рамках категории одушевленности, сближает такое формоупотребление с употреблением существительных в архаических книжных сочетаниях ( победити страха)и разговорных (дать тумака).Согласно его теории, синонимия родительного и винительного падежей предшествовала развитию категории одушевленности (Крысько, 1994: 186). В. Б. Крысько пишет о том, что на вторичный процесс воздействия повлияло поэтическое олицетворение, однако отказывается «признать удовлетворительным» традиционный аргумент: «грибы народным чутьем отнесены к разряду живых существ» (Крысько, 1994: 186–187). Я. И. Гин, в результате подробного исследования связи грамматической одушевленности с олицетворением, пришел к такому выводу: «Совершенно ясно, что никаких формальных преград для грамматического одушевления быть не может – причина в организации плана содержания данной категории» (Гин, 2006: 50).
[Закрыть], но и между обычным представлением о статичности гриба и метафорой движения, основанной на омофонии моховик – маховик [472]472
При устном исполнении текста различие между словами маховики моховики далее груздь – грустьсовсем устраняется.
[Закрыть]. А динамика маховика (детали, приводящей машину в движение) тоже относительна: сам он не перемещается в пространстве горизонтально. Так что глагол догнатьметафоричен и при объекте маховик [473]473
А. Левин в письме Л. Зубовой уточнил: «Я все же имел в виду главным образом, что гриб-маховик не бежит, а вращается. А значит, грибоед должен сначала раскрутиться до скорости гриба (чтобы относительная скорость стала нулевой), так сказать, воссоединиться с грибом и потом его съесть, сидя на нем».
[Закрыть].
Присутствует здесь и другой образ, в котором маховик —метонимическое обозначение машины, которую можно было бы догнать. Если при восприятии текста приоритетен маховик как механизм, слово грибпредставляет собой перифразу, а если приоритетен гриб (поскольку в название стихотворения входит слово грибоеды), то омофония слов моховик – маховикдает импульс к развертыванию метафоры. То, что гриб скорость имеет большую,можно понимать и как воплощение возможного свойства, заданного грамматическим одушевлением гриба. Не исключены и другие объяснения скорости: грибы быстро съедаются, быстро растут (в языке есть устойчивое сравнение растут как грибы).В стихотворении игра слов основана и на многозначности глагола догнать,и на выражении грибная охота(ср.: догнать зверя),и на жаргоне наркоманов: «Догоняться – пить или употреблять наркотики после того, как некоторое количество уже выпито (или употреблено)» (Юганов, Юганова, 1997: 70). Кроме того, в общем жаргоне распространено употребление слова догонятьв значении ‘понимать, догадываться, соображать’ (Химик, 2004: 145).