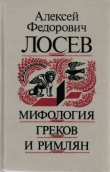Текст книги "Языки современной поэзии"
Автор книги: Людмила Зубова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
В другом стихотворении Кибиров дает грубые, но очень точные характеристики явлениям, обозначенным терминами, в том числе и словом дискурс:
Действительно, восприятие, называемое в психолингвистике и философии перцепцией, изменчиво и разнонаправленно, но от восприятия ускользает та обширная и неконкретная информация, которая обобщена термином дискурс [401]401
«Четкого и общепризнанного определения „дискурса“, охватывающего все случаи его употребления, не существует, и не исключено, что именно это способствовало широкой популярности, приобретенной этим термином за последние десятилетия: связанные нетривиальными отношениями различные понимания удачно удовлетворяют различные понятийные потребности, модифицируя более традиционные представления о речи, тексте, диалоге, стиле и даже языке» (Дискурс, 2009). О происхождении и функционировании термина существует обширная философская и лингвистическая литература; см., напр.: Демьянков, 2005; Ревзина, 2005.
[Закрыть]. Дискурс же без связи с восприятием бессилен передать какую-либо информацию и потому оказывается неспособным выполнять свое предназначение.
Интересно, что в этом тексте Кибирова понятия, обозначенные терминами, получившими широкое распространение в XX веке, употребляются в соответствии с поэтикой символистской персонификации абстракций, и в то же время отношение между понятиями объясняется языком бытовых скандалов.
Сам термин легко превращается в ругательство:
Что « симулякр»? От симулякраслышу!
Крапива жжется. А вода течет
как прежде – сверху вниз. Дашевский Гриша
на Профсоюзной, кажется, живет.
О чем я то бишь? Да о том же самом,
О самом том же, ни о чем ином!
По пятьдесят, а лучше пó сто граммов.
Потом закурим. А потом споем.
Обратим внимание на то, что слово симулякр(обозначающее фикцию – «копию без оригинала») очень естественно принимает на себя роль инвективы: оно и этимологически родственно, и подобно (как фонетически, так и семантически) знакомому бранному слову симулянт(которое раньше тоже было термином). То звуковое различие, которое есть между словами симуля нт– симуля кр,придает структуралистскому термину более грозный облик.
Примечательно, что контекст слова – набор прописных истин (то есть банальностей) и предложение выпить и спеть. Речь идет о том, что банальные слова и банальное поведение предстают и неким подобием жизни (что соотносится с понятием симулякра), но они и спасительны. Не случайно в этом тексте речь увязает в повторах: О нем я то бишь? Да о том же самом, / О самом том же, ни о чем ином!
При том, что лиричность поэтических текстов Кибирова очевидна, Кибиров чаще всего очень неодобрительно, а иногда даже и зло смотрит на себя чужими глазами:
Здесь примечательно то, что терминам фрейдизма, не способным сочувственно обозначить состояние влюбленности, предлагается сомнительная альтернатива: это состояние адекватно не могут передать и такие штампы романтизма, как страсть роковаяи песнь лебединая(к тому же представленные с традиционно-поэтической инверсией, что является синтаксическим клише).
Поэтому термины принимают и такую грамматическую форму, которая, с одной стороны, свидетельствует об их перемещении из языка науки в разговорно-простонародный язык, а с другой стороны, говорит о том, что современный человек готов говорить о своих чувствах отчужденно:
Хорошо отрефлектированный запрет на прямое лирическое высказывание, характерный для литературы конца XX века, говорение как бы не от себя, приводит к неупотреблению местоимения «я» даже в контексте признания в любви:
Ироническая тональность текста усиливается тем, что маркером отстраненности становится не только сам термин либидо,но и средний род этого термина. Средний род в тексте задан уже словом идол,так как в терминологии Фрейда Ид – Эго – Супер-Эгослово Идозначает ‘бессознательное’ и в русских переводах часто обозначается словом Оно.Автор как бы снимает с себя ответственность за свои чувства, но при этом он воспроизводит традиционный образ любви как стихийной силы. В этих стихах термин либидо,вошедший в массовое сознание и созвучный слову лебедь– со всей символикой соответствующего образа в фольклорной лирике, – напоминает о сочетании лебединая песня,тем более что в стихотворении либидо голосит.
В стихах Тимура Кибирова далеко не только термины отсылают к теориям, провоцирующим на то, чтобы человек воспринимал свою личность, свои чувства и намерения в постмодернистских конвенциях.
В литературной среде широко известны слова Умберто Эко о невозможности прямого лирического высказывания в постмодернизме:
Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей: «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы – прерогатива Лиала. Однако выход есть. Он должен сказать: «По выражению Лиала – люблю тебя безумно». При этом он избегает деланой простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести, – то есть что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви осталось объяснением в любви.
(Эко, 2002: 77)
Следующее стихотворение Кибирова представляет собой структурную цитату этого фрагмента:
Фрактальная структура [408]408
«…фрактал есть нечто, обладающее самоподобием, подобием своих частей целому (в самом грубом виде пример – матрешка…)» (Степанов, 2002: 70–71).
[Закрыть]текста, говорящая как будто о бессилии сообщить о своем желании, на самом деле все же через назойливый повтор, настойчивое кружение на месте, в этом случае дает возможность сказать хотя бы главное личное слово хочу.Обратим внимание на то, что в начале текста оно почти бессмысленно (и осталось бы бессмысленным, если бы дальше было сказано то, чего автор хочет). А в конце текста это же слово, за которым следует восклицательный знак, оказывается содержанием высказывания, именно личным словом: хочу!
При всем формальном разнообразии стихов Кибирова в разные периоды его жизни инвариантом поэтики этого автора является противоречие между тягой к высокому слову (соответственно к высокому чувству) и насмешкой над ними же. Причем сниженность высказывания оказывается средством для его возвышения, особенно в стихах молодого Кибирова (например, в поэме «Л. С. Рубинштейну»), В поздних стихах направленность рефлексии часто бывает и противоположной, однако понятно, что автор сохраняет свои ценности, осуждая саму амбивалентность. Естественно, это проявляется в стилистических контрастах:
Сам язык располагает к тому, чтобы очень похожие слова (а в прошлом варианты одного слова) звучали и торжественно, и насмешливо:
В поэме «Кара-Барас (опыт интерпретации классического текста)» можно видеть, как, глумясь над собой, Кибиров вписывает в стихотворение К. Чуковского «Мойдодыр» эпизоды своей жизни, а также историю собственного мироощущения в терминах философии, тем самым представляя поиски смысла жизни как сказку для детей и как детскую болезнь. Поэтика текста Кибирова основана на резком стилистическом контрасте – великолепно простой язык сказки Чуковского с ее плясовыми хореями комментируется утрированно наукообразной прозой, содержащей преимущественно клише:
Идеал
Убежал…
(Нет, лучше эквиритмически)—
Идеалы
Убежали,
Смысл исчезнул бытия,
И подружка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.
Я за свечку,
(в смысле приобщения
к ортодоксальной церковности)
Свечка – в печку!
Я за книжку,
(в смысле возлагания надежд
на светскую гуманитарную культуру)
Та – бежать
И вприпрыжку
Под кровать!
(То есть – современная культура
оказалась подчинена не высокой
духовности, коей взыскует лирический
герой, а низменным страстям,
символизируемым кроватью как ложем
страсти (Эрос), смертным одром
(Танатос) и местом апатического или
наркотического забвения (Гипнос).)
Мертвых воскресенья чаю,
К Честертону подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал, как от огня.
Боже, боже,
Что случилось?
Отчего же
Всё кругом
Завертелось,
Закружилось
И помчалось колесом?
(В смысле ницшеанского
вечного возвращения или
буддийского кармического ужаса,
дурной бесконечности —
вообще всякой безысходности.)
Гностицизм
За солипсизмом,
Солипсизм
За атеизмом,
Атеизм
За гностицизмом,
Деррида
за
М. Фуко.
(Деррида здесь помещен
более для шутки,
М. Фуко – более для рифмы) [411]411
Обратим внимание на продолжение литературной игры, затеянной Пушкиным в строках И вот уже трещат морозы / И серебрятся средь полей… / (Читатель ждет уж рифмы розы / На, вот возьми ее скорей!).
[Закрыть]—
Все вертится
И кружится
И несётся кувырком!..
<…>
ЭПИЛОГ
Короче – чего же ты все-таки хочешь?
Чего ты взыскуешь? О чем ты хлопочешь?
<…>
Вот эту прохладу
в горячем бреду
с тех пор я ищу
и никак не найду,
вот эту надежду
на то, что Отец
(как это ни странно)
придет наконец!
И все, что казалось
невыносимым
для наших испуганных душ,
окажется вдруг так легко излечимым —
как свинка, ветрянка,
короче – коклюш! [412]412
Кибиров, 2009-а: 577–588.
[Закрыть]
В «Эпилоге» сборника «Кара-Барас» на языке, далеком от какой бы то ни было стилизации (и от сказки Чуковского, и от наукообразных оборотов речи), рассказывается о том счастье, которое испытал больной ребенок, когда отец принес ему мандарины [413]413
Контекст, в котором рассказывается этот эпизод, слишком пространный для того, чтобы его можно было здесь процитировать.
[Закрыть]. Во времена детства Кибирова мандарины были такой редкостью, что воспринимались как чудо. Заглавная буква слова Отецв процитированном фрагменте тоже является своеобразным элементом комментария: упование на Бога оказывается противопоставленным высказыванию Я за свечку, / (в смысле приобщения / к ортодоксальной церковности).Рискну предположить, что смысл переключения строчной буквы «о» на прописную «О» связан и с графическим обликом буквы (ср. строки: Боже, боже, / Что случилось? / Отчего же / Всё кругом / Завертелось, / Закружилось / И помчалось колесом? (в смысле ницшеанского вечного возвращения или буддийского кармического ужаса, дурной бесконечности – вообще всякой безысходности)(Кибиров, 2009-а: 579).
В ранних стихах Кибировым была заявлена такая программа:
Я лиру посвятил сюсюканью. Оно
мне кажется единственно возможной
и адекватной (хоть безумно сложной)
методой творческой. И пусть Хайям вино,
пускай Сорокин сперму и говно
поют себе усердно и истошно,
я буду петь в гордыне безнадежной
лишь слезы умиленья все равно.
Эта программа выполняется и сейчас, хотя «сюсюканья» и «слез умиленья» становится меньше, а сарказма, направленного на самого себя и на поиски смысла жизни, больше.
Переучет, предпринятый Тимуром Кибировым в музее словесности, вполне точно выражается цифрами:
У монитора
в час полнощный
муж-юноша сидит.
В душе тоска, в уме сомненья,
и, сумрачный, он вопрошает Яndex
и другие поисковые системы:
«О, разрешите мне загадку жизни,
Мучительно старинную загадку!»
И Rambler отвечает,
на все вопросы отвечает Rambler!
Проще простого
Click – и готово:
Вы искали: Смысл жизни,
найдено сайтов: 111444,
документов: 2724010,
новых: 3915.
Все же Кибиров не только имеет смелость постоянно задавать вопрос о смысле жизни, но и находит способ сказать о нем, может быть, именно потому, что
…это и есть ведущая черта его поэтики – декларированная застенчивость, нежность, чуткость и ранимость, почти страх перед словом, в котором столько опасностей, которое побывало в стольких устах, обросло столькими смыслами. Лучше – почти не говорить. «Почти», поскольку молчание и мычание, шепот и робкое дыханье тоже культурой освоены. Остается узенькая тропинка, по которой, жалуясь на лень и бесцельно прожитые годы, тихо и осторожно, пугаясь, стесняясь и зажмуривая глаза, – но при этом с удивительной ловкостью – идет Кибиров.
(Александров, 2000: 200)
Владимир Строчков: странствия по семантическим полям
От Книг Почета до Красных Книг,
песками мертвыми занесен,
еще заносится наш язык
так, словно может все.
В. Строчков
В стихах и поэмах Владимира Строчкова [416]416
Биографическая справка: Владимир Яковлевич Строчков (1946 г.р.) живет в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов, работал на предприятиях электронной промышленности и черной металлургии. С 1990 г. специалист по компьютерной верстке и дизайну. Стихи публиковались с 1989 г. Наиболее представительные сборники стихов: Строчков, 1994; Строчков 2006. Сборник, совместный с А. Левиным: Левин, Строчков, 2004.
[Закрыть]максимально развит один из самых известных и банальных приемов поэтики. Это каламбур, в котором обыгрывается многозначность слова или омонимия, передвигаются словоразделы во фразах, обнаруживая неожиданные смыслы, слово парадоксально перетолковывается [417]417
Все эти явления обобщаются определением, указывающим на игровую направленность приема: «Каламбур – игра слов, использование многозначности (полисемии), омонимии или звукового сходства слов с целью достижения комич. эффекта» (Леонтьев, 1987: 145).
[Закрыть]. Каламбур восходит к низовой культуре – к шутовскому острословию, игре двусмысленностями, балагурству. Применение этого приема в художественной литературе часто вызывает пренебрежительную оценку (см.: Санников, 2003: 90–91).
Современное искусство не склонно противопоставлять смешное серьезному. Более того, нередко лирический настрой души, трагическое мироощущение, аналитические размышления, пафос утверждения и отрицания находят самый подходящий способ выражения именно в тех свойствах языка, которые раньше предоставляли материал только для речевых забав и сатиры. Наблюдаемое изменение статуса каламбура можно сравнить с повышением статуса рифмы в русской поэзии:
Пришедшая на смену «смеховому эху» стихотворная рифма долго несла в себе эту смеховую стихию. Лирическая поэзия включала в себя рифму с большой осторожностью, стремясь избегнуть любых смеховых сочетаний. <…> Рифма отчасти воспринималась как шутка, фокус, что-то не очень серьезное, хотя иногда и «хитрое».
(Лихачев, Панченко, Понырко, 1984: 45)
Критики и филологи отмечают интеллектуальность поэзии Строчкова и трагизм мироощущения, свойственный этому автору (Левин, 2006-а; Кулаков, 2007; Давыдов, 2006; Воробьева, 2007).
Н. Делаланд пишет:
Многомерность языка в стихотворении, синкретичность значений слова, его семантическая ёмкость моделируют множественность измерений психики, имманентно присущую ей, но блокируемую в дневном, не измененном, состоянии сознания. В связи с этим и автор, и читатель погружаются в особый многомерный мир, генерируемый ключевыми словами текста и входящими в них семантическими полями.
(Делаланд, 2008)
Контекстуальное смысловое преобразование слова в поэзии Строчкова основано не на художественной метафоре, а на языковой, то есть стершейся, не заметной в обычной речи.
Наличие в слове нескольких значений – результат постоянно действующих в языке механизмов перенесения наименований с одних предметов и явлений на другие. Это в основном метафора – перенесение названия по какому-либо признаку сходства (хвост– ‘очередь’, ‘несданный экзамен’, ‘слежка’), метонимия – называние по смежности (пошел в первый класс, класс надо проветритьи весь класс чихает), целого по его части ( голова —‘умный человек’, ‘градоначальник’ в выражении городской голова,‘счетная единица в стаде’) или части по целому (говорит Москва),перенос наименования по функции (продолговатый шарик, красные чернила),расширение значения (слово именинникчасто употребляется безотносительно к именинам) и его сужение (пиво —в прошлом любой напиток). Кроме того, в языке есть немало омонимов – слов, звучащих одинаково, но не имевших или утративших смысловую связь (например, слово брак– ‘дефект’ заимствовано из немецкого, а брак– ‘супружество’ произведено от глагола брать;слова лук– ‘растение’ и лук —‘оружие’ обычно ничем не объединены в сознании, хотя по происхождению мотивированы образом похожей изогнутости).
Поэтам свойственно восстанавливать забытые смысловые связи между словами и устанавливать связи, которых не было.
В лингвистике разработана теория асимметричного дуализма языкового знака, согласно которой «обозначающее стремится обладать иными функциями, чем его собственная, обозначаемое стремится выразить себя иными средствами, чем его собственный знак» (Карцевский, 1965: 90). Это несовершенство системной организации языка, предполагающей взаимно однозначное соответствие между знаком и предметом обозначения, становится важнейшим ресурсом поэзии, развивается и углубляется в ней (Ковтунова, 1986: 87). Кроме того, как всякий конфликт в системе языка, асимметричный дуализм знака является стимулом изменений. При полисемии «прежнее и новое становятся современниками в одной и той же системе» (Рикёр, 1995: 104–105), многозначные слова – это «обменный пункт между старым и новым» (Указ. соч.: 107).
Владимир Строчков называет свою поэтику полисемантикой.
Он рассказывает о логике ее появления, сущности и принципиальном отличии от каламбуров и эзопова языка так:
Только уже где-то в начале студенчества стал нарабатываться какой-то, довольно нехитрый, способ письма, достаточно типичный для того моего времени и места под солнцем: студент-технарь шестидесятых, интеллигентный циник-романтик, мрачно-ироничный кухонный диссидент. И инструментарий сложился соответствующий, с акцентом на каламбур, двусмысленность, эзопов язык. Понятное дело, какая жизнь, такой и язык. <…> Последним толчком стала начавшаяся горбачевская перестройка. Она просто пинком, как табуретку, вышибла из-под ног старую почву. Весь критический социальный заряд андеграундного диссидентства оказался предметом публицистики. Но вставший было вопрос «о чем писать» сам тут же и рухнул, потому что быстро стало ясно, что это вовсе не вопрос литературы; вопрос литературы – «как писать» – первая производная от «как видеть». <…> мир – как внешний, так и внутренний – неограниченно сложен и, главное, принципиально неоднозначен. <…> Вещи, явления и смыслы непрерывно взаимодействуют, изменяются и перетекают друг в друга. Чтобы уметь говорить об этом мире, нужен язык эквивалентной сложности и многозначности, то есть и не язык в обычном смысле даже, а сумма произвольного множества языков, знаковых систем и культурных кодов <…>. И все прежние каламбуры, двусмысленности и эзопизмы легко и просто легли на эту картину мира и языка, перестав быть самостоятельными, отдельными приемами, «штуками» и став ее естественной, органичной частью. <…> стиль оказался совсем не стилем, а способом видеть мир. Причем видеть его – языком. В обоих смыслах, то есть как язык и с помощью языка.
(Строчков, 1998: 460–461, 463)
В большом послесловии к сборнику стихов «Глаголы несовершенного времени» (Строчков, 1994: 373–404) [418]418
Послесловие представляет собой одно из самых толковых объяснений постмодернизма «с человеческим лицом», его предпосылок и принципов, несмотря на метафоричность изложения и некое смущенное пародирование научного стиля речи. Там же Строчков подробно объясняет название сборника: несовершенное(настоящее) время понимается и как не завершённое, и как не идеальное. Соответственно, глаголы– это и часть речи в грамматическом смысле, и слова вообще, и высказывания.
[Закрыть]он говорит о том, что полисемантический текст имеет несколько способов существования:
• «эзопов язык», когда основное содержание текста маскируется другим высказыванием;
• обычный каламбур, демонстрирующий однократное двоение смысла на коротком отрезке текста;
• структура текста, подобная цепочке: двоящиеся значения слов то смыкаются в узловых точках текста, то расходятся, порождая собственные образы и сюжеты;
• структура текста, подобная косичке, клубку, кружеву: в тексте взаимодействуют, мерцая, пульсируя, преломляясь, одновременно несколько значений слова;
• «смысловой дрейф»: текст состоит из ветвящихся семантических цепей, формируется звуковым подобием слов, смысловые связи между которыми возникают на время, «как короткое родство пьяного соития по случаю»;
• «семантическое облако»: недостижимый, но соблазняющий идеал, когда все возможные значения слова одновременно присутствуют и взаимодействуют в пространстве текста [419]419
Тезисы Строчкова в приведенном списке не процитированы, а конспективно пересказаны.
[Закрыть].
Автор говорит, естественно, и о том, что все названные им способы существования полисемантического текста обычно пересекаются, смешиваются, взаимодействуют между собой.
Рассмотрим, каким образом многозначность и омонимия слов становятся текстопорождающим фактором в поэзии Строчкова.
Наиболее простой вариант полисемантической организации текста можно видеть в таком стихотворении:
АПРЕЛЬСКИЕ ИДЫ
Переведёмчасы на час вперёд.
Нас много: двести пезьдесять мильонов.
Переведёмчасы в рубли и тонны
и подсчитаем валовый доход.
Какой успех! Какой высокий взлёт!
Какая небывалая удача!
Какая прибыль и фондоотдача!
Переведёмещё на час вперёд!
Какой глубокий сокровенный смысл
подспудно затаился в переводе.
Шагаем мы наперекор природе.
Мы можем всё – и жар холодных числ.
Переведёммы стрелки поездов,
аванс в сберкассу, миновав карманы;
переведёмпоэтов иностранных —
и заодно оставшихся жидов;
переведёмвниманье всех постов
на переводыпочтою Шекспира,
посылкой – обрусевшего Шапиро
и бандеролью – нефтяных пластов;
переведёмв министры подлецов,
минуя формализмы аттестаций,
переведёммы всё – и, может статься,
переведёмсявсе в конце концов [420]420
Строчков, 1994: 28.
[Закрыть].
Это стихотворение строится почти по принципу словарной статьи [421]421
Д. А. Суховей назвала свою курсовую работу о поэтике Строчкова «Поэт и словарь» (Суховей, 1997), а дипломную – «Словарная поэтика Владимира Строчкова» (Суховей, 2000). В курсовой работе подробно расписаны значения слов перевести, переводи проанализировано взаимодействие между значениями.
[Закрыть]. Значения полисемантического глагола, характеризующие физическое перемещение предмета, арифметическое действие, переадресацию, переключение внимания, почтовую пересылку денег, представление текста на другом языке, назначение на новую должность, постепенное уничтожение, иллюстрируются контекстами, в которых эти значения предлагается выбирать из множества альтернатив, предоставляемых языковой системой.
Однако уже и в этом относительно простом тексте показано, что и словосочетание, и фраза могут быть недостаточными условиями для выбора значения: переведем часы на час вперёд(речь идет о ежегодном весеннем переходе на летнее время) и переведём часы в рубли и тонны.Кроме глагола здесь проявляется многозначность и существительного часы,в котором сталкиваются обозначение предмета, единицы измерения времени и единицы измерения труда.
В строке на переводы почтою Шекспираслово переводыупотребляется в двух значениях одновременно, в строке посылкой – обрусевшего Шапироактуализирована полисемия слова посылка:это и ‘почтовое отправление’ и ‘принуждение к эмиграции’ (одно из значений слова послать– ‘прекратить общение грубой бранью’), в слове бандерольюможно увидеть намек на роль бандитов.
Заключительные строчки обобщают все возможные значения слова перевестии указывают на одно из значений, которое не было актуальным при линейном развертывании последовательности действий и выступало только как частное в строке и заодно оставшихся жидов [422]422
Во избежание недоразумений необходимо иметь в виду, что ни эти строки, ни многие другие, связанные с темой еврейства, не имеют никакого отношения к антисемитизму.
В работе Суховей отмечается, что в этой строке возможно и значение ‘передать средствами другого языка’.
[Закрыть]. Это значение ‘уничтожить’, которое в финале стихотворения предстает как смысловая доминанта всех употреблений глагола: переведём мы всё – и, может статься, / переведёмся все в конце концов.Характерно, что максимальное накопление в тексте всех частных значений приводит именно к такому обобщению. Одна из теоретических предпосылок полисемантики как принципа организации текста состоит в том, что слово, приобретая слишком много значений, в результате обессмысливается.
Д. Суховей видит во фразе переведемся все в конце концовне только значение ‘вымрем’, но и «как бы в министры, на другую должность». Такой смысл сомнителен, в частности потому, что последние слова стихотворения – в конце концов.Однако значение ‘переместимся на тот свет’ здесь вполне возможно.
Такой эсхатологический смысл текста вполне согласован с его заглавием. Оно объединяет в себе два устойчивых, исторически значимых сочетания: мартовские идыи апрельские тезисы.Мартовские иды – 15 марта по древнеримскому календарю, в этот день был убит Юлий Цезарь (44 г. до н. э.). В «Апрельских тезисах» Ленина, написанных в 1917 году, были сформулированы основные положения программы большевиков.
Рассмотрим еще один пример сконцентрированной полисемии – один из ранних текстов, в котором разные значения глагола сдаватьсясначала локализуются словосочетаниями, а затем объединяются художественными образами:
«Вам не сдается, что лето сдается?
Солнце уходит, а дождь остается».
– Нет, не сдается, покуда сдается
комнатка эта с ладошкой окна.
Дождик идет, с потолка тишина
капает в банку консервную, бьется
раз в пять секунд о поверхность болотца.
Комнатка с мокрой ладошкой окна
мне как последняя карта сдается.
Я остаюсь: мне надежда дана.
Я не сдаюсь: ведь она остается.
Слово сдаватьсяпредстает здесь в значениях ‘казаться’, ‘прекращаться’, ‘предоставляться в аренду’, ‘распределяться – об игральных картах’, ‘отказываться от чего-либо, уступать’. Раздельно воспринимаемые значения многозначного слова сменяются их совмещенным восприятием, когда полисемия образует парадокс одновременного утверждения и отрицания (Нет, не сдается, покуда сдается),формирует сравнение-зевгму [424]424
По формулировке Э. М. Береговской, «Зевгма – это экспрессивная синтаксическая конструкция, которая состоит из ядерного слова и зависящих от него однородных членов предложения, равноценных грамматически, но семантически разноплановых, вследствие чего в многозначном ядерном слове одновременно актуализируются минимум два разных значения или смысловых оттенка» (Береговская, 2004: 63).
[Закрыть], основанное на разных значениях глагола: (Комнатка<…> как последняя карта сдается).В переключении внимания с одного значения на другое важную роль играет позиция поэтического переноса – анжамбемана, когда слово в ритмическом единстве строки и в синтаксическом единстве предложения понимаются по-разному: Нет, не сдается, покуда сдается / Комнатка эта с ладошкой окна.
Системное свойство языка осмысляется Строчковым и как свойство мироздания, и как модель мировосприятия в постмодернизме:
ПОЛИСЕМАНТИКА ЕСТЬ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ (или, если угодно, ОДНА ИЗ ФОРМ АКТУАЛИЗАЦИИ, или, если неугодно, ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ) ПОСТМОДЕРНА КАК ОДНОЙ ИЗ БАЗОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ КУЛЬТУРЫ (искусства, литературы, поэзии), ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ (-АЯСЯ, -ЕЕСЯ) ИНТЕНСИВНЫМ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВА МНОГОЗНАЧНОСТИ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ (языковых средств).
(Строчков, 1994: 385)
Кроме того, полисемантика предстает у Строчкова инструментом анализа и критики языка, в котором слово, накапливая значения, перестает быть понятным, становится дефектным средством познания и препятствием нормальной коммуникации:
Словесное искусство начинается с попыток преодолеть коренное свойство слова как языкового знака – необусловленность связи планов выражения и содержания – и построить словесную художественную модель, как в изобразительных искусствах, по иконическому принципу. Это не случайно и органически связано с судьбой знаков в истории человеческой культуры.
Знаки естественного языка с их условностью в отношении обозначаемого к обозначающему, понятные только при отнесении их к определенному коду, легко могут стать непонятными, а там, где кодирующая семантическая система оказывается вплетенной в социальную жизнь, – и лживыми. Знак как источник информации не менее легко становится и средством социальной дезинформации. Тенденция борьбы со словом, осознания того, что возможность обмана коренится в самой его сущности, – столь же постоянный фактор человеческой культуры, как преклонение перед мощью слова.
(Лотман, 1998: 65)
Для постмодернистского сознания характерен агностицизм, смиренное признание того, что точно понять действительность невозможно. Более того, постмодернизм вообще отрицает существование какой-либо правильности в устройстве мира. В этих условиях человеческая потребность в познании – логическом, чувственном, интуитивном не только не утрачивается, но, напротив, обостряется. И тогда помехи для восприятия явлений превращаются в свою противоположность, создавая новые каналы восприятия.
Полисемия – это именно такое явление, которое преобразует информацию в шум, а шум в информацию.
Строчков говорит об этом так:
Если что я и знал,
то неточно, нечетко
и улавливал знак
через раз, на нечетный.
Неразборчив и глух
до его обаянья,
невнимательный слух
обгонял обонянье.
Но живой аромат
оседал на ресницы,
глаз вынюхивал март
по шерстинкам лисицы
и вылизывал ночь
до дрожащего блеска.
<…>
Но шептали глаза
сквозь невнятную темень,
как стоит на часах
настоящее время.
Пальцы комкали крик
и смыкались на хрипе.
Все сбывалось на миг,
как бы в видеоклипе.
Все сбывалось за грош,
что скопил за эпоху.
Мир бы не был хорош,
кабы все не так плохо,
так невнятно, как сон,
так нелепо, прекрасно.
если б не было все
так неточно, неясно.
В этом тексте нет такого сгущения полисемии, как в большинстве стихов Строчкова. В пределах процитированного фрагмента она представлена словами как стоит на часах настоящее время; всё сбывалось на миг, всё сбывалось за грош.В строчках про время определение настоящееобнаруживает помимо своего прямого значения ‘то, которое имеется сейчас’ и значение ‘истинное’. Кроме того, слово настоящееэтимологизируется, обозначая время остановившееся и тем самым намекая, во-первых, на то, что стоящие часы – неисправные [426]426
Образ стоящих часов концептуален для Строчкова. Строчков объясняет разницу между авангардом и постмодернизмом так: в результате превращения традиционного искусства в шаблон «получается нечто вроде будильника, который давно не ходит и никого не будит, но зато стоит на комоде, гордо и нелепо сверкая никелированными чашечками. <…> Авангард берет испорченный будильник традиционализма и „смотрит, что у него внутри“: разбирает на части, вытаскивает идейные оси, вытряхивает причинно-следственные шестерёнки, всякие там архетипы <…> А функция сборки в авангард не заложена <…> [Постмодернизм. – Л.3.] заново собирает будильник. Правда, в процессе сборки часть частей оказывается лишней, а каких-то не хватает, и их приходится изобретать по ходу дела, но в конечном счете будильник собран и начинает ходить. Однако ходить он начинает куда-то не туда, куда раньше: время, которое он показывает нам на пальцах, уже как бы не совсем время – и tie только время. <…> „Время“, которое они отмеряют шагами, уже двумерно, уже обзавелось дополнительной координатой <…> Это культура, то есть весь комплекс её явлений, включая традиции искусства (в том числе и такой „нонсенс“, как традиции авангарда), живые и мёртвые знаковые системы (языки) и многое другое» (Строчков, 1994: 380–382).
[Закрыть]; во-вторых, на фразу Гете, ставшую в русском языке поговоркой Остановись мгновенье, ты прекрасно; в-третьих, на слово застой, характеризующее социально-политическую ситуацию в Советском Союзе.
Фразеологизм стоит на часах —‘дежурит на посту’ вносит в слова о времени образ военного контроля за неизменностью установленного порядка.
Стихотворение это примечательно тем, что оно построено на метафорах синестезии – на объединении ощущений, воспринимаемых слухом, зрением, осязанием. Языковая метафора глухв расширительном значении ‘нечувствителен’ употреблена в нетипичном для нее контексте: глух / до его обаянья.Причем говорится про обаяние знака. Вслед за образом глухоты к обаянью возникают метафоры глаз вынюхивал марти вылизывал ночь; глаза шептали; пальцы комкали крик, метонимия смыкались на хрипе, в которой слово хрипзамещает слово горло.
Это стихотворение о чувственной компенсации несовершенного понимания заканчивается словами о ценностной относительности дефектного знака.
Процитированный текст можно воспринимать как некий ключ к поэзии Владимира Строчкова.
Конечно, его полисемантика – это постоянная критика языка, но и увлечение его неисчерпаемыми возможностями. Как пишет Д. Давыдов, «Строчков один из тех авторов, для которых сама языковая стихия является более значимой основой для письма, нежели, к примеру, предметный мир или мир чувствований» (Давыдов, 2006: 6).
Критика направлена преимущественно на обессмысливание слова в результате утраты его образности и разрыва этимологических связей:
ЗДОРОВЫЙ СКЕПСИС
(опыт раздвоения личности)
Небо высинено, берлинская лазурь!!!
(это почему это – берлинская, когда – Крым?)
Море высверкано, полный ажур!!!
(это почему это – ажур, если ни одной дыры?)
Солнце надраено, как медный диск!!!
(это почему это – медный, и почему не шар?)
Душа от радости устраивает визг!!!
(ну, визг, ну, допустим, но при чем тут это – душа?) [427]427
Строчков, 1994: 105.
[Закрыть].
Обратим внимание на заглавие и подзаголовок: раздвоение личности, вызванное доверием и недоверием языку, в котором буквальное и переносное значения слов противоречат друг другу, понимается автором как здоровье.
Медицинская терминология формирует заглавия поэм «Паранойяна», «Больная Р. Хронический склерофимоз. Из истории болезни», «Великий Могук. Поэма-эпикриз» и т. д. Многие тексты становятся своеобразной диагностикой болезненного сознания, направляемого языком в разные стороны. Языковые структуры уводят от однозначного понимания явлений в хаотическое пространство столкновения смыслов, причем столкновение это обычно предстает конфликтным. Конфликт чаще всего бывает спровоцирован присутствием в сознании нескольких разнонаправленных фразеологических связей слова: