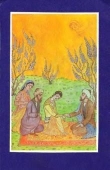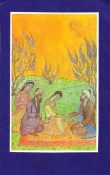Текст книги "Ибн Сина Авиценна"
Автор книги: Людмила Салдадзе
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
– Что ж он тогда обидел Фирдоуси? – спросили из и толпы.
– Фирдоуси?! Он его не обижал! Скорее Фирдоуси и обидел Махмуда.
– Как?!
– Я вам докажу. Мы ничего от вас не утаим. Ни одна и ваш вопрос Не оставим без ответа. А тем более касающийся Махмуда, – главного вершителя судьбы Ибн Сины Так вот, наместник Хорасана Абдурраззак приказал писцам собрать куски персидской хроники, чтобы создать по ним книгу царей – «Шах-намэ» и противопоставить ее и арабам-завоевателям. Об Абдурраззаке пишет и Беруни, и Фирдоуси указывает еще на какого-то Серва, «жившего в Мерее у Ахмада ибн Сахля». А Сахль – современник Исмаила Самани. У этого Серва с его слов писцы записали сказания о Рустаме!
Возгласы восхищения в удивления в толпе.
– Говорит еще Фирдоуси и о рыцаре Чача из долины Чирчика, также знавшего наизусть куски эпоса. Дакики, бухарский поэт, взялся переложить собранную и это времени хронику на стихи. Фирдоуси сам говорит об этом:
Явился однажды поэт молодой,
Велик красноречием и светел душой.
Сказал: «Шах-намэ» на стихи положу.
И миру всему, всем сердцам покажу,
Но юноше другом, увы, был порок..
С пороком сражаясь, в борьбе изнемог,
И смерть поспешила, его унесла.
Глава его в черную яму легла…
А что, если взяться за сказ вместе ним.
Что писано, выразить словом живым?..
У многих и многих советов просил,
Боялся вращения недобрых светил.
Коль жить мне осталось немного минут,
Другому придется оставить свой труд.
А если другой не оценит труда?..
В стране назревала в те годы войне.
Сулила невзгоды разумным она
Пришлось мне Себя схоронить от люден…
Был друг у меня в моем граде родном.
Сказал мне: хорош этот замысел твой. [64]64
Перевод М. Дьяконова.
[Закрыть]
Этим другом, говорит Байхаки, был наместник Туса – (Суайи Кутайба. Из уважения к труду Фирдоуси он освободил его от налога. Так?
В толпе ответили:
– Так.
– Старый поэт, как вы знаете, хотел посвятить «Шах-намэ» саманидам, – продолжает судья, – но в тот год, когда 67-летний Фирдоуси закончил свой 30-летний труд, в Бухару вошел караханид Наср.
– Как посмеялась над ним судьба! – сокрушенно покачали белыми чалмами муллы.
– Да. Шесть лет Фирдоуси переделывал поэму, – говорит Бурханиддин, – меняя разбросанное то тут, то там имя «Нух» на имя «Махмуд».
А подарив поэму Махмуду, одобрения не получил.
Почему? – спросили в толпе.
– Во-первых, не дарят живому то, что предназначалось покойнику. Во-вторых, Фирдоуси слишком сочувственно описал восстание Маздака, жестоко обрушившегося на царей. Мог ли Махмуд спокойно читать такое? Пусть скажет спасибо, что ушел живым! Глядя вслед уходящему поэту, Махмуд снова приказал послать приглашение Ибн Сине в самых изысканных выражениях.
– Очередная ловушка! – рассмеялись в толпе.
– Может быть… – задумчиво проговорил Бурханиддин. – А может, крик измученного сердца.
– Как?! Вы же сами говорили, что Махмуд мечтал убить Ибн Сину, чтобы очистить от него землю?
– Что есть человек? – грустно проговорил Бурханиддин. – Разве мы знаем это? Махмуд, словно жемчужинки, носил в своей душе рубаи Ибн Сины. Да, да, да, да! Вынимал из памяти то одну, то другую, когда горела душа, и целый день не расставался с ними. Даже когда шел в бой. Особенно любил вот это:
– А за что Меня тогда судите?! – вскричал Али и так резко вскочил, что даже упал и скатился со ступенек.
Ни кто не засмеялся в толпе.
– Чем я тогда виноват? Ведь даже Махмуд читал его, стих и!
– Цветок мака, только что распустившийся, – разве это яд? – сказал Бурханиддин. – А зрелая его коробочка с черными дурманящими семенами – разве не способна убыть? Махмуд держал в руках алый мак и любовался нм, а ты, – Бурханиддин печально посмотрел на Али, – до сих пор одурманен ядом желчи Ибн Сины.
Так вот, Махмуд… Встречая послов караханида Насра, нового хозяина Бухары, принимая от него коней, верблюдов, белых соколов, черные меха, клыки моржей, куски нефрита и сестру его в качестве невесты, направил в ответ караван чистого золота и маленький листок впридачу, га котором своей рукой вывел два бейта:
Бог звездное ожерелье успел к утру разорвать
И в синюю чашу звезды швырнул, жемчугам под стать.
Он накануне ночи бывает, как я, влюбленным
И поступать, как безумец, готов на заре опять.
А внизу написал: «Этого поэта – Ибн Сину и бог бы никуда от себя не отпустил! Так что держите его». И с этим же караваном передал Ибн Сине пятое приглашение приехать в Газну. А потом был у Махмуда с Насром бой, – продолжает Бурханиддин. – И идя в бой, он знал, как победить: его воины, развернув знамена, пойдут вперед и запоют на хотанский мотив рубаи Ибн Сины:
Я – плач, что в смехе всех времен порой сокрыт, как роза.
Одним дыханьем воскрешен или убит, как роза.
И в середину брошен я на всех пирах, как роза.
И вновь не кровь моя ль горит на всех устах, как роза?
Воины Насра встанут как вкопанные. Тюрки, жители степи, особо умеют ценить поэзию. За строчку прекрасных стихов отдадут и любимого коня! И не смогут воины Насра поставить стрелы на тетиву, когда тысяча воинов Махмуда – грубых, страшных, изукрашенных шрама-дох, – одновременно запоют мощными, пропитыми, сорванными в боях голосами эти удивительные стихи, положенные на тюркскую мелодию.
Так оно и было…
Насра-то Махмуд разбил, а вот второго своего врага, Тоску, нет, Где-то Ибн Сина бродит? И трупы бы ему простил. Вот о чем он думал в своем роскошном дворце, когда оставался один.
– Ну, а Хорезм? Как принял Ибн Сипу Хорезм, когда он пришел после перехода через пески? – спросили в толпе.
– Везирь эмира Гурганджа Сухайли встретил Ибн Сину радушно, – сказал судья Даниель-ходжа. – Был уже и наслышан о его славе.
Образованнейший человек эпохи, Сухайли задумал собрать а Гургандже самых знаменитых ученых, чтобы хоть таким образом усилить авторитет слабого пока еще государства 20-летнего эмира Али ибн Мамуна. Послал приглашения Кисан, Утби, Искафи, ал-Кумри, но все они ушли к Махмуду. Ибн Сина же явился сам! Вот уж, поистине, и тысяча человеческих расчетов не стоит и одного расчета неба.
– Хусайн преподнес везирю несколько своих трактатов, как требовал обычай вежливости, – добавил самый старый судья. – И, вероятно, между ними сразу же состоялся разговор о философии, законоведении, литературе, музыке, астрономии, математике, медицине и другим наукам. Сухайли понял: слава Ибн Сины – истинная.
И взял его на полное царское обеспечение.
– Ах, если б Ибн Сина тогда не ускользнул в Бухаре от Махмуда! – сокрушенно проговорил Бурханиддин-махдум, подводя итог заседанию. – Ничего бы не осталось от него. Разошлись бы круги его жизни по миру и затихли.
– Ведь и бог этому способствовал: погубил все, что Ибн Сина написал в родном городе. А написал он немало: одну книгу для Арузи и две – для Барака. Арузи попросил изложить то, что Ибн Сина прочитал в сожженной им, как мы считаем, библиотеке Самани. А Бараки – комментарии к книгам по законоведению и этике.
Для Арузи Ибн Сина написал один огромный том «Книга собранного», для Бараки – книгу «Итог и результат» в 20-ти томах! И еще книгу «Дозволенное и запретное» – в двух томах. И несколько трактатов, среди них волшебный по силе воздействия – «Освещение». Итого – 24 тома. И это от 17 до 19 лет!
К счастью, 22 тома, что находились только у Бараки, никто не имел возможность переписать, как говорит Ибн Аби Усейбиа, А потом они погибли, И даже подлинник их, который всю жизнь возил с собой Джузджани, ученик Ибн Сины, тоже, слава аллаху, погиб. Некоторые могут спросить, почему мы так подробно говорим о юности Ибн Сины, если ничего от юношеских трудов его не осталось? Хотим вам показать, что змея выросла змеей в своей норе и змеей вползла в мир. И не было никакого белого голубя, который доверчиво опустился на руку мира и которого потом якобы совратили черные грифы, питавшиеся мертвечиной ереси – исмаилиты. Ибн Сина с детства отвращал от религии свое лицо. По врожденной своей дьявольской природе. Сначала, когда слушал отца-исмаилита. Потом, когда своим умом стал врастать в эту грязь.
Некоторые могут подумать, нет этому моему утверждению доказательств, – ведь тысячу лет прошло! А за то, что в десятилетнем возрасте отца слушал, мол, не в ответе. Кто, где, когда говорил, что и в сознательном возрасте Ибн Сина учился у исмаилитов?
Есть тому доказательство!
Лет через сорок после Ибн Сины, – продолжает Бурханиддин, – умер Ибн Макула, вероятно, знавший Ибн Сину лично. Этот Ибн Макула писал: Учителю своему Бараки Ибн Сина посвятил несколько трактатов, в том числе «Послание по случаю праздника Науруза относительно букв, расположенных в порядке абджад».
Что же это за «порядок абджад»? Это один из видов символико-философского алфавита, которым исмаилиты писали своя проклятые богом труды. Да, да! – вскричал Бурханиддин-махдум, покрывая внезапно поднявшийся шум. – Существует несколько таких алфавитов, действующих и в наши дни. Еще шиитский имам Джафар – отец Исмаила, а потом и философ Ибн Араби тоже имели тайные зашифрованные алфавиты. Так вот, Абу Али. Хусайн ибн Сина в 19 лет создал свой такой алфавит, да еще предлагал его своему учителю. Явно, Бараки учил Ибн Сину не философии. А тогда чему? Он был, наверное, исмаилитским наставником Хусайна! Но даже здесь Ибн Сина превзошел своего учителя: не учитель ему, ученику, создал алфавит, а Ибн Сина создал алфавит седому Бараки.
Ибн Макула, знавший почерк Ибн Сины, писал: «Не почерк, а скверная карматская вязь», И это в 19 лет у Ибн Сины был уже такой почерк, словно дьявол запутывает следы! Вот кого упустил тогда в Бухаре Махмуд! И все мы упустили. И страшная хорезмская пустыня упустила! – Бурханиддин-махдум остановился, и вытер платком лицо, отпил глоток воды. – Я – преклоняюсь перед умом Ибн Сины. Аллах вложил в его голову Белую жемчужину мудрости. Но что он сделал с нею?.. Как испоганил ее чистоту! Пришлось даже бежать из родного города, словно последнему преступнику.
– Это было Не бегство, – вдруг сказал голос.
Все повернули головы.
Говорил Али!!!
Темный, неграмотный крестьянин посмел спорить с главным судьей Бухары…
– А что же это было? – насмешливо спросил Бурханиддин – Хиджра.
– Хиджра?! А разве хиджра не бегство?! Разве не этим словом мусульмане всего мира называют бегство Мухаммада из Мекки в Медину, когда враги сделали невыносимой его жизнь? Разве не с этого бегства, случившегося в 622 году, начинается мусульманская эра?
– Хиджра – это исход, – сказал Али. – «Я оставляю свой род и племя, я покидаю дом и очаг, я отправляюсь в хиджру к Аллаху». Кто не знает этих слов Мухаммада?.
– Воистину так, – тихо ответила толпа, – Хиджра – это полный отказ от Лжи, сидящей в зале Света, ради брошенной всеми Правды, – продолжил Али.
– Воистину так, – благоговейно отозвалась толпа.
– Разве не мог Ибн Сина лечить людей и брать за это деньги, за деньги же продавать ум и перо, деньгами остудить врагов и сделаться уважаемым человеком на родине, чтобы спокойно и роскошно там жить? Сколько 4 людей прошло уже и еще пройдет по этому пути! Ибн Сина же оставил родину, дом, могилы матери и отца и совершил исход, ничего не взяв с собой, как Мухаммад, – сказал Али…
– Воистину так, – поддержала его толпа.
– Да, оба они совершили бегство. От соблазнов. Оба совершили исход в высокую божественную духовность. Вот их хиджра.
– Воистину так.
И только хотел Али сесть, кончив говорить, как вдруг увидел – похолодел весь! – толпа опускается перед ним на колени… и даже Бурханиддин-махдум медленно склонил голову.
«Дорогой мой, – пишет из Бухары в Россию, в Троицко-Сергиевскую Лавру, русский офицер письмо, – сегодня, находясь на площади Регистан, на суде над бедным несчастным неграмотным крестьянином, я поверил, что при зачатии каждого из нас участвуют, согласно индийскому учению, отец, мать и гандхара – духовная сущность кого-то, кто страдал уже в мире».
VI «Или ты один из духов, богом проклятых?..»
В Гургандже все было новым для Ибн Сины. Город тесный, крикливый. «Идешь по его улицам, как по базару, – говорит Якут. – Нигде в мире нет такого густонаселенного Места».
Зима. – холодная, трескаются даже забытые во дворе кувшины с водой. Накрыл их Ибн Сина шубой, все равно треснули. А пока несешь воду от канала до дому, замерзает она в кувшине. Именитые горожане ходят в Красных плащах, отороченных мехом. У Хусайна нет такого плаща. Заказал сшить еще летом, портной до сих пор шьет. Здесь вообще все делают медленно. Лук два года мастерят, но зато какой получается лук! Только самые сильные могут его натянуть. Так что и шуба, может, получится и отличная.
Разговаривают хорезмийцы громкое будто кричат скворцы. Вместо приветствия говорят: «Поднимемся ко мне, у меня сегодня хороший огонь». Даже нищий войдет и прямо садится к огню. Отогреется, потом сидит, молчит. Просить здесь не принято, надо самому подать нищему хлеб, тогда он уйдет. Очень гордые хорезмийцы. Недаром Их не смог завоевать Александр Македонский.
Когда-то Хорезм – «Айран-Ваэджо» [66]66
Арийский простор.
[Закрыть]был «первой из наилучших местностей и стран, что создал Ахура-Мазда (Бог Добра)», – как говорит «Авеста» – древняя книга зороастризма. Орошался рекой Ванухи-Даитья [67]67
Реки Теджен, или Герируд, как считает Фрай. См. его книгу «Наследие Ирана».
[Закрыть]. Но разозлился на что-то Ангра-Манью (Бог Зла) и сотворил Хорезму змею, зиму и пустыню. Да, зима здесь ужасная… Пустыня и зима – хранительницы независимости Хорезма. Главная площадь Гурганджа похожа на главную лошадь Бухары, удивился Ибн Сина, Ворота дворца, выходящего на площадь, говорят, самые красивые ворота во всем Хорасане. Только здесь есть такие удивительные мастера резьбы по дереву. Каждая дверь – произведение искусства. Некоторых из них по 200–300 лет. Они черные и крепкое, как железо.
В середине города – пастбища для пригоняемого на рынки скота. В Константинополе, столице Византии, в середине – поля пшеницы, как слышал Ибн Сина от купцов.
Хусайн бродит по улицам, базарам, особенно подолгу простаивает на берегу широкой, как море, реки Джейхун, где грузятся суда. «Что это за люди, хорезмийцы? Благо родней ли они своего века? Или век благородней их?»
«Из Хорезма, заметил Ибн Сина, везут соболей, горностаев, бобров, воск, стрелы – все это берут у тюрков-огузов, приходящих с севера. От старого тюркского народа булгар берут белую кору тополя, мед, соколов, мечи, кольчуги, рабов-славян, баранов и коров. Сами же хорезмийцы производят виноград, печенье, кунжут, полосатые одежды, ковры, одеяла, прекрасную парчу, луки, И строят суда, Дирхемы у них обрезанные, не круглые, как в Бухаре, – свинцовые и медные. Бухарские гитрифи красивее.»
Едят хорезмийцы ячмень и пшеницу. На базаре можно купить финики из Кермана, сахар из Йемена в плетеных корзиночках, залитых гипсом. Появились недавно лимоны и апельсины – пища царей. В ланке книготорговца висят карты, нарисованные на египетских тканях. Много алых армянских ковров. И продается прекрасная китайская бумага с красным ободком, которой Хусайн особенно рад. Носят хорезмийцы высокие шапки. Есть у них даже янтарь с какого-то далекого северного моря.
Страшное в Хорезме – это невольничьи рынки. Рабов гонят к центру города от всех четырех ворот.
В эти часы Хусайн ничего не может делать. Сидит, как изваяние, над открытыми книгами.
Покупка раба – целое искусство. Отцы обучают ему сыновей с юных лет. «Прежде чем купить раба, говорит отец, уложи его на землю, пощупай бока, хорошенько осмотри, не болит ли у него где… Покупай только то, что будет размножаться. Знай, у тюрка есть характер, свежесть и чистота. По ловкости – это лучшие рабы. Аланы – самые храбрые, румийцы – вежливы, хозяйственны, удачливы, обладают хорошим характером, сдержаны на язык. Армяне враждебны к хозяину, склонны к побегу… Когда тебя одолевает любовная страсть, предложенных рабов не смотри, ибо под влиянием страсти безобразное покажется тебе красивым. Сначала утоли страсть. Потом уже занимайся покупкой».
А вот поучения со стороны продавца: « 1/ 4дирхема на хну делает рабыню дороже на 100 дирхемов. Рабов перед продажей обучи поведению: девушки пусть будут кокетливы и стоики с молодыми покупателями и податливы со стариками. Юноши – загадочны, молчаливы перед молодыми мужчинами, томно опускают глаза перед старыми. Кудри юноше-рабу не срезай. Не забудь и покупателю рассказать о достоинствах товара. Объясни, что девушки из Мекки так дороги потому, что склонны к искусству пения и необычайно кокетливы. За некоторых из них можно даже получить 13 тысяч дирхемов, если они певицы. Еще дороже девушки из Медины, потому что отличаются нежностью. Дороже их вавилонянки, ценящиеся умом. Берберийки всех дороже, потому что хорошо рожают. Негритянки же (не забудь им в день продажи приколоть в волосы или вложить в губы белую розу), и падая с неба, будут отбивать ритм. Но самые дорогие, конечно, – белые рабы. Смотри, не продешеви! Недаром матерями многих халифов были греческие рабыни… И учти: для мусульманина сойтись с рабыней не грех, для христианина – грех. Они стыдятся этого. Поэтому пусть девушка-рабыня ведет себя с покупателем-христианином как сестра, а с покупателем-мусульманином как наложница» [68]68
Из книги «Кабус-намэ», написанной внуком эмира Кабуса, современником Ибн Сины.
[Закрыть].
Когда Синедрион (высший религиозный иудейский суд) приговорил Христа к смерти, Понтий Пилат, римский наместник Иудеи, приказал солдатам сильно избить его и потом избитого привел в Синедрион.
– Се человек, – сказал он, думая, что вид Иисуса вызовет у них жалость, и они отменят приговор.
Нет, человек, если он раб, не вызывает жалости. Пришел к апостолу Павлу беглый раб, Павел… вернул его хозяину. Через 300 лет Блаженный Августин поспешил исправить эту оплошность, заявив, что христианство не пассивно к рабству, посчитает его наказанием за грехи. Однажды к Мухаммаду пришёл вождь одного племени и сказал: «Этот раб – мой сын. Возьми золото за него», Мухаммад ответил: «Без всякого золота, как захочет раб, пусть так в будет». Раб попросил у отца разрешение остаться…
О случае с Мухаммадом и рабом рассказал Муса-ходже крестьянин Али, Слепой старик был потрясен этим не меньше, чем происшедшим накануне в суде. Не всякий богослов прозрел бы то, что прозрел Али: хиджру пророка Мухаммада.
Муса-ходжа зажег свечку и задумался о пророке.
В прошлом бедный сирота, Мухаммад ходил с караваном по всей Аравии, как погонщик, прославился честностью, его даже стали называть ал-Амина («Достойный доверия»), и богатая вдова Хадиджа однажды доверила ему все свои караваны. Потом они поженились: 49-летняя. Хадиджа и 29-летний Мухаммад.
Когда мекканцы переругались, решая вопрос – какому племени внести во внутрь только что отремонтированного храма Каабы Черный камень, Мухаммад сказал: «Положите Камень на полотно, все вместе возьмитесь за него и войдите в храм».
Вот так он и жил до сорока лет – честный и скромный, и все думали, он счастлив, но все больше и больше росла в нем тоска. И он подолгу бродил по пустыне, сидел в пещере Хир, на горе Ноор, мучимый мыслями о несовершенстве мира.
«Поистине, прав Мухаммад, – думал Муса-ходжа: – „От гибели общину спасет только то, что ее породило – откровение искренности“. Разве не болен сегодня ислам? Заперся в доме и никого не пускает.
Отец рассказывал, – вспоминает слепой старик, – как сбросили в Бухаре с минарета Калян двух английских офицеров [69]69
О'Конолли и Стоддарта в 1838 году.
[Закрыть]. За то, что они под видом дервишей пробрались в Бухару. А после них приходил ученый-венгр [70]70
А. Вамбери в 1863 году.
[Закрыть], – тоже под видом дервиша, написавший потом книгу о Средней Азии и Бухаре, – хоть так приоткрыл окошечко в незнакомый европейцам дом, запертый на протяжении семисот лет!
Конечно, после того, как завоюешь пол мира, хочется посидеть одному в пещере Хир и все обдумать. Но если долго там сидеть, можно остаться в хвосте каравана: человечество никого не ждет. Хочешь, иди первым, хочешь, плетясь в хвосте я подбирай оброненное за ненадобностью.
„От гибели общину спасет только то, что ее породило…“ Это, когда все берутся за концы полотна и вместе вносят сокровища в общий дом».
Сколько мыслей поднял в душе каждого Али вчерашним своим поступком! Муса-ходжа понял: отныне он никогда не оставит этого парня. До конца пройдет с ним его путь.
Эмир Алим-хан тоже не спал эту ночь, думая о словах Али о хиджре. «Что это было? Откровение? Но ведь Али – неграмотный, из бедных. Откуда такая тонкость души? Но ведь и Мухаммад из бедных!»
В окно ударили камни, закричали проклятья детские голоса, Эмир поморщился. Позвонил в колокольчик. Вошел дежурный по питью. Нет. Вошел дежурный по Туалету. Да нет… Вошел дежурный по свечам.
– А… Все равно. Пусть отнесут им халвы и все такое…
Взял свечку, накинул халат. Мальчики уже убежали. Тихо, Крупные звезды, словно глаза тех, кто жил в Арке до Алим-хана, смотрят на него. Вот глаза Буниата. Говорят, Арк все время рушился, пока тюркют Буниат строил его, и мудрецы посоветовали поставить в основание Арка столбы так, как расположены звезды Большой медведицы…
А вон глаза Исмаила Самани… Вон – хана Шейбани.
А это смотрит Мангыт. «Основатель моей династии», – думает Алим-хан.
Одна княгиня спросила эмира в Петербурге:
– А правда ли, что Чингиз-хан, когда отправлял своего сына Джучи на Русь, дал ему четыре тысячи воинов из племени мангыт, и вы – мангыт?
Ничего Алим-хан не ответил ей. Когда меркиты взяли в плен Бортэ, жену Чингиз-хана, и продали ее Ок-хану, а тот, дружа с Чингиз-ханом, не тронул ее и попросил забрать, Саба, посланник Чингиз-хана, поехал за ней и принял у нее роды в пути, да не нашел во что бы завернуть маленького Джучи – первого сына Чингиз-хана, положил его в тесто, так и вез.
Да, мангыты и чжурчжени пришли с Джучи из Монголии и долго жили на Волге, где и отюречились, поднялись до Казани. По русские князья в XV веке стали бить их. Тогда Шейбани-хан собрал всех и привел в Среднюю Азию. Узбеки – чистый тюркский народ Золотой Орды, не смешанный ни с чагатаями, ни с монголами, разгромили государство потомков Тимура, а три узбекских племени: шейбаниты, казахи и мангыты захватили власть.
Те, что пришли с Шейбани: чжурчжени, камские булгары (древнетюркские племена), хазары (булгары+тюркюты), половцы (потомки кипчаков, кипчаки потомки голубоглазых белокурых динлинов – аборигенов Алтая), аланы (родственные скифам), кипчаки, казахи (их ядро – кипчаки)… смешались со среднеазиатскими барласами и чагатаями (отюреченные монголы), тюрками: карлукам, потомками тюргешей, караханидов, уйгур, а также с монгольским племенем кара-китаев, с потомками арабов, таджиками, персами, туркменами и киргизами [71]71
На своей родине (Енисее) – последний европеоидный голубоглазый народ в Центральной Азии, к VIII веку отюречившийся, а в армии Чингиз-хана омонголившийся. Кроме перечисленных, Г. Грумм-Гржимайло называет до сотни других племен.
[Закрыть].
Вот каким был парод, населявший Бухарский эмират.
Когда Алим-хан пришел в северо-восточный угол Арка, в самый дальний его конец, где располагалось кладбище, то увидел, что дядя его, Сиддик-хан, тоже не спит, стоит во дворе и смотрит на звезды, лицо его было в слезах…
Оба смутились, увидев друг друга. Сиддик-хан, низко поклонившись, пригласил эмира в дом.
Во время болезни эмира Музаффара Сиддик-хан, правитель Чарджоу, приехал в Арк (без разрешения) навестить отца. А отец, оказывается, несколько дней как умер, придворные держали это в секрете. Тайно привезли из Кермине брата Сиддик-хана – Абдулахада – отца Алим-хана, и объявили его государем, а Сиддик-хана арестовали, и вот с 1885 года, уже 35 лет, он живет в этом доме один, в ему никуда не разрешается выходить.
Алим-хан, когда стал эмиром в 1910 году, не тронул Сиддик-хана, хотя придворные и советовали его убить в целях безопасности государства, – разрешил приносить ему книги, какие он просил, и бумагу без ограничения. Просматривая списки заказываемых Сиддик-ханом книг, заметил в них книги Ибн Сины. Значит, дядя выучил арабский.
Первый раз Алим-хан пришел к Сиддик-хану, когда вернулся из Петербурга, в 1910 году, по окончании Кадетского корпуса. Алим-хану не терпелось показать орден Белого Орла, каким наградил его Николай н.
Сегодня Алим-хан пришел к Сиддик-хану во второй раз через десять лет. Потрясенный приходом эмира, Сиддик-хан ничем не выдал себя, только дернулась щека, будто ударили по ней невидимые барабанные палочки. «Какое самообладание! – отметил про себя эмир. – Благородство? Или сатанинская скрытность? Может, и вправду, лучше его убить?»
– Разреши, – начал говорить Сиддик-хан, – я буду учить мальчиков. Тогда они перестанут бить твои стекла. Эмир удивился: «Сын хана, а говорит такую глупость!» После смерти эмира Музаффара арестовали и братьев Сиддик-хана: одного в Гузаре, другого в Бане у не. Сыновей их, рождавшихся после, эмир приказал забирать в Арк и держать взаперти. Эти байсунские и гузарские царевичи жили без слуг, сами таскали воду, кололи дрова, готовили обед – чтоб меньше было времени думать о захвате престола. Конечно, можно было бы сбросить их в потайной колодец, что в северо-восточном углу Арка, сбросить туда и Сиддик-хана и жить спокойно. Но… пусть бьют стекла, пусть проклинают, пусть плачут, глядя на звезды. Хоть какая-то искренность в мертвом логове!
– Что это? – спросил Алим-хан, увидев завиток на стене, сделанный красной краской:

– Моя жизнь. Я уже вот здесь. – Сиддик-хан показал на выгиб у конца линии.
Помолчали.
– А что ты сделал с аистами? – вдруг спросил Сиддик-хан эмира. – Не стоит больше нигде это белое счастье на одной ноге над Бухарой. Я все глаза проглядел.
– А на меня что так смотришь? – рассмеялся Алим-хан. – Я же не аист. Прострелишь! Ну взгляд…
– Я-то в лицо тебе смотрю, а бог – в сердце…
Алим-хан ушел.
На обратном пути заглянул и окно другого затворнического дома, где жил его четырнадцатилетний сын, наследник.
Мальчик спал, прижавшись к старину слуге. По закону эмир и наследник не должны были видеться. И не виделись, если не считать праздника обрезания, когда Алим-хан пришел и стер пальцами, унизанными перстнями, слезы, градом катившиеся по лицу испуганного внезапной болью пятилетнего ребенка. Пройдя двор, Алим-хан взял у шедшего навстречу русского солдата кувшин и спустился с ним в комнату воды. Пока набирал воду из цистерны, колол лед, вяло кидал его в кувшин. – все – смотрел и смотрел на Ала, сидевшего на соломе в углу, «Как бы ни вел себя на суде этот парень. – думал эмир, – дело сделано. Шпур, сгорев, взорвет бомбу, вложенную в сознание народа, и народ покорится, Каким бы могучим ни было половодье, берега все равно сожмут его в узкую реку. Половодье – это неестественное состояние. Естественное – подчинение одного другому. Вода подчиняется берегам. Народ – эмиру… Придет время, когда никто больше не будет стоять между мной о моим народом. И мне достаточно будет сказать слово, в народ пойдет за мной, восседающем на коне, и будет все сметать на своем пути: всех этих русских консулов, афганских офицеров, английских советников. И снова я останусь один. Я и мой народ. Как в старые добрые времена…»
– Итак, – начал говорить Бурханиддин-махдум, поднимаясь над народом на площади Регистан, – достопочтенный Абу АЛИ Хусайн Ибн Сина обвиняется нами в преступлении против бога.
Народ замер. Такого услышать он не ожидал. Ведь судят-то не Ибн Сину, а Али… Вот, значит, куда все шло! Ай да Бурханиддин… Как всех обкрутил. Как тигр, на лапах прошел. Такая свобода была на суде. Задавай какие хочешь вопросы… В так всех незаметно втянул в судьбу Ибн Сины, – о нем только и разговоры вел! – что про Али и забыли. И потому теперь так нагло, в открытую в заявил: «Ибн Сина нами обвиняется»…
– Ибн Сина нами обвиняется, – продолжает судья, – в еретизме, ибо утверждает, что мир не создан богом, а существует вечно и развивается по своим, не зависящим от бога законам.
Это потрясло народ. Ибн Сину знали, как дерево, растущее у родного дома, тропинку, ведущую в поле, родник, какой у каждого есть в тайном уголке природы, благословенны семьи, ее покой, ее духовная сила и красота. Патрон Бухары – вот кто такой был всегда для народа Ибн Сина. И оказывается, никто не знал его, судя по тому, в чем обвиняет великого бухарца Бурханиддин, как порою не знает человек, живущий у истоков реки, мощи ее низовья.
Ибн Сина-философ всегда был для народа солнцем, которое греет землю, растит хлеб. Но из чего состоит это солнце, что у него там внутри – народ не знал, да и не хотел знать. Попробуй, приблизься – сгоришь. К народу истекает лишь красота философии – ее нравственность. Зачем ему сухая ее логическая суть? Ибн Сина всегда был для народа символом высокой нравственности ума и души. Почти тысячелетний его авторитет и чисто человеческое обаяние стояли над народом сочувствием небес… И вдруг Бурханиддин так резко, так жестоко сорвал туман, за которым оказалось совсем не солнце, сотворенное богом, а холодный, насмешливый дьявольский глаз.
Народ мог выступать против эмира Алим-хана, но не против бога.
– Чтобы иметь право судить Ибн Сину как философа, – продолжает Бурханиддин-махдум, – я должен сам быть философом. И не просто философом – кто сейчас не философ! – а как он – совершенным Умом. У меня же, если честно говорить, в голове полный сумбур. Но есть человек – может быть, даже больший Ум, чем Ибн Сина, который родился всего через каких-то 22 года после его смерти и знал все его труды так, что ночью разбуди, любое место из любой книги Ибн Сины мог сказать наизусть. Знал он в совершенстве греческую и арабскую философию. Это ученик несравненного Джувайни, современника Ибн Сины, того самого, что, выстояв в борьбе с мутазилитами, взял от них логику и соединил ее с богословием. Но, кроме божественного ума, святой ученик Джувайни обладал еще и высоким состоянием духа, что ценится больше самой Истины. Недаром ученик Джувайни носит самый почетный исламский титул В Доказательство ислама (Худджат ал-ислам). И если бы не было пророка Мухаммада, он был бы им. Ученика зовут Газзали.
Народ рухнул на колени.
– Газзали, – начал говорить Бурханиддин после благоговейного молчания, – обвиняет Ибн Сину как философ и как богослов в том, что Ибн Сина смешал философию с религией, изложил философию религиозными, – да еще христианскими! – терминами.
Почему Ибн Сина все так перепутал? Потому, что путанно, плохо усвоил труды Аристотеля, переведённые евреями и еретиками-несторианами, изгнанными из Византии. они так напереводили, что труд неоплатоника Плотина «Эннеады» оказался трудом… Аристотеля – и стал лаже называться «Теологией». А в этих «Эннеадах» и была как раз применена к философии христианская терминология.
У Кинди, основателя дома мусульманской философии, и у Фараби, ее главного архитектора [72]72
То есть систематизатора.
[Закрыть], не хватило проницательности почувствовать несоответствие этой «теологии» трудам Аристотеля. Ибн Сина же, тоже ни в чем не разобравшись, впустил в дом мусульманской философии все науки, создал эдакое половодье философии [73]73
То есть придал ей энциклопедический размах.
[Закрыть]и все бы так в двигалось дальше, если бы не пришел Газзали.