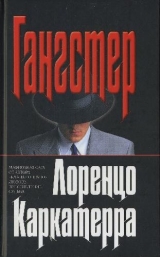
Текст книги "Гангстер"
Автор книги: Лоренцо Каркатерра
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Именно поэтому, когда Пудцж и Анджело взяли меня на соревнования по рестлингу, это значило для них куда больше, чем потратить несколько часов на развлечение. Это был способ показать мне, каким образом происходит реальная жизнь, показать как то, что одному кажется хорошим, может сразу превратиться в зло для другого и что никому нельзя ни в чем доверять. Они проводили со мной такие уроки на протяжении всего моего детства, куда бы мы вместе ни ходили и что бы ни смотрели.
«Подойди к любому гангстеру и спроси его, что ему больше всего нравится в театре. Даже если он ни черта в театре не понимает и никогда там не был, он все равно скажет, что его любимая пьеса – «Смерть коммивояжера», – поучал меня Пуддж, когда мы смотрели какой–то совсем другой спектакль. – Верно–верно, я знаю, что эту пьесу любит много другого народа. Но этим интересно действие или же нравится, что и как написал автор. Гангстерам на все это наплевать. Мы уходим из театра после этой пьесы с очередным подтверждением того, что человек, ведущий праведную жизнь, соблюдающий все законы и упорно работающий, не получает ничего хорошего, а только надрывается и уходит на тот свет, так и не найдя счастья. Стать таким, как Вилли Ломан, – вот чего больше всего боится любой гангстер. Он прожил всю жизнь и остался с пустым карманом, и единственным выходом для него оказалось врезаться на автомобиле в дерево и получить страховую выплату. Если это единственное, на что честный человек может надеяться под конец своей жизни, что ж, пускай тот, кого это устраивает, ведет такую жизнь. Его право».
Я вышел после последнего урока, волоча тяжеленную сумку, набитую книгами. Мне не терпелось поскорее увидеть Пудджа в пиццерии за углом неподалеку от школы. Подходил к концу второй месяц моего обучения в школе святого Доминика на 31‑й улице, куда приемные родители перевели меня, решив, что от церковного образования будет больше толка, чем от муниципального. Хотя я без труда приспособился к большей учебной нагрузке и более строгим правилам, соблюдения которых требовали учившие нас католические монахи, никаких приятелей я так и не завел, сознательно сохраняя безопасную дистанцию между собой и одноклассниками. Я не имел представления о том, когда и куда буду вынужден снова переехать, и не хотел рисковать – вливаться в какую–нибудь группу, от которой меня обязательно вскоре оторвут, – хотя Пуддж неоднократно заверял меня, что это будет моя последняя остановка. Впрочем, дело было не только в моем упрямстве – соученики пока что тоже не спешили идти на сближение со мной. К тому времени я много времени проводил в одиночестве и привык к положению стороннего наблюдателя за играми и шалостями окружавших меня детей. Моя биография была хорошо известна и учителям, и ученикам. Мало найдется тайн, которые можно было бы сохранить от острых глаз и чутких ушей в тесном мирке, застроенном дешевыми доходными домами, и моя к их числу не относилась. Ни с кем не делясь своими переживаниями и держась замкнуто, я просто давал окружающим немного меньше поводов для разговоров, однако понимал, что это лишь сильнее разжигает их любопытство.
Я дернул за железную ручку и открыл красную деревянную дверь на улицу. Но не успел я поставить ногу на верхнюю ступеньку, как чья–то рука с силой толкнула меня вперед, так что я потерял равновесие и выронил сумку с книгами. Одной рукой я все же сумел ухватиться за перила, но другой ткнулся прямо в середину шершавой бетонной ступеньки и ободрал до крови. Повернувшись, я увидел нескольких мальчишек, стоявших на верхней площадке крыльца. Все они, ухмыляясь, смотрели на меня и совершенно явно ждали моей реакции.
– Кто меня толкнул? – спросил я, вытирая кровь с руки о штаны.
Пухлый парнишка с овальным лицом и густыми рыжими волосами выплюнул зубочистку и не спеша сошел на одну ступеньку вниз.
– Вот он, стоит перед тобой, крыса приютская, – сказал он. Он стоял, чуть раздвинув ноги и опустив руки со сжатыми кулаками. – Я вижу, ты спешишь, вот и решил помочь тебе разогнаться.
Стоявшие за его спиной друзья расхохотались, а тощий чернявый паренек, похоже испанец, одобрительно и явно льстиво похлопал толстяка по плечу. Рыжего звали Майкл Каннера, я несколько раз видел его на игровой площадке во время перерыва на ленч и был с ним в одном классе на уроках религии, но мы ни разу не обменялись ни единым словом. Он был, судя по всему, предводителем этой шайки и часто привлекал к себе внимание братьев–учителей, которые без особых колебаний прибегали к наказанию в виде порки кожаным поясным ремнем. Каннера постоянно искал повод подраться; как я успел понять, просто из любви к драке, а не ради власти или защиты своего маленького княжества от какой–либо внешней угрозы. Я несколько раз становился свидетелем его уличных баталий – обычно против детей помладше, – из которых Каннера всегда выходил победителем, хотя и не без крови. Я также заметил, что, с кем бы он ни дрался, его спину всегда прикрывали по меньшей мере трое его приятелей, готовых при необходимости вмешаться в схватку. И сейчас, когда я смотрел на него, а он – на меня, я знал, что представляю собой всего лишь выбранный на сегодня объект для избиения.
Он имел передо мной большое преимущество. Я, будучи сиротой на государственном иждивении, был обязан вести себя идеально, и в семье, куда меня направили жить, и в школе, которую посещал. Уличная драка, особенно возле школьных дверей, не могла остаться незамеченной, а это с высокой вероятностью означало, что меня отправят в приют.
– Ладно, – сказал я, наклонившись, чтобы поднять сумку. – Я вроде никому дорогу не загораживаю.
Майкл спустился еще на две ступеньки ниже, на его губах застыла напряженная ухмылка.
– Только вонючка может вот так сейчас взять и уползти, – сказал он. – А ведь ты и есть вонючая крыса приютская, точно? Ты, наверно, еще сильнее воняешь, когда нужно платить кому–нибудь, чтобы они прикидывались твоими родителями.
– Почему бы тебе не поискать приключений где–нибудь в другом месте? – спросил я, подняв сумку и повернувшись к толстяку спиной. – Здесь ты их точно не найдешь.
– Я никому не позволю указывать, что мне делать, а чего не делать! – заорал он и одним прыжком перелетел через оставшиеся три ступеньки. – Особенно такой вонючей грязной приютской крысе!
Он изо всей силы толкнул меня в спину, так что у меня перехватило дыхание, я опять выронил сумку, а сам полетел ничком на тротуар, разбив лицо. Он навалился мне на спину всем своим весом и принялся лупить меня кулаками по шее и голове. Я приподнял голову и попытался хотя бы сориентироваться, на языке ощущался явственный вкус крови, стекавшей из большой ссадины под глазом. Сумка упала справа от меня, книги вывалились, одна из них лежала корешком вниз, ветерок листал открытые страницы. Я протянул руку и схватил учебник, который оказался ближе всех – толстый том географии, словно прислоненный нарочно к тонкому деревцу, торчавшему из клочка высохшей твердой земли. Мои плечи и спину словно кипятком ошпарило – настолько яростно толстяк меня колошматил. Я закрыл глаза и потянулся книге, ухватив ее за краешек кончиками пальцев, опираясь на свободную руку.
А между тем энергия нападения иссякала и удары стали сыпаться реже. Я почувствовал, как Майкл, сидя на моей спине, откачнулся назад, схватил меня за воротник и поднял мою голову от земли. Было слышно, как он тяжело дышал, жадно хватая ртом холодный воздух. Я оперся о землю правым плечом, посильнее стиснул книгу, извернулся и что было мочи ткнул учебником в пухлую рожу мальчишки. Мне удалось попасть ему по уху и зацепить уголком обложки глаз; он кувырком слетел с моей спины и упал боком на тротуар. Я поднялся на колени и сам начал колотить своего противника по лицу и в грудь. Один сильный удар пришелся ему точно в нос, и брызги крови полетели мне на рубашку и в лицо. Я наклонился, поднял все тот же учебник географии и начал бить им врага по лицу, целясь в нос и в рот; я не мог остановиться, пока вся обложка не сделалась красной от его крови.
Тогда я бросил книгу наземь и поднялся во весь рост. Спину и плечи жгло, я не мог распрямиться от боли, но я стоял над своим врагом, глядя, как он размазывает пальцами по лицу кровь, текущую из распухшего носа и из уголков разбитых губ.
– Ты этого хотел? – спросил я, сам удивляясь тому, насколько быстро пробудился мой собственный инстинкт, управляющий самозащитой и насилием. Я на мгновение отвернулся от него – лишь затем, чтобы удостовериться, что никто из его дружков не накинется на меня сейчас. Но они так и торчали на верхней площадке школьного крыльца, только наглые ухмылки как стерло с их лиц. – Ты и твоя кодла этого ждали?
Он обильно сплюнул кровью и сверкнул на меня глазами.
– Погоди, все только начинается, – пригрозил он.
Я часто дышал, меня трясло от гнева. И вызвал его не только этот толстый мальчишка и постоянно таскавшиеся с ним дружки. Моя ярость не ограничивалась только ими. Она теперь была направлена на все те безымянные лица во всех коридорах всех школ, которые мне когда–либо приходилось посещать. На тех, кто показывал на меня пальцами и шептал слова, которые я как будто (я очень старался, чтобы так и казалось) не слышал. Я был заклейменным ребенком и объектом всеобщего презрения. Многие школьники приходили из домов, где насилие за закрытыми дверями было самым банальным делом. Некоторые принадлежали к неполным семьям, распавшимся из–за раздоров и ненависти. Были также и незаконнорожденные, которым посчастливилось не получить клейма, зачастую запечатляющегося на таких детях с момента рождения. Я же был приемным ребенком, вброшенным в их жалкую лужу, и мне приходилось терпеть всеобщую ненависть и постоянно испытывать страх из–за своего положения. В рабочих районах приемных детей нечасто принимают в компании сверстников. На них смотрят как на редкую диковинку, почему–то видят в них опасность, им не доверяют и никогда не любят. Вот почему многие из приемных родителей стараются держать усыновление в тайне. Таких, как я, берут в семьи не потому, что любят и жить без нас не могут. Нас берут потому, что пока мы живем в семье, по почте будет ежемесячно приходить конверт с чеком на имя приемыша.
И сейчас я выплескивал весь накапливавшийся во мне годами гнев, изо всех сил пиная Майкла в бока и по спине. Мои черные ботинки безошибочно попадали в цель, их закругленные носки то ударялись о кости, то проваливались в мякоть.
– Нет! – орал я на него после чуть ли не каждого удара. – Все сейчас закончится! Закончится сейчас!
Я краем глаза видел, как его друзья спускались по ступенькам школьного крыльца, прижимаясь друг к другу и с испугом наблюдая, как их совсем недавно непобедимый вожак пытается уползти и спрятаться где–нибудь в безопасном углу, который, как ему представлялось, находился за мусорными баками. А я продолжал пинать его, весь запас накопленного во мне яда изливался разом в виде абсолютного, ничем не сдерживаемого насилия. Мое тело было покрыто холодным потом, а вокруг уже столпилась кучка прохожих, пяливших глаза, разевавших рты и что–то бормотавших под нос – в общем, наслаждавшихся кровавой сценой. Я еще раз всадил ногу ему прямо под ребра и услышал, как он вскрикнул и закашлялся; кровавый след, показывавший, где он полз, протянулся от крыльца до угла школьного здания. Я отступил на полшага, снова отвел назад ногу, чтобы нанести еще один сильный удар, но вдруг мощная рука обхватила меня за талию, приподняла в воздух и оттащила от избитого мальчишки.
– Ты победил, малыш, – сказал Пуддж мне прямо в ухо. – Так почему бы нам с тобой не уйти отсюда?
Я повернулся, чтобы посмотреть ему в лицо, и кивнул, проводив взглядом каплю пота, упавшую с моего лба на рукав его пиджака.
– Я этого не хотел, Пуддж, – сказал я. – Они, наверно, пойдут жаловаться братьям, но не я все это начал.
Пуддж поставил меня на асфальт, подошел к мальчикам, все еще стоявшим на ступеньках, и внимательно посмотрел каждому из них в лицо.
– Поднимите вашего друга и отведите его куда–нибудь, где он сможет умыться и почиститься, – приказал он. – Если бы на вашем месте был я, то позаботился бы о том, чтобы в школе не придавали значения таким вещам. Чем меньше посторонних будет знать о том, что здесь случилось, тем лучше будет для всех вас.
Мальчики медленно прошли мимо Пудджа, изо всех сил стараясь не смотреть ему в лицо, наклонились и подняли Майкла на ноги. Спереди его рубашка вся пропиталась кровью и прилипла к телу, как вторая кожа, голова болталась, свисая на сторону, он не мог самостоятельно держаться на ногах. Я смотрел как его уволакивали прочь. Теперь, когда мой гнев выплеснулся, я жалел, что не уклонился от этой драки, как делал много раз прежде. Я посмотрел вниз и увидел большие красные пятна – единственное свидетельство случившегося. Толпа зевак быстро рассеялась, не столько напуганная появлением Пудджа, сколько из–за того, что зрелище закончилось.
Пуддж похлопал меня по плечу и кивнул на все еще валявшиеся на тротуаре учебники.
– Будет лучше всего, если ты их быстренько подберешь, и мы с тобой уйдем отсюда.
– Мне очень жаль, Пуддж. Я не хотел, чтобы все так вышло. Он просто искал повода подраться, а я свалял дурака и дал ему такой повод.
Пуддж стоял надо мной, глядя, как я собираю учебники и тетради в мою школьную сумку.
– Дурак здесь был только один, и, конечно, не ты. Этот парень искал, о кого можно было бы безопасно почесать кулаки, а к тому времени, когда выяснилось, что насчет тебя он ошибся, он уже успел потерять кварту–другую крови.
– Ну, останется пара шрамов, а синяки и вовсе скоро пройдут, – сказал я. – Вот и все, что с ним может случиться. Он местный, живет здесь. Ему ничего больше не грозит. А мне будет плохо. Я же приемный. Как только станет известно, кто его побил, меня вышвырнут из школы, и с первого числа следующего месяца я уже буду жить в другом месте.
– Ну, это не так уж обязательно, – отозвался Пуддж; мы шли с ним бок о бок, направляясь к 10‑й авеню. – Народ здесь старается не говорить вслух о таких вещах.
– Со мной такое уже случалось, – сказал я. Мне было трудно поднять голову, шею и плечи ломило так, что боль отдавала в спине. – Из одной школы меня выгнали без всякой драки. Один мальчик из класса позвал меня к себе посмотреть телевизор. Его мать увидела меня и разозлилась. На следующий день она заявилась в управление опеки и нажаловалась, что я плохо влияю на ее сына. Они каждое воскресенье делали пожертвование в церковь, а мои тогдашние родители уже искали возможность сбагрить меня куда–нибудь. Вот и сбагрили.
– Что было, то было, – сказал Пуддж, по своему обыкновению пожав плечами. – Тогда ты не знал ни меня, ни Анджело. А теперь ты не один. Мы позаботимся, чтобы с тобой ничего такого больше не случалось.
Я остановился и повернулся к Пудджу, выронив сумку с книгами из рук с разбитыми, покрасневшими и распухшими костяшками.
– Почему? – спросил я его. – Почему вы решили заботиться обо мне?
Пуддж положил мне руку на загривок, не обращая вни–мания на гримасу боли, непроизвольно появившуюся на моем лице.
– Потому, малыш, что давным–давно, задолго до твоего появления на свет кое–кто нашел меня и Анджело и позаботился о нас. Может быть, теперь наша очередь поступить так же.
– Что ж, надеюсь, что смогу чем–нибудь отплатить вам.
Пуддж снял свою тяжелую руку с моей спины и указал пальцем на противоположную сторону улицы, где красовалась вывеска «Пиццерия Макси».
– Я люблю пиццу, но терпеть не могу есть ее в одиночестве. А раз у нас есть ты, у меня больше не будет такой проблемы.
Мы пересекли улицу, успев до появления машин, сорвавшихся с недалекого светофора. Воздух был наполнен ароматом пекущихся в духовке пицц, и воспоминания о жестокой уличной драке постепенно отходили куда–то в глубины памяти.
Глава 14
Лето, 1965
Я сидел за маленьким кухонным столиком, стиснутый между Джоном и Вирджинией Вебстер; мы втроем вкушали обед из жареного бифштекса с томатным соусом. Мы ели молча, не сводя глаз со стоявшего в углу нового белого портативного телевизора, показывавшего вечерние новости. В лос–анджелесском районе Уатт разразилось массовое восстание – десять тысяч чернокожих разгромили, разграбили и сожгли несколько кварталов с населением в пятьдесят тысяч человек и нанесли ущерб на сумму свыше сорока миллионов долларов. Для усмирения бунта было призвано пятнадцать тысяч полицейских и национальных гвардейцев, но он утих лишь после того, как тридцать четыре человека были убиты и четыре тысячи – арестованы. Двести коммерческих предприятий разорилось и погибло безвозвратно.
Эпизоды, разворачивавшиеся на экране, походили на жуткие кадры из фильма ужасов. Телекамеры выхватывали злобные черные лица людей, выкрикивавших лозунги или швырявших камни и кирпичи в горящие здания. Против них стояли стеной люди с белыми лицами, готовые сделать все необходимое для того, чтобы прекратить погром и спасти перепуганных соседей. Я сидел в кухоньке, не в силах оторвать глаз от двигавшегося на экране портрета Америки в таком виде, какого никогда не мог даже представить себе, слушал негромкие голоса репортеров, комментировавших события вне поля зрения камеры, и ломал себе голову над вопросом о том, что же могло довести целый городской район до такого накала ненависти.
– Только поганый ниггер может вот так взять и поджечь свой собственный дом, – пробормотал Джон. Он набил рот мясом и, с трудом пережевывая его, пялился на экран. – А потом они крушат магазины и мастерские, которые их кормят. Мозги у них не варят и никогда не варили. Дай им хоть малейшее послабление, так они сразу спалят дотла всю эту проклятую страну и обвинят в этом нас.
– Кого это – нас? – спросил я, отвернувшись от телевизора, чтобы взглянуть через стол на человека, назвавшегося моим приемным отцом. Джон Вебстер был очень крупным – двести сорок фунтов жирного мяса, облегавших шестифутовый костяк – мужчиной с тихим, но бесконечно угрюмым нравом. Его отношение к жизни было исключительно пессимистическим, а вину за скромность своего достатка он возлагал не на свои необразованность и нехватку инициативы, а исключительно на различные этнические группы, которые вторглись в страну и захватили рабочие места, ранее принадлежавшие только белым.
– Ты спрашиваешь, кто такие мы? – недовольно отозвался он. – Белые люди. Они поджигают города, а виновными в этом оказываемся мы. Как будто я виноват в том, что они родились такими, какие есть!
– Может быть, у них есть серьезные основания для того, чтобы так злиться, – сказал я. Мой взгляд вернулся к маленькому экрану, на котором здание супермаркета занималось огнем от множества брошенных туда факелов и чернокожие подростки в футболках и джинсах бежали с цветущими на лицах победными улыбками от полиции. – Они просто не держат в себе свою злобу, как это делают все остальные, только и всего.
– Я не желаю слышать за своим столом никаких разговоров об этих людях! – сердито повысил голос Джон. – Они родились безмозглыми и такими помрут. Если хочешь пытаться оправдывать их, делай это где–нибудь в другом месте. Я не допущу ничего подобного в своем доме.
Вновь отвернувшись от телевизора, я взглянул на женщину, именовавшуюся моей приемной матерью. Она, как обычно, сидела молча, с непроницаемым лицом, заперев любые мысли и чувства, которые могли бы у нее быть, в глубинах души, скрытой в увядшем теле. Я поднялся, отодвинул стул и начал убирать со стола свою пустую посуду. Джон взял свою кружку с пивом, выхлебал одним глотком больше половины, взглянул на меня и ухмыльнулся.
– Раз уж ты так их любишь, может, мне стоит позвонить в службу социального обеспечения, чтобы они подобрали черномазую семейку для никудышного белого мальчишки, который все свободное время бегает на посылках у гангстеров. Могу держать пари, даже у самого тупого черномазого хватит мозгов, чтобы не тянуть лапы к такому ядовитому подарку.
Вирджиния, как я заметил, поморщилась, услышав грубые слова мужа, но все же опять промолчала. Я положил тарелки в раковину и принялся мыть их холодной водой из–под крана, повернувшись спиной и к кипевшему гневом Джону Вебстеру, и к неудержимому насилию, которое продолжало изливаться с маленького телевизионного экрана. Будет лучше всего, думал я, постараться не реагировать на поведение Джона, по крайней мере сейчас. Все равно я ничего не мог поделать. Я не питал ни малейшего уважения к Джону Вебстеру, да и он сам за все те месяцы, что я прожил в его доме, под его опекой, которой он даже и не пытался придать видимость заботы, ни разу не дал мне малейшего повода для уважения. Он был ожесточенным и вечно недовольным человеком и все жизненные трудности использовал для оправдания вечно клокотавшей в глубине души ненависти, которой он чрезвычайно редко позволял прорваться на поверхность. Я никогда не видел подобных эмоций у Анджело или Пудджа. Этих, по крайней мере внешне, полностью устраивало их личностная суть и положение в мире, и свои проблемы они решали сами. В отличие от Джона Вебстера Анджело и Пуддж не имели ни времени, ни желания делить мир на черную и белую половины, противостоящие одна другой. Они предпочитали рассматривать мир со стороны, откуда он был виден целиком, подпускать к себе лишь немногих – тех, кому доверяли, – и загораживаться непроницаемыми барьерами от всех посторонних. Решая, можно или нет доверять тому или иному человеку, они совершенно не принимали в расчет цвет его кожи, но старались понять его намерения и мотивы его поступков.
«Быть расистом глупо, особенно в рэкете, – однажды сказал мне Пуддж. – Наоборот, чтобы чего–то достичь, нужно не быть расистом. Когда мы с Анджело начинали, организованная преступность состояла в основном из итальянцев, ирландцев, евреев и чернокожих. Четыре группы людей, которых чуть раньше или чуть позже поглотила пасть этой страны. До сих пор много народу мечтает о том, чтобы всех нас не стало. Мы знаем, что такое быть ненавистными, что значит отторгаться обществом. Разница в том, что, если ты гангстер, люди будут все так же ненавидеть тебя и желать тебе смерти, но не станут говорить об этом вслух. Они не осмелятся открыть рты, так как боятся того, что мы можем с ними сделать. Так что поверь мне, малыш, если хочешь посмотреть на расиста, то возьми банкира из офиса за углом или парня с Уолл–стрит, ворочающего миллионами. А у нас можешь не искать. В этом грехе мы, как правило, неповинны».
Домывая тарелки, я думал о том, как жаль, что я не могу постичь причины, вызывающие бунты, найти какие–то оправдания случившимся погромам, но совершенно не представлял, как облечь в слова то, что я чувствовал сердцем. Я понимал, что значит носить на себе бремя накапливавшихся годами гнева и негодования, которым окружающие не придают ни малейшего значения. Я не знал, допущу ли я когда–нибудь, чтобы растущая в моей душе ненависть увлекла меня по той же дороге, на которую встали мятежники из Лос—Анджелеса, но отчетливо понимал, что, если я не смогу вырваться из общества Вебстеров, мое состояние прорвется всплеском насилия в той или иной форме.
– Вы уже доели? – спросил я Джона Вебстера и протянул руку, чтобы забрать у него тарелку. Пока я мыл свою тарелку и кастрюли, в которых Вирджиния готовила обед, он выпил еще одну кружку пива и переключил телевизор с репортажа о бунте на программу «Фильм за миллион долларов». Сегодня там показывали «Годзиллу» с Раймондом Берром.
Джон толкнул тарелку ко мне и смерил меня своим обычным злым взглядом.
– Если хочешь знать, та шпана, с которой ты все время шатаешься, она еще хуже любых черномазых. – Он уже изрядно налился пивом и теперь испытывал неодолимое стремление поболтать. Он потянул за колечко на крышке следующей банки с пльзеньским, из щели полезла пена. – Они хотят легко жить, а для этого идут по головам тех, кто добывает деньги тяжелым трудом, таких людей, как я. Если им чего захочется, они приходят и берут. А жить по–другому они не умеют и не хотят. Если ты не поостережешься, то и заметить не успеешь, как превратишься в одного из них. Если еще не превратился.
– С каких это пор вы стали беспокоиться о моем будущем? – Я взял тарелку и снова повернулся к раковине.
– Нисколько я не беспокоюсь. – Джон Вебстер пожал плечами и перелил пиво из банки в свою пустую кружку. – Я никогда не скрывал, что мы взяли тебя в семью только для того, чтобы получить немного дополнительных денег. Дети нам никогда не были нужны, а сейчас и тем более не требуются.
– Хватит, Джон, – впервые за вечер заговорила Вирджиния; ее помятое безрадостной жизнью лицо залилось краской. – Вся эта жестокость вовсе ни к чему. Может быть, тебе стоит спокойно допить пиво и досмотреть кино, а?
Джон повернулся всем корпусом и уставился на жену, продолжая прихлебывать пиво и медленно закипая.
– Я только попытался честно поговорить с мальчиком. Дать ему представление о том, где может быть его место в настоящей жизни. Или там, или здесь.
– Похоже, что ты прекрасно с этим справился. – Она вытряхнула сигарету из пачки «Мальборо», взяла в рот, потом привычно повернулась на стуле, наклонилась, включила одну из газовых горелок – отличная у них была плита, газ поджигался электрической искрой, когда нажмешь на кнопку, – и прикурила. – Ну а теперь было бы лучше всего прекратить этот разговор.
– Ну, вот, ты переманил леди на свою сторону, – заявил Джон, издевательски поклонившись жене. – Впрочем, это меня вовсе не удивляет – ведь это была ее затея: взять тебя. Решила, видите ли, вернуться в те дни, когда ей хотелось попробовать, что значит быть матерью. Только вот не учла, бедняжка, что это будет так противно. Я ведь правду говорю, точно?
– Ты вообще ничего не говоришь, а только мелешь без толку языком, – ответила Вирджиния и выпустила над столом тонкую струйку дыма. – И, прошу тебя, остановись. Не нужно говорить об этом при мальчике.
Я вытер руки посудным полотенцем и повернулся к ним, опираясь спиной о раковину.
– Я не услышал ничего такого, чего не знал бы уже давно, – сказал я и аккуратно положил полотенце на стопку сохнущих тарелок. – Мне непонятно только одно: почему вы так долго терпите меня здесь?
– Это не из тех вопросов, на которые я намерен отвечать, – сказал Джон. Он поднялся со стула и поплелся в спальню, расположенную в глубине квартиры. – Об этом тебе лучше спросить своих друзей гангстеров. Может, они и скажут правду. Только я поостерегся бы поставить на это свое жалованье.
За считаные секунды я испытал множество разнообразных переживаний: и гнев, и растерянность, и облегчение. Я не знал, что он имел в виду и какое отношение Анджело и Пуддж имели к моему пребыванию в этой семье, но отлично понимал, что давно уже просрочил то время, когда нужно было покинуть этот дом, где мое присутствие с трудом терпели. Мы все знали о чувствах, которые испытывали друг к другу, но все равно в кухне небольшой квартиры в доме возле железной дороги воцарилась напряженная тишина. Я шагнул от раковины, прошел мимо приемных родителей, снял с вешалки свою ветровку с эмблемой «Янки» и отпер щелястую деревянную дверь.
– Одежду можете оставить себе, – сказал я и вышел.
Я медленно спускался по лестнице дешевого доходного дома, решительно повернувшись спиной к старой жизни и направляясь к новой.
Я наконец нашел себе дом. Это место, для которого я был предназначен, где мои поступки не изучали с неблагожелательной придирчивостью и уж тем более не подвергали непрестанному осуждению, где ко мне никогда не относились как к постороннему и не строили скрепя сердце из себя родителей. Я имел собственную комнату, пользовался свободой приходить и уходить, когда захочется, и ясно понимал, что должен нести ответственность за все свои поступки. Я был ребенком, попавшим в мир взрослых, и с жадностью впитывал все важные и мелкие составляющие такого приключения. Я оказался также посвященным в таинства мира, который доводится видеть немногим из моих ровесников, и влияние этого мира навсегда определило мое отношение к обществу и понимание своего места в нем.
Когда я тем вечером шел от дома Вебстеров в бар Анджело и Пудджа, мне было совершенно ясно, что моя жизнь настоятельно требует решительной перемены. Я также знал о том, что вариантов будущего у меня крайне мало. Если эти двое, которых я считаю своими друзьями, откажутся принять меня, то меня в конечном счете отыщет полиция и семь предстоящих лет я проведу в государственном приюте. Мало кто (если такие вообще бывают) выходит оттуда полноценными людьми, а я – это мне было точно известно – не буду в их числе. По душевному складу я не подходил для уличного существования, к тому же жизнь немногих уличных мальчишек, с которыми мне доводилось водить знакомство, с постоянством, достойным чего–то лучшего, либо обрывалась от употребления наркотиков, либо их находили мертвыми в переулках. Зная все это, я отлично понимал, что моя единственная надежда опиралась на столь зыбкую почву, как прихоть двух самых опасных во всем Нью—Йорке гангстеров.
Я разговаривал с ними обоими и говорил очень кратко.
– Я буду делать все, что вы скажете, – сказал я, стоя, не сняв ветровки, в баре, где было прохладно от кондиционера. Анджело и Пуддж сидели за дальним столом и разглядывали меня, сложив руки на столе. Их лица озарял огонь стоявших на столе зажженных свечей и мигающий свет от экрана, висевшего наверху телевизора. – И я не причиню вам никакого беспокойства. Я не стану крутиться рядом с вами и, конечно, смогу выполнять всякие поручения, чтобы отработать еду.
Анджело поднес стакан молока к губам и неторопливо отхлебнул. В его черных, как маслины, глазах отражались язычки свечей, а на худом, изрезанном морщинами лице нельзя было прочесть никаких эмоций. Он поставил стакан на блюдечко и вытер рот краем сложенной салфетки.
– У меня есть жена и двое детей, – сказал Анджело своим низким и сочным голосом. – Я вижу их, только когда это действительно необходимо. Почему я должен видеть тебя каждый день?
– Я не знал, что у вас есть семья. – Я попытался, но, кажется, не смог скрыть свое удивление. – Вы никогда раньше не говорили о ней.
– Но ведь и ты никогда не говорил о том, что хочешь жить здесь, – ответил Анджело. – По крайней мере, мне не говорил.
– Вы оба очень хорошо относились ко мне, – сказал я. – Ия знаю, что явился сюда с очень большой просьбой. Так что, если вы скажете «нет», это не изменит моего отношения ни к вам, ни к этому месту.
– А куда это «нет» тебя приведет? – спросил Пуддж. Его голос звучал намного мягче, чем у Анджело, и выглядел он не настолько напряженным. – По твоему собственному мнению?








