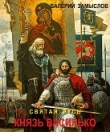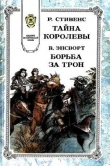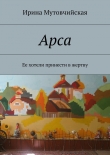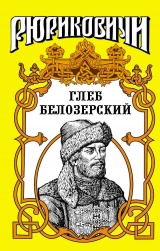
Текст книги "Глеб Белозерский"
Автор книги: Лев Демин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
– Почему не атакуем. Нас много, а их всего пятеро. Могли бы всех захватить и привести к хану.
– Могли бы, конечно, – ответил Глеб. – Но великий хан наказал в бой с людьми Ногая не вступать. Мы должны повиноваться.
– Жаль упускать врага, – посетовал сотник.
– Я узнал от старейшины, что это только небольшое передовое охранение. А позади не слишком далеко отсюда, на Днепре, стоят крупные силы. Что если они пустятся за нами в погоню. И настигнут нас?
– Тяжело будет.
– Вот именно. Произойдет столкновение неравных сил. А великий хан наказал схваток и сражений избегать.
На протяжении всего обратного пути местных кочевников больше не встречали: видимо, они сами избегали встречи с ордынцами и уходили на север. Над следами брошенных становищ парили коршуны, выискивая объедки.
По прибытии в лагерь Менгу Темира Глеб Василькович был незамедлительно вызван для доклада. Хан внимательно выслушал Глеба, не перебивая, и сказал с расстановкой:
– Ногай серьезный противник. Мои предшественники ценили его как хорошего полководца. По моим сведениям, он с главной военной силой пребывает на Дунае, наводит страх на греков и болгар.
Хан испытующе посмотрел на Глеба:
– Представь себя на моем месте, князь. Что бы ты стал делать?
– Что ты, великий хан… Я никак не могу представить себя на твоем месте. Я владею бедным княжеством, покрытым лесами, болотами. А ты властелин великой державы, которой принадлежит полмира.
– Ты великий льстец, князь Глеб. Пожалуй, тебе и вправду трудно представить себя на моем месте. Хорошо, ты мой советник. Вернее, один из моих советников. Что ты мне посоветуешь?
– Посылать один за другим отряды к низовьям Днепра, вдоль побережья моря Бар-аль-Азов, чтобы Ногай чувствовал твое присутствие, твое соседство в этих землях.
– Ты угадал мои мысли. Так и поступим. Пошлю три или четыре сотни моих воинов во главе с кем-нибудь из моих родичей. А ты, князь, отдыхай после похода. Ты привез полезные сведения.
Хан Менгу Темир трижды менял свое становище. Последним оказалось место на степной равнине к югу от донского устья.
Глеб Василькович получил еще одно ханское поручение – сопровождать сборщиков дани с касогских племен. Его дружина была усилена пол сотней ордынцев. Двигались на юг, пока не достигли реки Кубань. По берегам реки росли пирамидальные тополя и каштаны. Здесь обитало мирное племя касогов, выращивавших пшеницу, виноград, другие фрукты. Касоги предпочитали откупаться от ордынцев данью и жить с ними в мире. В равнинной части сбор дани прошел беспрепятственно. Обстановка осложнилась в предгорьях. Здесь население одного из аулов при приближении ханского отряда ушло в горы, угнав с собой скот. Жители двух других аулов пытались оказать сопротивление.
Отряд вернулся в ханскую ставку с небольшими потерями. В столкновении с непокорными касогами были убиты двое ордынцев и серьезно ранен один из дружинников Глеба. Оказавшие сопротивление касоги не выдержали долгого боя, и ушли в горы.
По возвращении в Сарай-Берке Глеб встретил там ростовского баскака Файзуллу, который привез дань. Его сопровождал для охраны боярин Антип Евлампиев с небольшой дружиной. Антип сообщил Глебу грустную новость.
– Матушка твоя, инокиня Марфа, приказала долго жить. Тому уже пошел второй месяц.
– Этого следовало ожидать, – тяжело вздохнул Глеб. – В последний раз она была совсем плоха.
– Князь Борис часто навещал ее в монастыре. Говорил мне, что перед кончиной инокиня совсем ослабла, вся высохла, перестала принимать пищу и никого не узнавала, даже самых близких.
– Много пришлось пережить матушке.
Хан Менгу Темир не стал удерживать князя Глеба, когда он сообщил ему о смерти матери и выразил желание отплыть из Сарая.
– Не держу тебя, князь, – дружелюбно сказал хан. – Ты послужил мне хорошо. Надеюсь, и еще послужишь.
Караван дощаников пустился в обратный путь. Гребцы налегали на весла. Обратный путь против течения был труден, тем более что дул встречный ветер и воспользоваться парусами не удавалось. К тому же заморосил нудный осенний дождик.
Достигли Ярославля уже в самый разгар осени. Деревья золотились опадающей листвой. Погода стояла ветреная, холодная.
Глеба встретил князь Федор Ростиславич, пригласил в палаты. Слуги засуетились, княгиня Анна отдавала распоряжения повару.
– Баскак Файзулла опередил тебя, – сказал Глебу Федор, – привез мне ханское распоряжение. По весне я должен отправиться в Сарай с дружиной. Что ждет меня там?
Полагаю, то же самое, что испытал я минувшим летом.
– А что ты испытал? Расскажи.
Глеб Василькович рассказал о своем участии в походах совместно с ханским войском по южной степи и в касогские земли, о столкновениях с горцами.
– В чем же смысл такого участия? – спросил Федор. – Ведь у хана Менгу многотысячное войско. Что может решить участие в ханском походе малой княжеской дружины, твоей или моей.
– Смысл-то есть. Не догадываешься?
– Может, хан намеревается привязать к себе русских князей, добиться их большей покорности. Начинает с более надежных, вроде нас с тобой, своих родичей.
– Не без этого. Но есть и другое. Орда переживает непростой период.
– Чем непростой?
– Ногай увел половину ханского войска и подчинил себе всю западную половину ордынской земли. А в Орде грызутся между собой ближайшие родственники Менгу Темира. Когда хана не станет, на престол станут претендовать несколько персон. Этой дракой и воспользуется Ногай. Как воспользуется – пока никто не знает. Может быть, он сам станет ханом возрожденной Орды, а всех соперников перебьет. А может быть, поддержит кого-нибудь из них, а сам останется в тени и будет фактическим властителем Орды.
– Откуда тебе это известно?
– Беседовал с новым сарайским владыкай. Он человек проницательный. Имеет хорошие связи в ордынской верхушке.
– Ты сказал – Орда переживает непростой период. А как это привязывается к нашему участию в походах ханских войск?
– Неужели непонятно? Хан старается припугнуть своих соперников, в том числе и Ногая. Вот, мол, смотрите, я располагаю не только своими силами, но еще и силами русских князей, которые по первому моему зову придут мне на помощь.
– Пожалуй, ты прав.
– Я так думаю, пока Менгу Темир жив, больших потрясений в Орде не случится. А когда он уйдет из жизни, одному Богу известно, что произойдет. Возможно, будет свара великая.
– Может, оно и к лучшему. Усобицы ослабят Орду, придет наше освобождение.
– Не знаю, скоро ли это произойдет. Не будем преждевременно обольщаться надеждами…
– Оставайся у нас погостить, Глебушка. Отдохни с дороги, – предложил Федор Ростиславич.
– Я спешу в Ростов, чтобы побывать на могиле матери, поклониться ее праху.
– Мать уже не вернешь. А отдохнуть и набраться сил надо. Кстати, я был на похоронах инокини Марфы. Похоронили ее с честью. Владыка Игнатий произнес над гробом покойной проникновенное слово. Говорил о ее трудах над летописанием, назвал ее великой просветительницей.
– Пожалуй, пару дней действительно отдохну у тебя. Что-то совсем притомился я за дорогу. Еще скверная погода ко сну клонит, – ответил Глеб. – Только сперва распоряжусь, чтобы дружинники незамедлительно отправлялись домой, в Белоозеро.
Глеб велел, чтобы два дощаника с большей частью дружины отплыли. Сотнику дал наставление:
– Сообщи княгине Феодоре, мол, жив, здоров. Скоро вернусь, как только побываю на могиле матери и повидаюсь с братом.
После щедрого застолья Глеб беспробудно проспал почти сутки. Встал, чувствуя себя вполне здоровым и окрепшим. На вторые сутки оставаться не стал, как Федор и его жена Анна ни уговаривали. Прощаясь, Глеб приласкал детей Федора Ростиславича, Настеньке сказал лукаво:
– Где будем играть свадьбу?
– Какую свадьбу? – пробормотала та в недоумении.
– Как какую? Твою и моего Михаила. Разве вы не просватаны? Он же жених твой, и ты его невеста. Или запамятовала?
Настенька смутилась, застеснялась и ничего не ответила.
– Так что передать жениху? – спросил Глеб девочку в прежнем шутливом тоне.
– Скажи, Настенька, пусть Михаил растет здоровым и умным, – подсказал ей Федор Ростиславич.
– И красивым, – выпалила, набравшись храбрости маленькая княжна…
В Ростове прибытия князя уже ждали. О его скором появлении сообщил баскак Файзулла, приплывший из Сарая. Наблюдатели заметили с берега Глебов дощаник на озере Неро и оповестили об этом князя Бориса Васильковича.
Глеба встретили на берегу брат с семьей, ближние бояре, небольшая толпа ростовчан. Братья обнялись.
– Осиротели мы с тобой, Глебушка.
– Грущу, братец, что не был рядом с матушкой при ее последнем вздохе.
– Что поделаешь? Ты был далеко и своей судьбой не распоряжался.
– Много ли было именитых людей на похоронах?
– Были и именитые. Из родни князь угличский Роман Владимирович, ярославский Федор Ростиславич, два брата покойной, брянский князь Роман Михайлович да тарусский Юрий Михайлович. Были все ростовские бояре, много купцов и простолюдинов. На отпевание собрался великий сонм духовенства. Матушку ведь все любили и почитали.
– А был ли кто-нибудь из Белоозера?
– Я послал туда гонца. Откликнулся визитом твой Григорий Меркурьев.
Глеб Василькович обратил внимание, что вся княжеская семья, даже дети, облачились в черные траурные одежды. Князь Борис был в черном суконном кафтане, наглухо застегнутом. Княгиня Марья Ярославна в черном платье, а ее голову покрывал черный вязаный платок.
Брат и невестка сопровождали Глеба ко гробу инокини Марфы. Спустились в подвал Успенского кафедрального собора. Княгиня Марья Михайловна обрела свой последний покой рядом с принявшим мученическую кончину от ордынцев мужем, ростовским князем Васильком Константиновичем. Рядом с его массивным дубовым гробом появился такой же дубовый гроб его супруги Марьи. Низкий сводчатый подвал слабо освещался пламенем восковых свечей. Перед гробом княгини-инокини молодой монах читал монотонно вполголоса псалтырь.
Глеб Василькович низко поклонился родительским гробам, потом встал на колени перед материнским гробом и положил руки на его головную часть. Не удержался от слез.
– Крепись, брат, – участливо сказал ему Борис. – Никто на этой грешной земле не вечен. Когда-нибудь дети наши будут горевать вот так же, как мы горюем с тобой сейчас.
Глеб не отозвался. Тогда Борис сказал:
– Посмотри, какие каменные плиты изготовили каменщики.
В соборе в боковом нефе, как раз над тем местом, где стояли в подвале гробы князя Василька и княгини Марьи, лежали две плиты из серого камня с выбитыми на них именами усопших.
Борис Василькович предложил брату посетить келью в женском монастыре, которая была обиталищем инокини Марфы.
– Настоятельница хотела было передать келью новой монахине. Я попросил ее не трогать келью и оставить в ней все как есть в память о матушке. Пока я жив, буду посещать ее.
– Разумно поступил, братец, – одобрил Глеб.
Келья была крохотная – пять шагов в длину и менее четырех в ширину. Простая деревянная кровать, рабочий стол с табуретом, сундук и полка с книгами. Вот и вся обстановка. На стенах – иконы с лампадами.
– Попросил настоятельницу оставить все, что было при матери, закапризничала. Внес хорошее пожертвование на монастырь – стала сразу покладистой. Мне все кажется, что матушка где-то рядом. Сейчас выйдет и заговорит с нами.
– Это потому, что душа ее осталась в книгах, в летописных трудах.
Ростовский владыка Игнатий по случаю прибытия князя Глеба повторил поминальную службу в Успенском соборе. Собралась княжеская семья, ростовские бояре и купцы. Тяжелые и размеренные удары большого колокола возвестили о начале службы.
После службы епископ сопроводил братьев Васильевичей ко гробу их матери и прочитал там краткую молитву.
– Достойная была женщина. Добрый след на земле оставила, – произнес владыка, завершив молитву.
Потом Игнатий пригласил обоих братьев к себе в епископский дом и стал расспрашивать Глеба о его поездке в Орду.
– Как тебе показался новый сарайский владыка? – спросил он.
– Человек он еще не старый, деятельный и словоохотливый, – заговорил Глеб. – Нашел подход к сердцам ордынцев. Обратил многих в лоно православия. В их числе можно найти и ханских родственников.
– Честь и хвала владыке Феогносту.
– Жаловался мне – папские люди обхаживают хана. Настаивают, чтоб папистам было разрешено учредить в Сарае свою епархию в противовес нашей, православной.
– И как к этому отнесся хан?
– Пока никак. С папистами встречается, выслушивает, но никакого решения не принимает.
– Им бы зацепиться за Сарай, завоевать расположение хана… А оттуда прямая дорога в русские земли при прямом попустительстве ордынцев.
– Вот об этом и Феогност мне говорил. Тревогу высказывал.
– Еще бы не тревожиться. Галицкий князь Даниил пробовал заигрывать с католиками, даже королевский титул от римского папы получил. Да на этом обожглись латиняне, убедились, что противится Галиция папскому влиянию. А князь Даниил твердо стоит на позиции православного князя. Теперь папа римский шлет Даниилу свои проклятия. Когда отправишься, князь Глеб, в родное Белоозеро?
– Погощу пару дней у брата и тронусь в путь.
– Скажи мне, как ты намерен поступить с теми прихожанами, которые усердно посещают службы, а потом идут в лес и молятся священным деревьям, лесовикам, водяным и прочей нечисти? Как бы ты поступил с такими двоеверцами?
– А никак. Кстати, двоеверие – это не только весяне, но и многие русичи. Мы толкуем о суевериях, которые к религии никакого отношения не имеют. В детстве старая нянька рассказывала мне сказки про Кощея, добрых и злых волшебников. Это не было пересказом Священного Писания. Где в Священном Писании сказано, что нельзя слушать сказочников, их рассказы про Кощея, лесовика или водяного?
– В Священном Писании, может быть, об этом и не сказано, но должен же быть у человека здравый смысл.
– Откуда у неграмотного весянина или даже русича этот здравый смысл, как мы его понимаем?
– Может, ты и прав, князь Глеб. Приеду к вам на Белоозеро и постараюсь узреть все своими очами.
– Всегда будем рады твоему приезду, владыка…
Князь Глеб ожидал, что брат, заядлый охотник, пригласит его на охоту. Но против его ожидания такого приглашения не последовало. В брате Борисе были заметны перемены. Он как-то отяжелел, утратил прежнюю бодрость. Возможно, начал сказываться возраст – ему исполнилось сорок лет.
Постоянные усобицы, боязнь ханской немилости, беспокойная жизнь, насыщенная волнениями и тревогами, приводили к тому, что князья редко могли похвастать продолжительностью жизни. А князь Борис еще болезненно перенес семейную утрату, кончину матери.
Осеннее утро было хмурым, ветреным, когда дощаник князя Глеба отплывал из Ростова. Провожали его брат Борис со всем семейством и владыка Игнатий. Епископ благословил Глеба Васильковича и напомнил о своем обещании наведаться в Белоозеро. Провожали Глеба и княгиня Марья Ярославна, и трое ее сыновей. Старший восемнадцатилетний Дмитрий, еще неженатый, вырос с отца и лицом походил на него. Второй, шестнадцатилетний Константин, более похожий на мать, немного не дотянул до отцовского роста. Младший, Василий, был еще малолеток, и трудно было сказать, в кого из родителей он уродился.
Взмах весел – и дощаник отчалил от берега…
Глава 20. БЕЛОЗЕРСКИЕ БУДНИ. КОНЧИНА КНЯГИНИ ФЕОДОРЫ
Казалось, повторяется пережитое. Опять дощаник подплывает к Белоозеру, растянувшемуся длинной извилистой лентой вдоль Шексны. Над вереницами одноэтажных невзрачных изб ремесленного люда, рыбаков, лодочников и другой неимущей голытьбы возвышаются храмы и купеческие палатки с башенками и причудливыми кровлями. И особенно бросаются в глаза княжеские хоромы с крыльцами-гульбищами, вычурными кровлями-бочонками. А на горизонте расстилается осенняя хмурь Белого озера, покрытого бесконечной рябью.
На берегу дощаник встречали дружинники, бояре, Григорий Меркурьев с сыном Власием, купцы, духовенство и, конечно, княжеская семья, княгиня Феодора с сыном Михаилом, заметно возмужавшим. Почему-то нет с ним младшенького Романа.
Княгиня Феодора бросилась к мужу, судорожно обняла его, прижалась к его щеке мокрым от неудержимых слез лицом.
– Вернулся, Глебушка… Живой. Сколько слез выплакала, тревожилась за тебя, – говорила она сквозь слезы.
– Что со мной сделается? Хан ко мне благоволит.
– Непредсказуем хан и коварен. Сколько уже жизней русских князей на их совести…
– Меня сия участь миновала. А почему не вижу сынка Романа?
– Похоронили нашего младшенького.
– Как такое случилось?
– Заболели оба сынка, покрылись красной сыпью. Хворь, говорят, в детском возрасте опасная. Михальчик покрепче, хворь перенес. А Романчик, от рождения слабенький, помер в одночасье.
– Пойдем в дом, Феодорушка. Расскажешь все, как было. Князь заметил, что вид у жены был болезненный, лицо заострилось. В глазах нездоровый лихорадочный блеск. С тоской Глеб подумал, что вряд ли болезненная Феодора будет способна еще нарожать ему деток. А он-то всегда мечтал, что станет отцом большого семейства. Теперь его единственное чадо, его единственная надежда – Михаил, Михальчик. Слава Богу, что растет крепышом и живчиком.
Сопровождаемая Григорием Меркурьевым и Власием, княжеская чета направилась в хоромы. Григорий обратился к князю с вопросом:
– Когда пожелаешь, батюшка, выслушать мой доклад?
– Не сейчас. Отдохну с дороги, разберусь в делах семейных. Сам тебя позову. Скажи только вот это. Ордынскую дань собрал?
– Собрал сполна.
– Пусть ту же самую сумму, какую мы выплатили ордынцам в прошлом году, Власий свезет незамедлительно в Ростов баскаку Файзулле.
– Слушаюсь, княже. Насчет охраны позаботишься? Ведь сумму повезу немалую.
– Возьми, Власик, десяток дружинников. Выпроводив бояр, Глеб спросил княгиню Феодору о здоровье.
– Знающие люди говорят – чахотка у меня. – С грустью ответила княгиня.
– Что советуют?
– Советуют то же самое, что советовал и ты. Чаще париться в бане и пить горячее парное молоко.
– Следуешь этим советам?
– А как же.
– Кровохарканье не прекратилось?
– Иногда проходит, потом снова возобновляется. Переживала я за тебя, моя радость.
– И зря. В Орде мне ничто не грозило.
– По наследству от мамы передалась мне эта проклятая чахотка. А тут еще северный климат, сырой, холодный.
– Постараюсь больше не покидать тебя.
– А если опять вызовет хан?
– Скажусь больным и не поеду в Сарай. Распорядись, матушка, насчет обеда, а я пойду к Михаилу.
Глеб уединился с сыном в свой рабочий кабинет, достал с полки книгу в кожаном переплете с летописным текстом.
– Прочитай-ка вот это.
Михаил прочитал довольно бегло. Потом Глеб Василькович предложил сыну прочесть страницу из молитвенника. – А я все молитвы наизусть помню, – возразил Михаил.
– Тогда скажи мне, сынок, чем примечательны в нашей истории княгиня Ольга и князь Владимир Святославич, ее внук.
– Княгиня Ольга была первой из русских князей, принявших Христову веру. А князь Владимир не только сам крестился, но и крестил всех русичей. У него было много сыновей. Сперва они не поладили между собой. Святополк, прозванный Окаянным, убил братьев Бориса и Глеба. Но его победил в конце концов один из братьев, Ярослав Мудрый.
– Почему Ярослава прозвали Мудрым?
– За мудрость. Он составлял законы, Правду Ярослава.
– Вижу, не зря прошли уроки твоего наставника. Теперь пора начать осваивать ратное дело.
– Хочу научиться рубить мечом и стрелять из лука.
– Рановато тебе рубить и стрелять. Всему свое время. Для начала научись ездить верхом на коне.
– И прыгать через заборы, рвы.
– Никаких прыжков. Пока научись просто держаться в седле, обращаться с лошадью. Пусть привыкает к тебе. Подберу на конюшне лошадку смирную, неноровистую. Вот с этого и начнем.
– А как же уроки с Далматом?
– Уроки пойдут своим чередом.
В своей конюшне Глеб подобрал светлой масти кобылку смирного нрава. Первые уроки верховой езды провел с сыном сам. Научил Михаила, как закрепить седло, чтобы не сползало, как подтянуть стремена по росту, как правильно управлять лошадью, как перейти из движения шагом в галоп и рысь. Первые уроки княжич усвоил быстро и лишь однажды свалился с лошади.
– Не расстраивайся, сынок, – утешил его Глеб. – Когда меня учили верховой езде, я падал не один раз. Конь попался норовистый.
Через некоторое время Глеб передал Михаила в руки пожилого дружинника, ставшего наставником княжича.
Посетил князь уроки, которые проводил с Михаилом инок Далмат. Эти уроки теперь усложнились. По арифметике учитель давал хитроумные задачки. На уроках словесности заставлял Михаил переписывать без помарок летописные тексты, глубоко изучать Священное Писание и историю Руси.
– Какие выдающиеся русичи и за какие подвиги причислены к лику святых?
– Их много. Сразу всех и не вспомнишь.
– Назови хотя бы своих родичей.
– – Это мой дедушка, князь Василько Константинович, князь ростовский. Это еще батюшка моей бабушки Михаил Всеволодович, князь черниговский. Они не захотели изменить вере Христовой, склонить голову перед врагом и поплатились жизнью…
Боярин Григорий Меркурьев обстоятельно и подробно доложил Глебу Васильковичу о всех делах и событиях, произошедших в княжестве. Пришел он с писцовой книгой, в которую педантично записывал все расходы и приходы княжества.
– Княжескую десятину собрал и пополнил казну. Вот изволь, княже, назову тебе все цифры.
– Сполна собрал?
Я не скажу, что сполна: сколько людишек прячется по лесам и болотам – одному Богу ведомо. Иной раз найти человека на Белоозере – все равно что иголку в стоге сена отыскать.
– Вестимо.
– Купчишки дорожную подать за пользование каналом на Сухоне и за волок платили исправно. Тоже хорошее пополнение казне.
– Поступает железо с Верхней Андоги к белозерским кузнецам?
– Поступает исправно. Знатоки говорят, руда на Андоге хорошего качества. О том тебе скажет и наш Вукол.
– Пришли его ко мне. Хочу потолковать.
Гнязь Глеб принял у Меркурьева собранную десятину и дорожную пошлину, дотошно пересчитал каждый рубль. Закончив все подсчеты, сказал с удовлетворением:
– Хорошее пополнение казны. Спасибо тебе, Гриша.
Но при этом подумал, что Григорий Меркурьев, собирая подати с населения, с купцов, конечно, и себя не обидел. И при этом хитер, осторожен, за руку не ухватишь с поличным. А, собственно говоря, зачем хватать верного человека. Меру знает. Другой на его месте был бы во сто крат хуже.
– Дозволь, княже, слово молвить, – неожиданно обратился к князю Глебу Григорий.
– Что у тебя?
– Пожаловаться хотел тебе на свои хвори. Одряхлел я. Нет прежней остроты ума, когда нужно в серьезном деле разобраться. Ведь я был уже зрелым человеком, когда ты, дитя малое, еще на четвереньках ползал. Освободил бы ты меня от бремени управляющего, нашел бы кого помоложе, побойчее.
– Это ты серьезно глаголишь?
– Как можно говорить такое несерьезно, коли в самом деле одряхлел.
– Вот что я тебе скажу, Григорий… С просьбой твоей, конечно, посчитаюсь. Готовь себе замену.
– Какую замену?
– Сынка твоего, Власия. Объяви ему – назначаю помощником управляющего и кладу жалование в половину твоего. А твое жалование оставляю за тобой. Власия станешь натаскивать, обучишь, как вести все дела, обращаться с писцовой книгой.
– Будет мой Власий, товарищ твоих детских игр, верным твоим слугой, таким же, каким был я.
– Значит, договорились.
– Выходит, договорились.
– Давай обсудим еще одно дело. Казна хорошо пополнилась. Я думаю, можно было бы довести численность дружины до сотни человек. А где сотня, там нужны и сотники. Что скажешь на это?
– Десятник Ипатий подошел бы на место сотника. Грамотный, расторопный.
– Вот и я так думаю. Согласен с тобой – Ипат толковый мужик.
– И из семьи хорошей.
– Напомни мне, Гриша, про его семью.
– Отец волостной тиун на Средней Шексне. Крепкий хозяин и церковный староста. И дед Ипата был тиуном.
– Проявит себя хорошим сотником, попрошу брата Бориса возвести его в сан боярина. Не тебе ж одному в боярском звании ходить.
Григорий, услышав такое, обиженно поджал губы: лестно было ходить единственным боярином на весь город Белоозеро. Впрочем, на юге княжества, на Нижней Шексне располагалось несколько боярских вотчин. Их владельцами были боковые отпрыски ярославских боярских родов, отделившиеся от основной ветви рода еще тогда, когда Ярославль не выделился в самостоятельный удел.
– Как полагаешь, Гриша, будем продолжать выкуп полонян в Орде? – спросил князь Глеб Григория. – Я намеревался прошлой весной послать Власия. Да меня вызвал хан и спутал все планы.
– Новые людишки никогда не лишние. Земля Белозерская широка и обширна. Есть где расселить многих поселенцев. А это новые плательщики княжеской десятины, пополнение казны.
– Значит, советуешь продолжать выкуп?
– Почему же не продолжать. Опять пошлешь Власия?
– Нет, пусть помогает тебе. А выкуп полонян я поручу на этот раз кому-нибудь из купцов, имеющих торговые дела с Ордой.
Разговор завершился. Напоследок Григорий спросил князя Глеба:
– Кузнеца Вукола прикажешь сейчас позвать?
– Пожалуй, не надо. Сам схожу к нему. Посмотрю его кузницу.
Дом кузнеца Вукола, старейшины белозерских кузнецов, находился не на окраине города, а недалеко от центра. Дом этот скорее напоминал купеческое жилище: просторен, жилой этаж возвышался на подклети. Рядом с домом находилась кузница.
Из кузницы доносились удары молота и лязг железа. Князь Глеб постоял в дверях кузницы, наблюдая. Сын Вукола удерживал щипцами на наковальне раскаленный кусок железа, а сам Вукол ударял по нему тяжелым молотом, чтобы придать куску нужную форму. Другой сын раздувал горн с помощью мехов, чтобы поддерживать на огне подходящий жар.
Заметив князя Глеба, стоявшего в дверях кузницы, Вукол, не выпуская из рук молота, произнес:
– Добро пожаловать, княже. Давненько не виделись.
– Был в Орде по приглашению хана.
– А мы трудимся в поте лица.
– Железо с Андоги?
– С Андоги.
– Годится?
– Не хуже всякого другого.
– Что сейчас куете?
– Топоры, сошники к сохам, всякую мелочь вроде гвоздей и дверных засовов.
– И хорошо раскупаются твои изделия?
– Мало-помалу.
– Получили наши кузнецы выгоду с Андоги?
– Конечно. Большую выгоду имеем: и от города не столь далеко, и добыча облегчена. Все кузнецы низко кланяются тебе, княже.
– Рад за вас.
Вукол был не слишком словоохотлив. Он говорил обычно коротко, не отрываясь от наковальни.
– Трудись, Вуколушка, – сказал ему Глеб. – Зимой съезжу на Андогу. Посмотрю, как там идут дела.
В один из ближайших дней Глеб посетил Усть-Шехонский монастырь, где встретился с игуменом Иринархом.
– Как твоя монастырская школа, отче? – спросил Глеб.
– Необходимые знания и практические навыки мои воспитанники получили. Зимой обещал наведаться к нам владыка Игнатий. Пусть и он убедится в знаниях наших школяров и рукоположит их для начала во диаконы. Пусть наберутся опыта, а через два-три года возведем их в сан священника и дадим приход. Многие пастыри по своей дряхлости нуждаются в замене.
– Собираешься набирать новых учеников?
– Есть кое-кто на примете. В основном дети священников или церковные певчие.
Глеб Василькович познакомился с учениками монастырской школы, позадавал им вопросы по Священному Писанию и истории церкви. Отвечали ему бойко, уверенно. Особенно понравились ответы повзрослевшего за последние годы Ви-кентия, сына священника Зосимы, из села, раскинувшегося вдоль среднего течения Шексны.
– Как поживает батюшка твой, отец Зосима? – поинтересовался Глеб.
– Жив, здоров, слава Богу.
– Припоминаю, зело чадообилен он?
– Всех нас у батюшки десятеро. Я самый старший.
– Сколько ж годков тебе?
– Двадцать первый пошел.
– Жениться пора, Викеша.
– Вестимо. Присмотрел тут славную девицу, приказчикову дочку. В дни своей молодости батюшка служил вместе с этим приказчиком у одного купца. Батюшка тогда на клиросе пел, иногда псаломщика подменял. Приметил его покойный владыка Кирилл и посоветовал священнический сан принять.
– Что думаешь делать, Викентий?
– Хочу получить сан дьякона и определиться батюшке в помощники. У него полон дом детей малых: помощь нужна. Коли уйдет по здоровью на покой, я бы заменил его на приходе.
– Слышишь, игумен? – обратился Глеб к Иринею. – Учти желание Викеши. Справедливое желание.
– Отчего же не учесть? – согласился Иринарх.
В разгар зимы прибыл санным путем владыка Игнатий с небольшой свитой. Остановился в Усть-Шехонском монастыре у Иринея. Отслужил торжественную службу в соборном храме Белоозера. Потом принялся дотошно экзаменовать учеников, вернее, выпускников монастырской школы. Экзаменовал долго, с пристрастием. В заключение заставил каждого по очереди исполнять обязанности псаломщика во время службы в монастырском храме. Службой остался недоволен и стал строго выговаривать:
– Следить надо не только за тем, что читаешь, но и как читаешь. А в вашем чтении души мало, проникновенности.
Все же выпускники монастырской школы были рукоположены во диаконы и выслушали напутственное слово владыки:
– Каждый из вас будущий пастырь, который несет слово Божие прихожанам. Первый друг и советник прихожан, будь то русичи или весяне. Перед Богом все равны. Для прихожанина его пастырь пример доброго семьянина, чадолюбивого отца. И прихожане ваши чада возлюбленные. Скоро вы столкнетесь с немалыми трудностями. В вашем крае глубокие корни пустило язычество. Я наблюдал его следы в Ростовской земле и на Ярославщине. Но на Белоозере, особенно среди веси, языческие пережитки особливо заметны. Объясняйте чадам своим их заблуждения. Пусть прихожане тянутся к храму, а не к капищу.
Владыка еще долго продолжал в том же духе.
Перед рукоположением все учащиеся монастырской школы, за исключением одного, были обвенчаны с невестами. Викентий обвенчался с дочерью купеческого приказчика, статной и видной из себя девицей. Остальные его товарищи высватали поповен из ближайших приходов. Лишь один из учеников пожелал принять постриг и остался в монастыре. Он стал иеродиаконом монастырского храма.
Владыка Игнатий дотошно проверил и новых кандидатов в монастырскую школу. Всего желающих учиться на священнослужителя набралось десять человек. Восемь из них оказались сыновьями приходских священников, двое из семей мастеровых людей.
– По своей ли охоте идешь – каждому задавался вопрос. Обычно слышался ответ:
– Истинный крест, по своей воле. И еще тятенька посоветовал.
– Был ли причастен к церковной службе?
– Пел на клиросе.
– Присматривался к службе моего батюшки.
– Был за пономаря при храме.
Выслушав все ответы, Игнатий произнес назидательно:
– Коли осилите, други мои, учебу, проявите труд великий, упорство, благословляю вас.
Глеб Василькович пригласил владыку к больной жене, исповедать ее и воодушевить добрым словом. Феодора с приближением зимы опять почувствовала себя плохо, возобновилось кровохарканье. Сопровождавшему его Иринею епископ сказал: