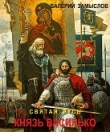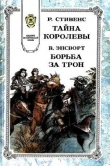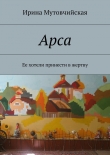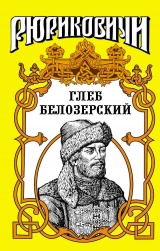
Текст книги "Глеб Белозерский"
Автор книги: Лев Демин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Оставшуюся лосятину уложили в кожаные мешки, приторочив их к седлам, чтобы угостить тех, кто в охоте не участвовал.
После возвращения с охоты Александр Ярославич выразил желание побеседовать с княгиней Ксенией и ее дядюшкой, державшимся молча и обособленно. Пригласил и обоих братьев Васильковичей.
– Жаль, дочку свою не привезла, – обратился Александр Ярославич к Ксении.
– Нездоровится ей.
– Рано в таком возрасте поддаваться хвори, – Невский явно не верил в искренность княгини-матери.
– Разве хворь-то спрашивает нас, приставать ей к человеку или нет, – поддержал племянницу ярославский боярин.
– Собираешься Марью замуж отдавать?
– Как не собираюсь… Каждой матери хочется для чада родного счастья. И внученков няньчить хотелось бы.
– Так в чем же дело?
– Счастья дочери хочется: отдавать в чужие руки боязно.
Александр Ярославич пересказал княгине Ксении и ее дядюшке все, что слышал от Глеба Васильковича и с чем сам был согласен. Княжна Марья Васильевна становится женой князя-изгоя и приносит ему в приданое ярославский удел. Стало быть, оба супруга будут княжеской четой. Новый князь войдет в семью ростовских Константиновичей, станет их названым братом. И у него не будет оснований осложнять отношений с местными боярами и князьями – соседями. И такая женитьба, возможно, исключит ханское вмешательство.
– Исключит ли? – с сомнением спросил ярославец.
– Пока я еще имею некоторое влияние в Орде, – убежденно ответил Невский. – Постараюсь выхлопотать ярлык на княжение для мужа Марьи Васильевны. Поверьте, это для всех будет лучше.
Последние слова были обращены к старому боярину.
– Наверное, лучше, – согласился он и сказал с усилием: – Мы долго думали, толковали меж собой… Наверное, ты, Александр Ярославич, и князь Глеб правы. Мы готовы принять сватов.
– А ты, Ксения? – спросил испытующе Невский.
– Готова, – согласно кивнула княгиня.
– Приедем с братом как сваты, – произнес Глеб.
– Сперва обговорим условия женитьбы. А потом привезете нам жениха. Посмотрим, что за птица, – сказал старый боярин.
– Из себя видный, статный, – убежденно сказал Борис. – Уверен, что невесте понравится.
– Коли договорились, решайте, когда приглашаете сватов, – сказал Александр Ярославич. – Я буду на свадьбе. Если не смогу приехать в Ярославль, буду в отъезде, то пришлю одного из братьев.
Старый боярин кивнул головой в знак согласия.
– Вопрос решен, – подвел итог Александр Ярославич. – Ждите сватов, ярославцы.
– Когда покажете нам жениха? – спросила княгиня.
– Договоримся во время сватовства, – ответил Борис. Он знал, что Федор Ростиславович жил в последнее время у одного из своих братьев, так и не договорившись с ними о выделении ему удела в Смоленской земле.
…Перед отъездом в свой стольный град Владимир Александр Ярославич собрал всех князей, находившихся в ту пору в Ростове, и обратился к ним с вопросом:
– Поведайте мне, други, что больше всего тревожит и осложняет вашу жизнь?
– Баскаки, – почти в один голос ответили князья. Угличский князь Андрей Владимирович даже не воздержался от непотребных слов в адрес ханских людей. Перебивая друг друга, князья приводили случаи бесчинств и злоупотреблений. Ханские люди не ограничивались сбором предписанной ордынскими властями десятины, а всячески приумножали поборы в свою пользу. Нередко десятина удваивалась или утраивалась.
– Опасное положение складывается, – произнес Борис Василькович. – Народ негодует, возмущается поборами. Он смотрит на баскака как лютого врага, грабителя. Не дай Бог, начнется избиение ханских людей. Не удержать тогда людского гнева.
– Не удержать, – согласились братья Владимировичи.
– И у нас на Муромской земле кипят страсти, – сказал, вздыхая, Ярослав Святославич. – Приходит баскак в село за данью, жители покидают жилища, угоняют скот, прячутся по лесам.
– Все это может обернуться для нас тяжелым исходом. Бывало уже такое, – мрачно сказал Борис.
– Где видите выход, князья? – спросил Александр Ярославич.
– Вижу на сей вопрос лишь один ответ, – ответил Глеб Василькович. – Пусть хан удалит всех баскаков и отдаст право собирать десятину в руки самих князей.
– Согласен, – поддержал Глеба Борис.
– Легко сказать – удалить баскаков, – высказал сомнение Андрей Угличский. – Для ханских людей – это золотая жила. Возможность безнаказанно грабить русичей и обогащаться.
– Васильковичи правы, – убежденно произнес Александр Ярославич. – Вся Золотая Орда держится за счет грабежа покоренных народов. На сегодняшний день мы должны пытаться сдерживать этот грабеж. А где выход? Князь Глеб Василькович нам правильно подсказал. Повтори, Глебушка.
– Переложить сбор дани на плечи князей без участия ханских людей, – сказал Глеб. – Это принесло бы некоторое облегчение русичам, избавило бы от произвола баскаков, смягчило бы недовольство.
– Считайте, други мои, что белозерский князь высказал и мои мысли, – сказал Александр Ярославич.
– Но согласится ли Берке на отмену баскачества, – усомнился Андрей Угличский.
– Не знаю, – ответил великий князь. – Неисповедимы ханские намерения. Но убедить Берке я попробую. Под лежачий камень, как говорят, вода не течет. Но та же вода капля за каплей камень точит.
– Бог тебе в помощь, – проникновенно сказал Борис.
– Убедить хана все же попробую, – повторил Невский. – Пока что хан ко мне хорошо относится. Всегда выслушивает, не прерывая: не со всеми он таков. Приведу ему свои доводы. Прямо так и скажу – большинство баскаков раздражают население. Если вспыхнет взрыв народного возмущения, польется кровь, и это будет не нужно ни тебе, хану, ни нам, князьям. Дай нам в руки право сбора десятины, отзови баскаков, и возмущения подутихнут. Если же все оставить по-старому, не избежать кровопролития. Придется тебе, хан, посылать на Русь войска. А из похода не все воины возвращаются живыми. Надо ли это тебе? Опустошенная Русь принесет тебе меньше доходов, чем Русь мирная.
– Разумно рассуждаешь, – произнес уважительно муромский князь. Угличский Андрей опять засомневался:
– Поддастся ли увещеваниям Берке?
– Может и не поддаться. Он стареет и стал большим тугодумом. Быстрых решений не принимает. Но повлиять на него постараюсь. Не при Берке, так при его преемниках мы добьемся отмены баскачества.
Заговорили о другом. Александр Ярославич поделился известием из Киева. Посланцы главы русской православной церкви, киевского митрополита, посетили Золотую Орду и встречались с Берке. Хан вроде бы склоняется к тому, чтобы дать согласие на открытие в Сарай-Берке епархии и на строительство храма. Встречая посланцев митрополита, хан опять говорил о своей веротерпимости. Однако срока открытия епархии пока не установил: все ограничилось общими разговорами.
– Что еще вас волнует, князья, – обратился Александр Ярославич к собеседникам и, не дождавшись ответа, продолжал:
– Хан имеет обыкновение вызывать русских князей в Орду и принуждает их участвовать в своих походах против других народов. Обычно требует прибыть с военной дружиной.
– Знамо, – отозвался муромский князь. Ему пришлось участвовать в одном из ханских походов.
– Нужно ли такое участие русичам? – продолжал Александр Ярославич. – Нужно ли скрещивать мечи с народами, которые никогда не были твоими врагами? Ведь каждый такой поход будет стоить нам людских жертв.
– Коли ты можешь повлиять на Берке, убеди его избавить нас от участия в походах ордынцев, – сказал Глеб, перебивая Невского.
– Опередил ты меня, – укоризненно ответил Александр Ярославич. – Да, буду просить, убеждать хана, чтоб не принуждал русичей участвовать в походах и военных действиях против других народов.
…Отъезжающего Александра Ярославича во Владимир провожали собравшиеся в. Ростове князья, владыка Кирилл и все население города. В глазах народа великий князь Александр, победитель шведов и немцев, умевший ладить с ханом и не раз предотвращавший ордынские карательные походы, был воплощением героизма и мудрости. Владыка распорядился, чтобы великого князя провожали под колокольный звон. Он благословил Невского не традиционно, а обнял и расцеловал.
Вереница всадников, во главе которой скакал на белом жеребце сам великий князь, миновала городские ворота и вытянулась цепочкой по дороге. Лишь когда всадники скрылись из виду, ростовчане стали расходиться. По знаку Кирилла смолкли колокола собора и других городских церквей.
Вслед за Александром Ярославичем стали разъезжаться и участники его чествования. Первыми покинули Ростов двоюродные братья Васильковичей угличские князья Андрей и Роман Владимировичи. Ростов связывала с Угличем не ахти какая протяженная дорога по обжитой местности. Вслед за ними отбыла княгиня-мать Ксения с дядюшкой и небольшой свитой. Их водный путь до Ярославля был также коротким. Последним покинул Ростов муромский князь Ярослав Святославич, тесть Бориса Васильковича. Он пожелал провести несколько дней с дочерью Марьей, ростовской княгиней и малыми внучатами. Он очень сожалел, что единственным его чадом была дочь.
Борис с Глебом уединились в одной из комнат княжеских покоев, чтобы обсудить свои домашние дела.
– Что будем делать, сватушка? – спросил Борис младшего брата.
– Решай, сватушка, по праву старшего, – в тон ему ответил Глеб.
– Я так думаю… скоропалительно плыть в Ярославль вслед за Ксенией негоже. Надо выдержать приличествующее время.
– Ты прав, братец. Мы на ярославцев не давим. Предлагаем товар. А им, ярославцам, решать, гож сей товар или не гож. Но не будем слишком затягивать дело. Меня ведь ждут дела белозерские. Я и так загостился в Ростове.
Условились отложить визит в Ярославль на неделю. А тем временем сообщить Федору Ростиславичу о готовящемся сватовстве. Пусть приедет в Ростов, чтобы быть под рукой. И еще решили Васильковичи выработать программу сватовства.
– Тебе приходилось когда-нибудь выступать сватом? – спросил Глеб Бориса.
– Никогда не приходилось.
– Вот и мне тоже. Как же мы поступим?
– Очень просто. Подыщем сведущего в таких делах человека. И пусть он нас научит, как должен вести себя сват.
Нашелся один немолодой ростовский боярин, по имени Софрон, который не раз выступал в роли свата и, похоже, любил эту церемонию.
Софрон на протяжении нескольких вечеров рассказывал братьям, как должны вести себя сваты с родными невесты. Те же будут делать вид, что никак не догадываются, с какой целью появились сваты. Разговор должен вестись долгий, неторопливый. Можно вспоминать разные назидательные истории, если они имеют отношение к теме разговора. Когда все карты, как говорят, уже раскрыты, дело сватов нахваливать жениха на все лады.
– А не поехать ли тебе, Софронушка, с нами? – предложил боярину Борис. – Будешь нас поправлять, коли что не так.
– Коли я так вам полезен, князья… – нерешительно согласился боярин.
Перед отъездом в Ярославль братья испросили благословения владыки Кирилла. Сперва епископ хотел было сопровождать их, но потом от своего намерения вынужден был отказаться: ему нездоровилось. Торжественные службы в соборе в честь Невского утомили уже старого Кирилла. Ограничился напутственными словами к братьям.
Глеб вместе с Феодорой побывал у матери в монастыре. Игумения встретила их словами:
– Как здоровье, Феодорушка? Когда порадуешь наследником?
Глеб перевел слова матери жене. И без перевода она поняла, о чем спрашивала ее свекровь, но затруднилась ответить. Поэтому ответил за жену муж.
– Будет, будет наследник. Пусть сперва получше поправит здоровье.
– Буду молиться за вас, чтобы во второй раз Феодорушка разродилась удачно и сынка родила здоровенького.
– Молись, матушка.
– О чем я вас, мои родные, попрошу… Родится сынок, назовите его Михаилом. В память прадеда, князя Михаила Черниговского, великомученика убиенного.
– Назовем, как просишь, – ответил Глеб.
В Ярославль братья отправились с пышной свитой. В свите были старый боярин, дававший Борису и Глебу наставления по части сватовства, ростовский воевода Антип Евлампиев, еще несколько именитых ростовчан и дюжина воинов.
По дороге братья договорились, что после сватовства Глеб с женой возвратятся в свою вотчину, а Борис посетит Ярославль вторично, уже вместе с женихом, чтобы представить его невесте и невестиной родне. Борис Василькович высказал сожаление, что брат не будет сопровождать его во второй поездке.
– Дела, дела ждут, братец, – ответил Глеб. – Один представишь Феодора. Покажи, что ты старший и среди братьев, и среди сватов.
Глава 12. ДЕЛА ЯРОСЛАВСКИЕ
Осень выдалась холодная, дождливая, ветреная. Некоторые деревья еще золотились осенней листвой, но большинство уже чернели голыми стволами. Глеб и Феодора укрылись в кабине дощаника, плохо согреваемой раскаленными углями в ящике с землей. Глеб Василькович бережно кутал жену в теплую баранью шубу, предусмотрительно взятую в дорогу.
Бросили якоря при впадении реки Которость в Волгу у Ярославля. Из-за дождливой погоды на берегу было пусто. Никто гостей не встречал, а шествовать в княжеские палаты без сопровождения братья посчитали неудобным. Поэтому Борис приказал десятнику из своей стражи отправиться в палаты и известить княгиню Ксению о прибытии гостей из Ростова.
Уже скоро к берегу Волги примчались несколько крытых повозок. Сватов встречали сама княгиня Ксения, один из ярославских бояр, ее родственник, и с ним несколько дружинников. Князь Борис встретил княгиню-мать приветливыми словами:
– Почел своим долгом, княгинюшка, нанести тебе ответный визит. Соседи все же и родня. Муженек твой покойный Василий и брат его Константин, последний ярославский князь, приходились нам с Глебом двоюродными братьями. Одна семья, одни корни.
– Верно говоришь, Борисушка, – отвечала Ксения. – Гостям завсегда рады, особливо родне. Вот с погодой не повезло. Холодно, слякотно.
– Что-то не вижу твоего дядюшки.
– По причине нездоровья остался дома. Вот зато другой дядюшка.
– Сколько же их всего у тебя?
– Много: всего семеро. Забирайтесь, гости, в повозки, чтобы не промокнуть. Кто еще с вами?
– Мы с братом Глебом, его жена, именитые люди Ростова, Антип Евлампиев, воевода и Софрон, боярин.
После короткой трапезы, к которой была приглашена и молодая княжна Марья, Борис Василькович предложил:
– Давайте теперь, соседушки, потолкуем не спеша о наших делах. Соседям и родичам всегда есть о чем потолковать.
– Дело хорошее предлагаешь, князь Борис, – отозвалась Ксения, отослав Марью. – Разговор наш будет деловой, доченька, тебе совсем неинтересный. Займи княгиню Феодору. Покажи ей свои вышивки.
Когда Марья и Феодора вышли из трапезной, Ксения пригласила гостей и нескольких своих родичей, дядьев и братьев, в парадный зал. Там все расселись по старшинству за длинным столом.
– Решили вот нанести ответный визит ярославской родне, – начал Борис и запнулся. Продолжил за него Глеб, более речистый и находчивый.
– Ходят слухи, у вас имеется товар хороший. У нас нашелся бы покупатель, человек положительный, стоящий.
– О каком товаре говоришь, князь, – тоном непонятливого простака произнес один из родичей Ксении. – Разве мы купцы, чтобы толковать о купле-продаже?
– Вестимо, не купцы, а достопочтенные бояре, – ответил Глеб. – У вас в клетке завелась птаха-горлинка. Выпустите ее на волю, чтобы добрый молодец смог ее поймать в свои сети.
Софрон поощрительно улыбнулся, довольный тем, как князь Глеб усвоил его наставления. Ксеньин родич продолжил словесную игру:
– О какой горлинке толкуешь, князь? Разве у нас здесь птичник. О каком добром молодце идет речь?
– А ты сообрази, о какой горлинке толкую. Оглянись вокруг и увидишь ее. А добра молодца мы вам покажем…
Еще долго сваты говорили с невестиной родней иносказаниями и намеками, пока князь Борис не прервал эту игру словами:
– Давайте ближе к делу, други. А то мы здесь до второго пришествия сидеть будем.
– Какое же дело у вас, князья? – спросила Ксения.
– Сватовство. Вот какое дело, – ответил Борис, начиная раздражаться.
– Добро пожаловать, сватушки, – нарочито громко и нараспев протянула Ксения. – Конечно, ждали мы сватов. Невесту вам показали, что скажете про нее?
– Мила твоя доченька, ликом красива, – ответил Борис. – Вот только худощава, но телеса дело наживное.
– Невеста зело пригожа, – поддакнул брату Глеб.
– А что вы скажете нам о женихе? – спросил один из дядьев.
– Жених Федор Ростиславич из рода смоленских князей, потомок Ростислава Владимировича, сына Владимира Мономаха, – начал рассказывать Глеб. – Нам он приходится весьма дальним родственником, как говорится, седьмая вода на киселе. Так что церковь не станет препятствовать женитьбе Федора на ярославской княжне. Вы знаете, что Рюриковичи разветвились на множество ветвей, которые теперь отошли друг от друга до дальней степени родства. Поэтому мы имеем много примеров, когда Рюрикович женится на княжне из другой ветви Рюриковичей.
– А каков из себя этот Федор? – спросил кто-то.
– Высок, статен, в плечах широк. Ликом красив, черняв, должно, в мать.
– Кто она? Тоже из рода Рюриковичей?
– Нет, какая-то смоленская боярышня.
– И Федор рассчитывает получить в приданое за невестой ярославский стол?
– Естественно, – категорично ответил Борис.
– А не устроило бы его такое… Княгиней остается Марья Васильевна, а Федор становится при ней супругом.
– Такое не традиционно, – возразил Глеб.
– Не скажите. Сын Андрея Боголюбского Юрий женился на грузинской царице Тамаре, но не получил престола Грузии. Он оставался только мужем царицы, а правила страной она.
– Нам этот пример не гож, – возразил Глеб. – Грузинская царица в конце концов не ужилась с Юрием Андреевичем и прогнала его. Мы даже не знаем, где и как кончил жизнь этот неудачник.
– Дело не только в этом: хан Берке никогда не даст ярлыка на княжение женщине, – добавил Борис.
– Борис Василькович прав, – согласилась с ним Ксения. – Пример царицы Тамары нам не годится.
Больше возражений со стороны княжеской родни не последовало. Княгиня-мать высказалась в заключение:
– Чтобы молвить вам, сватушки, наше окончательное слово, мы должны увидеть жениха. Понравится ли он нам, а главное, понравится ли невесте. Если да, свадьбу сыграем после Великого поста и Пасхи.
На следующий день повторился разговор за большим столом. Уточнялись детали. Пригласили и невесту.
– Это сваты, Марьюшка, – сказала дочери княгиня. – Хочешь ли ты замуж?
Марья зарделась от смущения и ничего не ответила.
– Хотела бы жениха посмотреть, чтобы знать, кто к тебе сватается? – снова обратилась к дочери княгиня-мать.
– А он красивый? – наивно спросила Марья.
– Сваты говорят, красивый, видный. Тебя малость постарше. Давай на слово не поверим, а убедимся своими глазами.
– Коли прикажешь, матушка, готова взглянуть на жениха.
– Вот и хорошо. Привозите, сваты, к нам Федора.
На том и завершился визит. Борис возвратился в Ростов, чтобы встретить там Федора Ростиславича, рассказать ему о сватовстве. А Глеб Василькович, распрощавшись с братом, отправился вместе с женой в свой удел.
Плыть с Белоозера против течения по Волге и Шексне было трудно, тем более что встречный ветер был резким, порывистым. На поверхности воды вздымались гребни волн. Гребцы, налегая на весла, быстро уставали и вынуждены были часто менять друг друга. С продвижением на север пожелтевших деревьев, еще не сбросивших листву, становилось меньше. Только ели по-прежнему зеленели яркой хвоей.
У встреченного прибрежного села Глеб дал команду подойти к берегу и бросить якорь.
– Отдыхаем, – сказал он спутникам, те поспешили разжечь костры, чтобы согреться у огня.
Глеб припомнил это село, в нем ему довелось бывать, объезжая пределы княжества. Это был волостной центр с церковью и двумя десятками изб. Среди них выделялись два дома, украшенные резными наличниками и крыльцами-гульбищами. Один принадлежал местному тиуну, другой священнику.
Глеб Василькович выбрал дом священника, окруженный хозяйственными постройками, и отправился туда, сопровождаемый княгиней Феодорой и Григорием Меркурьевым. Священник, плотный невысокий человек средних лет с клинообразной бородкой, встретил князя и его спутников, шумно высказывая свой восторг.
– Батюшка, Глеб Василькович… Радость-то какую великую нам принес. Порадовал и утешение принес в бедах наших.
– Какой я тебе батюшка, – остановил его Глеб. – Ты сам батюшка.
– Вестимо… Для прихожан я батюшка.
– Дозволь погреться у тебя. Погода…
– Осчастливь нас, княже.
В доме священника было тепло, в печи потрескивали березовые плахи. В отличие от курных крестьянских изб, его жилище отапливалось печью с дымоходом. Когда Глеб и его спутники вошли, дом был наполнен невообразимым гвалтом. Его создавала куча ребятишек разных возрастов.
– Цыц, злыдни. Сгиньте, – прикрикнул священник. Детвора попряталась за занавеску и притихла.
– Прошу, гости дорогие, к столу, – сказал, суетясь, священник. Не взыщите, коли что не так. Богатыми закусками угостить не смогу. С такой оравой живем скромно. Да и приход наш не из богатых. А молочка горячего предложу. Попейте с дороги. И медку. У меня своя пасека.
– От горячего молока с медком не откажемся, – ответил Глеб. – Давно ли служишь на приходе, отец… как тебя.
– Зосима. Зосимой нарекли. А приход я получил не слишком давно. Я ведь приказчиком у купца служил. Много странствовал с товарами по поручению хозяина: и в Новгород, и в Вологду, и в Устюг ходил. А в зимнее время, когда дальние мои хождения прекращались, пел на клиросе. Бывало, старого причетника подменял, когда тот хворал. В грамоте-то я был горазд. Какой же приказчик неграмотный?
– Как же ты из приказчиков Божьим пастырем стал? – поинтересовался Глеб.
– А вот так… Это было в ту пору, когда владыка Кирилл и княгиня Марья Михайловна с детками во время нашествия Батыги укрывались на Белоозере. Услышал как-то владыка, как я читал акафист и тропарь, и пригласил меня для беседы. Испытал мои знания в Священном Писании, проверил грамотность и говорит: «Послужить бы тебе пастырем в храме Божьем. Хочешь?» – «А почему бы не хотеть, отвечаю. Я человек грамотный, богомольный, с церковной службой знаком». Рукоположил меня сперва в диакона, потом во священника.
– С тех пор и служишь в здешнем приходе?
– С тех пор и служу. Здешний-то батюшка к тому времени помер, упокой душу раба Божьего Якова.
Молодой парень с едва пробивающимися усами над верхней губой, поразительно похожий на Зосиму, поставил на стол большие глиняные кружки с горячим молоком и тарелку с медом.
– Сынок?– спросил Глеб священника, указывая на парня.
– Старшенький. Помогает мне за пономаря. Грамоте его обучил.
– А почему с хозяйкой не познакомил?
– На сносях она. На последнем месяце ходит. Стесняется выйти.
– Сколько же всех деток у тебя?
– Бог не обидел. Живых девять.
– Молодец, отче. А старшего пошли на Белоозеро. Пусть определится в учение к игумену Иринею. Он школу создает. Подбирают грамотеев, чтобы выучить их на пастырей. Как звать-то тебя, парень?
– Викентий.
– Хотел бы ты учиться у отца игумена, изучать каноны церкви, Священное Писание, жития великих святых, правила богослужения?
– Как батюшка прикажет, – ответил Викентий.
– Князь тебе великую честь оказывает, – сказал священник сыну. – Слышь, Викешка?
– Можем взять тебя с собой, коли быстро соберешься, – сказал Глеб.
– А как же храм останется без пономаря. Я же еще и звонарь.
– Не твоя забота, сынок. Корней заменит, – ответил священник и пояснил: – Это мой второй. Всего-то помоложе Викешки на полтора годика.
Глеб Василькович спросил про здешнего тиуна, но того на месте не оказалось. Уехал в дальний край волости.
Село носило весянское название «Карговесь». Весянские названия сел или деревень с окончанием «весь» (Луковесь, Череповесь и др.) в белозерском крае встречались часто. Они указывали на весянское происхождение. От священника князь Глеб узнал, что в его приходе примерно половину населения составляли русичи, а другую половину – народ веси и полукровки. Берега реки Шексны в среднем ее течении считалось местом бойком, заселенным. Почти все весяне прилично говорили по-русски, а многие русичи, особенно те, кто был женат на весянках, понимали язык веси. Здесь выработался свой своеобразный диалект языка русичей с большой примесью слов из языка весян. Здешний тиун был когда-то десятником в белозерской военной дружине, еще до того времени, когда Глеб Василькович появился здесь в качестве удельного князя. Преследуя по реке Суде шайку новгородских ушкуйников, грабивших местные поселения, десятник был серьезно ранен. По ранению он был вынужден оставить службу в военной дружине. Прежний наместник Белоозера, ставший теперь иноком, определил его за заслуги волостным тойоном. Волость состояла из четырех приходов.
– Много ли, отец Зосима, в твоем приходе грамотеев? – поинтересовался Глеб.
– Не скажу, что много. Трое певчих при храме. У тиуна писец зело грамотен. Еще человека два-три на селе, и отдельные грамотеи встречаются по деревням.
– Учи грамоте прихожан, отец Зосима, особливо молодежь. Я тебе кое-что привез полезного. Сбегай, Гриша, на дощаник. В моей кабине найдешь большой кожаный мешок. Притащи его сюда, – приказал Глеб Меркурьеву.
Григорий Меркурьев быстро вернулся с увесистым мешком. Глеб Василькович извлек из мешка стопку рукописных книг, исписанных четким почерком ростовских писцов. При отъезде из Ростова владыка Кирилл снабдил белозерского князя новыми книгами.
– Вот, отец Зосима, это для твоего храма, – сказал Глеб Василькович священнику. – Книги – свет знаний и мудрости. Здесь Библия, молитвенники, творения отцов церкви, былины о русских богатырях, летописи. В них история нашего народа. Читай сам, давай читать прихожанам. Пусть люди просвещаются. И учи грамоте тех, кто способен осилить сей луч разума. Человек, не разумеющий чтиво, подобен слепцу, блуждающему в потемках.
– Спасибо тебе, князь, – сказал растроганно отец Зосима. – Мое собрание книг при храме пока скудно. С радостью пополню его твоими дарами.
– Не меня благодари, а владыку Кирилла. Ученый человек, великий книжник.
Расставаясь с отцом Зосимой, Глеб протянул ему пригоршню серебряных монет.
– Это на храм тебе, отче.
Князь Глеб и его спутники продолжили свой путь вверх по Шексне. На исходе плавания на низменном берегу реки показались шпили башенок княжеских палат и луковичные купола соборной церкви, а потом и длинная вереница строений, растянувшаяся по берегу, купеческие хоромы, амбары, лавки, церквушки, мастерские ремесленников, жилища. К берегу прижимались дощаники, лодки, баркасы, плоты, расположившись на зимовку. Не сразу удалось найти свободное место у берега, куда можно было приткнуться.
Тем временем на берегу собирались белозерцы. Впереди рослый, в черной рясе, игумен Ириней, рядом с ним Власий Григорьев, знакомые купцы.
– Вот мы и дома, – радостно произнес Глеб Василькович, спускаясь на берег по шаткому трапу и подавая руку Феодоре. Принял благословение игумена Иринея, приветливо помахал рукой толпе…
Зима наступила ранняя и снежная с обильными снегопадами. Реки и озера сковал крепкий лед. Если выбирался досуг, князь Глеб отправлялся охотиться на куропаток. Стайки белых куропаток слетались на проезжую дорогу и копались в конском навозе, выискивая непереваренное зерно. Куропатка птица не пугливая, подпускает к себе человека близко. Остается только прицелиться и выпустить стрелу. Домой Глеб обычно приходил с богатой добычей.
Однажды морозным зимним утром Глеб Василькович был удивлен прибытием неожиданных гостей. Перед княжескими палатами остановилась пара коней, впряженных в сани-розвальни, сопровождаемые несколькими всадниками.
Стражник у парадного крыльца остановил было прибывших. Но из розвальней поднялся князь Борис Василькович.
– Доложи князю, брат, мол, погостить приехал. Встреча братьев была теплой: обнялись, облобызались.
Борис заговорил приветливо:
– Ты не раз навещал нас в Ростове. А я вот никак не мог собраться нанести тебе ответный визит. Есть для тебя новости.
– Заходи в палаты, братец. С какими новостями?
– Дойдем и до новостей. Сперва разоблачусь. И распорядись, чтобы моих спутников обогрели и накормили.
– За этим дело не станет.
Глеб вызвал Власия и распорядился, чтобы тот занялся спутниками брата.
Борис скинул тяжелую шубу и верхний кафтан, доходивший почти до колен, прислонился спиной к изразцовой печи, чтобы отогреться, и заговорил:
– Визит мой к тебе, братец, связан с двумя целями. Во-первых, хочу поставить тебя в известность о делах ярославских. Представил я жениха, Федора Ростиславича, ярославцам. Держался он тихо, смирно, больше помалкивал, слова лишнего не молвил. Думаю, что это была его внешняя личина. А Федор отнюдь не прост, ох как не прост. Себе на уме мужик, властолюбив и ходить на поводу у бояр не станет. Но рта до поры до времени не раскроет. Это я своим нутром почувствовал. А невесте жених понравился: это по всему было видно. Бояре его, видать, не раскусили и препятствовать свадьбе не намерены.
– Поздравляю, братец, с успехом нашего дела. О сроках договорились?
– Договорились. Свадьба будет сыграна весной, после Великого поста и Пасхальной недели, как обычно заведено. Приезжай к тому времени в Ярославль.
– Как себя чувствует владыка Кирилл? Готов обвенчать молодых?
– Плох наш владыка. Одряхлел. Жалуется на слабость в ногах. Все же попытается собраться с силами и приехать в Ярославль.
– Дай Бог ему сил и здоровья. Ты сказал о двух целях визита ко мне.
– А вторая цель проста. Захотел тебя повидать, братец, и вместе с тобой поохотиться. Псарню-то большую держишь?
– Да нет у меня никакой псарни. Держу лишь четырех псов, хватит и их. Летом стреляю уток, зимой куропаток.
– А на крупного зверя не ходишь?
– Редко.
– А я любитель медведя, лося, кабана. Ты сам был участником нашей охоты на лосей. Бывает, крупный зверь портит посадки. Земледельцы приходят ко мне с жалобой, просят помощи. Тогда я подымаю моих дружинников, чтобы проучить зверя.
– Могу пригласить тебя, братец, на куропаток. Развилось их…
– Ты бы еще на воробьев поохотиться предложил. Разве это княжеская охота?
– Чего ж хочешь, братец?
– Хотел бы обложить медвежью берлогу.
– Для тебя найдем берлогу. В селе Карголоме, что к западу, народ жалуется. Медведи потравили посевы, задрали двух коров и даже подходили к избам.
– Поможем карголомцам избавиться от сей напасти, – весело воскликнул Борис Василькович. – Составишь компанию?
– Ради тебя, братец…
Глеб послал человека в село Карголом, расположенное невдалеке от города на южном берегу Белого озера, чтобы собрать необходимые сведения. Местные жители, занимавшиеся охотой, могли указать, где появились медведи и где, скорее всего, они могли залечь в зимнюю спячку.