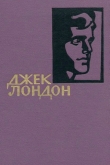Текст книги "В дальних плаваниях и полетах"
Автор книги: Лев Хват
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Однако, айдате! – неожиданно откликается бородач.
Паренек лет четырнадцати с кошачьей ловкостью прыгает на катер. Другой, постарше, упираясь ногами в податливую прибрежную гальку, сталкивает его с мели.
– Не мешкай, однако, – зовет меня суровый дядя в плаще и кивает подростку: – Запускай, Елеся!
Летающая лодка отошла уже за полмили и разворачивается. Еще бы пять минуток!..
Чернобородый оттолкнулся багром, катер описал полукруг и побежал, набирая скорость. Но тут я с ужасом увидел и еще явственнее услышал, как бешено закрутились винты гидроплана: «С-55» пошел на взлет. С отчаянием наблюдал я за летающей лодкой. Сейчас она оторвется! Испорчена корреспондентская работа двух месяцев!..
Но что за чудо – моторы заглохли! Из люка летающей лодки высунулась чья-то фигура; вероятно, это механик. Он пробирается к мотору, хлопочет возле него и внезапно, как театральный Мефистофель, проваливается в люк. Самолет снова разворачивает на старт.
Нет, теперь не упустим! Бородач ведет катер наперерез гидроплану. Правильный маневр! Летчик, понятно, не будет стартовать, когда на его пути маячит неожиданное препятствие. Елеся вскочил и усердно машет кепкой. Остается с четверть километра… Нас заметили! Винты замедлили бег. Летающая лодка мерно покачивается на волнах. Не убавляя скорости, человек в плаще направляет к ней катер.
– Куда, че-е-рти-и-и! Сво-ра-чи-вай! – орет в рупор механик.
Сменив курс, идем малым ходом параллельно стартовой линии.
– Стой!.. Гондолу разобьете! Стой! – слышен голос остроглазого штурмана. – Что у вас там?
– Материалы для Москвы.
Катер медленно приближается к летающей лодке, оттуда несется рев:
– Тише, отсек продырявите! Руками упирайтесь…
Четыре пары рук предотвращают столкновение.
Из люка появляется голова Изакова. Передаю пакет:
– Здесь снимки… Привет Москве!
Гора с плеч…
Голубой «С-55» стартует, унося на борту моего товарища. В Хабаровске он пересядет на «Р-5». Специальные самолеты, заказанные редакцией, ожидают его на всей трассе. Через несколько суток Борис Изаков войдет в кабинет редактора и положит на стол челюскинские пакеты. Минует еще одна ночь, и миллионы людей будут читать рассказы полярников о челюскинской эпопее, рассматривать рисунки Решетникова и редкие фотографии, заснятые в ледовом лагере Чукотского моря…
Более тридцати лет прошло с тех пор. Тогда перелет Изакова представлялся нам настоящей воздушной экспедицией. А сегодня любой советский гражданин, купив билет в кассе Аэрофлота, может попасть из Петропавловска в Москву часов за четырнадцать-пятнадцать.
– Доставили пакет, однако, – улыбнулся бородач, когда нос катера заскрипел на прибрежной гальке.
– Как только отблагодарить вас?
– Ничего не требуется, а на добром слове – спасибо.
Я не решался предложить этим людям деньги, но хотелось чем-то выразить признательность. Достал из кармана деревянный портсигар работы вятских кустарей:
– Кто курящий?
– Я, однако, не занимаюсь, а Елеське рано, – сказал человек в плаще. – Вон Фрол дым пущает.
Я протянул Фролу портсигар:
– Будете вспоминать, как за самолетом гонялись…
Снова мы в Тихом океане – последний переход.
В кают-компании неумолчно стучали костяшки домино; Ляпидевский под собственный аккомпанемент баском напевал «В гавани, в далекой гавани»; внезапно появлялся и, скептически пожав плечами, тотчас же исчезал Сигизмунд Леваневский; изредка заглядывал Каманин, холодным взором окидывал сборище, словно укоряя: «Не делом, товарищи, занимаетесь!»; перед сном, на руках у матери, кают-компанию навещала самая юная пассажирка – Карина Васильева; заходил Бабушкин, чукчанка Вера; ероша волосы, страдал над рукописью Михаил Водопьянов, а друзья, имея в виду ее необыкновенные размеры, участливо расспрашивали: «На каком километре держишь?..»
Обычно после ужина собирал общество «аляскинский гость» Маврикий Слепнев; он рассказывал забавные и трагические эпизоды своей богатой приключениями летной жизни. Случайно открылись его незаурядные литературные способности. Было это так. Пришла радиограмма из редакции: собрать рассказы о полетах всех семи Героев Советского Союза – тысячу строк – и передать телеграфом из Владивостока. Темы рассказов – по выбору летчиков. Я попросил Слепнева уделить время для беседы. «Не надо, – ответил летчик, – сам напишу». Оказывается, с такой просьбой к нему уже обращались корреспондент «Известий» Борис Громов и, конечно, вездесущий Миша Розенфельд.
– Вы, друзья, представляете три газеты, – сказал Маврикий Трофимович, – значит, за мной три оригинальные статьи. Заготовки уже сделаны.
Он уселся за портативную машинку и писал, почти не отрываясь. Из-под валика машинки одна за другой вылетали страницы. Временами он задумывался, решительно рвал лист или перечеркивал карандашом напечатанное и принимался за новый вариант. Слепнев работал шесть часов подряд.
– Готово. Три очерка, строк по двести. «Траурный флаг на борту», о поисках американских пилотов, – для «Известий». «Прыжок над Беринг-стримом» – моему другу Мише, в «Комсомолку». «К людям на льдине», тема, надеюсь, понятна без комментариев, – для «Правды».
Слепнева попросили прочитать вслух, и он, выбрав очерк «К людям на льдине», выразительно начал:
– «Пилот держал руку под козырек.
Все, кроме пилота, держали шляпы в руках.
Все сияли улыбками и были очень торжественны. На самолете развевался красный шерстяной флаг.
Старик капитан Томас Росс держал речь. Он говорил о дружбе двух великих народов, о трудностях, об Амундсене, о Нансене, о чести.
Муниципалитет города Нома – города, который принимал Амундсена, Поста, Нобиле, – подносил звездный полосатый флаг советскому пилоту.
Пилот держал руку под козырек. Пилотом был я.
Тысяча километров над замерзшим Юконом осталась позади.
Позади были Германия, Англия, Атлантический океан, Соединенные Штаты. Позади были Юкон и все эти Руби, Тинана, Нулато – чужие городки с чуждыми нравами и бытом.
Впереди был прыжок самолета на лыжах через самый скверный на всем земном шаре пролив, называемый Беринговым, а затем срочный прыжок на лед. Оттуда ободренные близостью самолетов люди просили не лететь в плохую погоду, не лететь в туман и пургу.
Но хорошей погоды в Беринговом проливе не бывает.
Я отдал распоряжение механику Левари запустить мотор. Механик сказал: «Иес, сэр!» – и полез в кабину.
На вышку морской станции взлетел советский флаг, стал вровень со звездами и полосами. Защелкали аппараты кино, и «Флейстер» медленно тронулся с места.
На тяжелом, загруженном до лампочек на потолке самолете было два человека. Один от другого они были отгорожены дверью с открывающейся заслонкой. Кроме того, они были отгорожены социальным правопорядком, понятиями, взглядами.
Но заслонка открывалась. Заслонкой была авиация.
Механику Биллю Левари шел двадцать первый год. Пилот двадцать лет летал на самолетах, а всего ему было около сорока.
Пилот улыбался, глядя на механика, и вспоминал, что когда-то в Гатчине хорунжий Корнеев так же улыбался, глядя на молодого, неопытного пилота…»
– Браво, Маврикий! – не удержался Бабушкин, вспомнив, вероятно, свою молодость, Гатчину и Петроградский аэродром, где он почти одновременно со Слепневым начал авиационную жизнь.
Маврикий Трофимович кивнул старому приятелю и продолжал:
– «Оба компаса показали точно: норд. Механик Левари поднял большой палец вверх. Это означало, что мотор работает хорошо. Слева виднелась скала Следж.
Второй раз я вел машину через Берингов пролив. Это было 31 марта 1934 года.
4 марта 1930 года я первый раз перелетел Берингов пролив, сопровождая два трупа. Пилот американской службы Бен Эйелсон и механик Борланд, один с продавленным сердцем, другой с расколотой головой, превратившиеся в лед на сорокаградусном морозе, совершали обратный путь из «Сиберии»…
Скала Следж осталась слева и позади. Впереди показался остров Кинг. Сибирский берег был в тумане, островов Диомида не видно. Шел к концу первый час полета. Я был уже где-то над Полярным морем. Сверху придавливали облака. На стекле появились первые намерзающие капли. Стекла покрывались наледью, и машина стала тяжелеть.
Шел второй час полета. Берингов пролив остался позади. Впереди была беспросветная белесая мгла, обледенение и смерть».
Слепнев умолк, закуривая, а затем продолжал:
– «И тогда я развернул машину на сто восемьдесят градусов. Механик что-то записал в книжечку… Я отступал, удаляясь от людей на льдине, и в третий раз перелетел Берингов пролив.
Через тридцать минут показался американский мыс Йорк. Над мысом тумана не было. Я почти убрал газ. Сразу стало тихо. Самолет начал спиралью уходить с трех тысяч метров к земле и, нырнув под туман на двадцатиметровой высоте, взял курс норд-вест. Я снова стал перелетать пролив, направляясь к людям на льдине.
Над головой стояла уже не белая, а серая мгла. Из полыней поднимались клочья тумана. Минуты казались бесконечными.
Было понятно: если сдаст мотор, все кончено.
Уже давно пора было показаться мысу Дежнева, но в тумане я ничего не мог разглядеть.
На стеклах опять появились намерзающие капли, впереди мелькнула какая-то чернота. Сделав крутой вираж, я снова развернул машину – в отступление!.. Через час под самолетом был город Теллор. На занесенной снегом песчаной косе стояли жители и, задрав головы, смотрели на снижающийся самолет: «Командор Слепнев не одолел Берингова пролива».
Мотор стих. Подвезли на салазках бидоны с горючим. Механик прикрепил к фюзеляжу флаг с серпом и молотом.
Рано утром, разбудив жителей Теллора ревом мотора, «Флей-стер» снова взял курс к людям на льдине.
Но и на этот раз мыс Дежнева утопал в тумане. Где-то внизу лежал Уэлен. Показался скалистый мыс Сердце-Камень. Нырнув в «окно» с высоты четырех тысяч метров, я под туманом повернул к Уэлену.
На снежном поле аэродрома собралась толпа. Сделав несколько кругов, я сел и подрулил к товарищам.
Я находился на родной земле, механик Левари – за границей. Еще один этап – и я в лагере!»
Собирая листы и не глядя на слушателей, Слепнев с неожиданным смущением сказал:
– Вот и все. Приемлемо или… в корзину?
– Отлично!.. Да ты, оказывается, очеркист… Читай еще!
«Смоленск» резал крутые волны, и брызги рассыпались по палубе. Позади, словно хмурые тучи, темнели горы Курильских островов. Мы держали курс к Лаперузову проливу.
– Хорошо в такую погоду в теплой комнате, за чашкой крепкого чая, – мечтательно вздохнул кто-то из обитателей кают-компании.
– Третий час, пора по койкам, – заметил Саша Святогоров.
Он с усилием приоткрыл дверь, но тут же подался назад, не устояв перед напором упругого ветра.
Поочередно мы протиснулись на скользкую палубу.
Все вокруг издавало тревожные звуки: гремела якорная цепь, завывало в антенне, хлопала оторвавшаяся доска самолетного ящика, беспокойно гудели тугие снасти. На трапе, ведущем в твиндек, хлюпала вода, лампочка погасла.
Нащупывая нетвердыми ногами ступени, мы спустились в свои апартаменты. Возле деревянной урны в тусклом световом кругу резвились крысы. Услышав шаги, они шмыгнули в темный угол.
– Где идем? – спросил хриплый голос.
– В Охотском.
– А вы чего ночами бродите, беспокоите людей? – проворчал невидимый твиндечный житель и с кряхтением заворочался.
Не раздеваясь, мы с Сашей повалились на койки.
Разбудили нас знакомые голоса:
– Лаперузов прошли?
– Ишь какой прыткий! Только к вечеру, может, выйдем в Японское море.
– А крепко подкидывает…
В круглые глазницы иллюминаторов вливался желтый свет. Утренние лучи проникли в мрачный треугольник твиндека. Пароход раскачивался, как люлька. По стеклам иллюминаторов ползли крупные капли. Палубу словно окатили из шлангов. Завывала сирена; густые, протяжные сигналы сменялись частыми, отрывистыми, напоминающими урчание потревоженного зверя. В порозовевшем тумане промелькнула рыбацкая шхуна. Осунувшиеся и пожелтевшие путешественники выбирались на палубу.
И еще одна ночь миновала – последняя. «Смоленск» приближался к Владивостоку. Показался остров Русский. Сновали кунгасы, моторные лодки, буксиры. Метрах в десяти пронесся парусник; моряк в дождевике крикнул в рупор: «Привет героям!» Над бухтой Золотой Рог взлетел военный гидроплан. Пилот снизился чуть ли не до верхушек мачт и с крутого виража, изловчившись, кинул охапку цветов. Ландыши и сирень мягко шлепнулись на палубу.
Навстречу шел военный корабль: флот Тихого океана приветствовал победителей Арктики. Казалось, что вдоль палубы протянуты белоснежные полосы – то были шеренги матросов в летних форменках. На горизонте возникли три облачка: вздымая водяные завесы, мчались торпедные катера. С нарастающим гулом приближалась воздушная эскадрилья. Из бухты двигалось несчетное число судов, их вел старый ледокол «Добрыня Никитич». Встреченный стоголосым хором гудков, «Смоленск» вошел в порт.
Вот он – красавец Владивосток, столица Советского Приморья! Чудится, будто зеленый амфитеатр окрестных сопок устлан гигантским пестрым ковром, – там десятки тысяч горожан ожидают полярников.
Сжимая ладонями поручни, Бабушкин всматривается в толпу на берегу. Побледневший Каманин, стараясь скрыть волнение, нагнул голову. Задумчиво глядит Владимир Иванович Воронин…
– Папа, ты не видишь меня? – прозвенел в толпе обиженный детский голосок. – Это ж я, папа! Да гляди же сюда!..
Размахивая ручонками, Аркаша Каманин бежит по трапу и попадает в объятия отца…
Ровно через десять лет я снова стал свидетелем встречи отца и сына Каманиных. Было это весною 1944 года на военном аэродроме близ провинциального польского городка. Войска Первого Украинского фронта вышибли гитлеровцев с советской земли и гнали дальше на запад. Истерзанная Польша освобождалась от фашистских оккупантов. Будучи военным корреспондентом, я приехал с советским генералом, командующим соединением штурмовой авиации, на полевой аэродром.
Только что к зеленым липам, под прикрытие их крои, подрулил связной самолет.
Юноша-летчик с погонами сержанта выскочил из кабины и быстрым шагом пошел к землянке, но остановился, завидев командующего.
– Летал? – спросил генерал, едва заметно улыбаясь.
– Так точно! Доставил пакет в дивизию.
– Отметишься у дежурного, возвращайся – отвезу тебя, – сказал командующий и обратился ко мне: – Не узнали? Конечно, десять лет прошло… А ведь с этим пареньком вы ехали от Владивостока до Москвы. Надеюсь, помните челюскинский поезд?.. Этот летчик – мой сын Аркадий…
В 1934 году Николай Каманин писал: «Я буду учиться, воспитывая в себе смелость, совершенствуя свое летное искусство. И если кто-либо посмеет занести руку над нашей родиной, я поднимусь со своим соединением в воздух, полечу, куда прикажут, в любую точку земного шара, буду стрелять и бомбить так, чтобы отбить охоту к нападению на СССР».
Все эти десять лет летчик упорно учился, накапливал воинский опыт. Из лейтенанта он стал генерал-лейтенантом, командиром корпуса. И он сдержал слово, данное народу, партии, родине: в дни Отечественной войны Николай Каманин водил соединение штурмовиков, прозванных фашистами «черная смерть».
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПОЕЗД
У перрона Владивостокского вокзала стоял специальный поезд. Почти десять тысяч километров до Москвы он должен был пройти за семь с половиной суток. До отхода оставалось минут двадцать, когда на перроне появились двое молодых людей. Первый, с блуждающим взглядом и взъерошенной шевелюрой, торопливо бежал вдоль состава, размахивая металлическим штативом и ежесекундно спрашивая: «Где комендант экспресса?.. Скажите, где комендант?» Другой, в кепке, сдвинутой на вытянутый нос, и в ватной куртке, обливаясь потом, со скорбным выражением плелся позади, таща на спине чудовищно раздувшийся запыленный рюкзак.
– Тот, со штативом, несомненно фотограф, – критически разглядывая незнакомцев, заметил Слепнев. – А этот, в кепи, должно быть, его помощник.
Человек со штативом подскочил к нашему вагону и схватил летчика за пуговицу кителя.
– Вы комендант? – вскричал он, угрожающе размахивая металлической треногой.
– По каким признакам вы судите? – уклончиво и с иронической любезностью спросил Слепнев, отступая на шаг.
– Дайте мне коменданта поезда! Почему возле состава нет коменданта? Беспорядок!
– Кому я понадобился? – спросил немолодой железнодорожник, выходя из тамбура. – Я начальник поезда…
– Стойте на месте! Нет, спуститесь на одну ступеньку. Экий вы, право! Вот так, так…
– Но-но… Кто вы такой? Куда вы меня тащите? – робко сопротивлялся железнодорожник.
Отпрянув назад и кинув штатив «второму номеру», курчавый незнакомец выхватил из футляра фотоаппарат.
– Стойте же! – вскричал он, приседая. Щелк…– Мерси! Как ваша фамилия, товарищ начальник?
– Послушайте, кто вы такой?
– Как, разве вам не вручили мою «молнию»? Я телеграфировал. Наш самолет присел из-за тумана километрах в шестидесяти отсюда. Я просил немножко задержать отправку экспресса – до нашего прибытия, на полчасика…
– Какая мелочь – полчасика, – язвительно перебил начальник поезда.
– Правда? Я сразу, как увидел вас, подумал: с этим человеком работать можно, – снисходительно сказал фотограф, впадая в фамильярный тон.
– Но откуда вы все-таки? Кто вы?
– Из Свердловска, фотокорреспондент газеты «Уральский рабочий» Виктор Темин, вот документ… А это – репортер Тюпик, москвич, очень приличный человек, между прочим. Сейчас мы озабочены вопросом о месте, о своей, так сказать, жилплощади. Мне, как фотографу, конечно, было бы недурно получить отдельное купе – знаете, проявление, закрепление и тому подобное, но если у вас перегруз, готов ехать даже в тамбуре. Мы люди не гордые. Верно, Тюник?
– Пройдите пока в этот вагон – к журналистам, а в пути посмотрим, – сдерживая смех, сказал начальник поезда. – Но предупреждаю – будет тесновато.
– В тесноте, да не в обиде, – шаркнул ногой фотограф и, повернувшись к своему спутнику, который стоял недвижимо и безмолвно, скомандовал: – Тюпик, за мной!
– Ну и подвижной этот уралец – ртуть! – проговорил Слепнев.
С тех пор за Теминым закрепилось прозвище «Ртуть».
Специальный поезд тронулся в путь, сопровождаемый горячими приветствиями жителей Владивостока, заполнивших перрон, вокзальную площадь и прилегающие к ней улицы.
Полярники стояли у окон, прижимая к груди огромные букеты и раскланиваясь во все стороны. За последние сутки оранжереи и цветники города опустели. Корзинки и букеты лежали на диванах, столиках, полках, заполняли проходы и багажные отделения, а кто-то ухитрился подвесить веточку махровой сирени к вентилятору на потолке. Боясь повредить цветы, пассажиры передвигались на цыпочках, как балерины.
Вынырнув из дымного жерла тоннеля, экспресс понесся вдоль пригорода. По обе стороны – на склонах выемок, на мостиках, виадуках, на крышах домов и сараев – стояли провожающие. Поезд мчался по живому коридору. Люди размахивали платками, подкидывали вверх шляпы, что-то кричали. Мелькали тысячи лиц – восторженных, доброжелательных, любопытствующих. И всю ночь, как только поезд замедлял ход у очередной станции, в окна вагонов врывался гром оркестров, раскаты «ура» и дружные вызовы: «Ка-пи-та-на Во-ро-ни-на! Мо-ло-ко-ва! Ба-буш-ки-на-а!» Не зная, что Шмидт, доставленный Слепневым на Аляску, после лечения вернулся через Соединенные Штаты в Москву, встречающие настойчиво требовали: «Отто Юльевича! Шмидта просим!..»

Советская авиация встречает летчиков – первых Героев Советского Союза. На фюзеляжах машин, сопровождающих специальный поезд написано: «Привет Героям Арктики!»
Полярникам вручали на остановках пачки телеграмм. Жители городов, лежащих на магистрали Владивосток – Москва, приглашали задержаться у них хотя бы на несколько часов: об этом же просили и города, расположенные далеко в стороне: Горький, Саратов, Алма-Ата…
Телеграф небольшой таежной станции принял депешу от В. В. Куйбышева, назвавшего Воронина доблестным капитаном.
Владимиру Ивановичу показали телеграмму. Он вспыхнул, вышел в коридор и долго стоял у окна, переживая свою радость; кто-то видел, как сдержанный, волевой моряк утирал платком глаза.
Пятьдесят тысяч горожан и колхозников из окрестных селений ждали поезд на привокзальной площади Хабаровска. Не успел экспресс остановиться, как в тамбуры и окна полетели букеты.
К поезду направилась оригинальная процессия: шесть человек торжественно несли деревянный щит, на котором возвышался невероятных размеров торт. Хабаровские кондитеры соорудили «Челюскина», зажатого во льдах: сливочные льдины надвигались на шоколадный корабль; из трещины, выложенной марципаном, высунулся сахарный медведь; с палубы глядели кремовые люди; не забыли кондитеры и бабушкинскую «шаврушку»…
– Весит тридцать килограммов, – с важностью сказал один из авторов внушительного произведения.
ТАСС упомянуло о двухпудовом торте в очередном «Вестнике» для областных газет.
В городах на нашем пути, узнав о хабаровском торте, рассудили, по-видимому, так: «А у нас разве нет кондитеров? Да наши хабаровских обставят!..» И началось! Чита поднесла полярникам скульптуру из шоколада, крема, теста и халвы на тему «В ледовом лагере» шириною в полтора метра, причем сахарные радиомачты возвышались на шестьдесят сантиметров над уровнем океана. Иркутский торт весил около сорока килограммов и изображал «Аэродром в Ванкареме». А красноярские кондитеры вылепили рельефную карту Северного Ледовитого океана; чтобы протащить карту-торт в вагон, пришлось с болью в сердце разрезать ее надвое по меридиану мыса Челюскин.
День ото дня и час от часа увеличивался «корреспондентский корпус» необыкновенного поезда. В Хабаровске к нам присоединились трое, на станции Бочкарево еще двое, в Чите подсели четверо, а дальше мы перестали считать. Каждое утро обнаруживались новые журналисты. В четырехместном корреспондентском купе обитало более двадцати человек; отдыхали посменно. У журналистов, которые ехали с Чукотки, напряженная работа была уже позади, но нашим товарищам, встретившим поезд в Приморье или в Сибири, приходилось нелегко: им надо было завязать знакомства с полярниками, расспросить их и тут же, в пути, писать корреспонденции. Отдыхали не более трех-четырех часов в сутки, где придется, и все время передвигались по составу, используя любую возможность побеседовать с летчиками и челюскинцами, узнать что-то новое об арктической эпопее.
Далеко за полночь. В коридоре на откидном стуле сидит, ссутулясь, молодой корреспондент ростовской газеты Юрий Таранов. Папка на коленях заменяет ему письменный стол. В левой руке у него блокнот, в правой – авторучка. Скоро рассвет, надо торопиться, пока не началась утренняя суета. Его клонит ко сну, тело обмякло, и, когда вагон на повороте дергается, Юрию приходится делать усилие, чтобы не свалиться со своего неудобного стула. Он пишет сразу телеграфным языком:
«Ростов-Дон редакция Молот – Передаю рассказ пекаря Челюскина Агапитова квч Булочная ледового лагеря квч абзац Шестого марта барак разорвало зпт вместе ним погибло мое хлебопекарное заведение зпт запасы сухарей кончаются тчк Конусов приказал изготовить оставшейся муки лапшу тчк Устроили стол зпт фанерные противни тире макаронная фабрика заработала тчк Вчетвером за десять дней превратили в лапшу пять кулей белой муки…»
Завтра представления ростовчан о быте лагеря пополнятся новыми подробностями. Но никто из читателей «Молота» не узнает, как далась автору эта заметка, а быть может, и само его имя останется неизвестным…
Беспощадно щелкая «ФЭДом», Ртуть за первые два дня извел добрый десяток катушек пленки. Он снимал как одержимый из всех мыслимых и немыслимых положений: стоя, лежа, на корточках, сидя, коленопреклоненно; снимал из тамбура, из окон вагона, с крыши вокзала, а один перегон проехал на передней площадке паровоза, неведомо для чего созерцая набегающие рельсы, которые под конец тоже заснял. Популярную Карину он перетаскивал с рук на руки – от капитана Воронина и Ляпидевского до уборщика Лепихина, пока девочка не раскапризничалась.
К исходу вторых суток Темин заметно присмирел. Вечером видели, как он шушукался с начальником поезда, глядя на него умильными глазами и влюбленно прикладывая ладони к груди. На рассвете фотограф тигровой походкой прохаживался у порога комендантского купе. Перехватив рослого железнодорожника, он приподнялся на носках и зашептал ему на ухо с такой пылкостью, что слышно было в противоположном конце вагона:
– Что вам стоит! Я поговорю с машинистом, он нагонит эти десять минут… Согласны?.. Вижу, что согласны. Ура! Век не забуду!..
Подпрыгивая, он понесся по вагонам оповещать о предстоящем событии. Фотограф отчаянно торопился и выпаливал свою весть не переводя дыхания, и чем больше он распространялся, тем туманнее становилась суть дела. Все разъяснилось, когда диктор поездного радиоузла спокойно и внятно сказал:
– Товарищи, послушайте извещение. Ровно в одиннадцать часов дня наш поезд будет остановлен в пути, на перегоне, для фотосъемок. Просьба ко всем полярникам и героям-летчикам заблаговременно собраться в ресторане и соседних с ним вагонах.
– Явка обязательна! – вырвалось из репродукторов грозное теминское предупреждение.
Экспресс мчался в глубокой выемке, прорезавшей забайкальские сопки. Пассажиры потянулись к середине состава. В десять часов пятьдесят восемь минут машинист умерил ход, поезд остановился. Фотограф первый соскочил на землю и голосом боцмана, объявляющего аврал, завопил:
– Сюда! Скорее ко мне! Дорога каждая секунда!..
Он метался во все стороны, но и в самой его суетливости была какая-то система. По-видимому, это и помогло ему за две минуты выстроить всех челюскинцев вдоль вагона. И пошло: раз – щёлк, два – щёлк…
– Товарищи летчики, прошу ко мне!
Расставив семерых Героев Советского Союза на подножках вагона, он трижды щелкнул; перестроил их в одну шеренгу и снова защелкал; потом – полукольцом, тесной группой, парами…

Первые семь Героев Советского Союза – летчики, спасшие полярников в Чукотском море: С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Водопьянов, А. Ляпидевский, И. Доронин.
– Заканчивайте, отправляемся, – предупредил начальник поезда.
– Вот и готово, вот и все, – приговаривал взъерошенный, восхищенный удачей фотограф. – Спасибо вам, товарищи, спасибо!..
Спустя несколько часов он вылетел из Читы на Урал. Когда экспресс прибыл в Свердловск, Виктор Темин встретил нас на вокзале с пачкой газет «Уральский рабочий». Его уникальные снимки были уже напечатаны. Он оказался единственным фотокорреспондентом, которому удалось в пути заснять группы летчиков и челюскинцев; на станциях, в сутолоке встреч, это не представлялось возможным, а из Москвы участники эпопеи разъехались во все концы страны.
Поезд приближался к столице. Полярников встречали авиационные эскадрильи. Московский диктор торжественно читал:
…А между тем, завершая рейс,
В сопровождении птиц и ветра
Из тоннеля ночи вылетает экспресс
И мчится по звонким холмам рассвета.
И мчит он, родиной нашей храним,
И мир, его ожидая, замер,
И бомбовозы летят над ним,
Его забрасывая цветами…
И вот – Москва, мыслями о которой жили полярники и в тяжкие часы невзгод, и в дни радости. Отсюда протянулась к ним надежная рука помощи.
Как волнует моих спутников приветственный гул людских волн, заливающих площадь Белорусского вокзала, нарядную улицу Горького!
Увитые гирляндами цветов, открытые автомобили медленно движутся по главной столичной магистрали к Красной площади. Белый вихрь листовок… Цветами покрылся асфальт: их кидают из окон, с балконов, крыш. Москва встречает победителей – арктических летчиков, ученых, моряков.
На Красной площади автомобили останавливаются. Полярники проходят вдоль трибун, москвичи бросают им букеты, обнимают, как самых близких и родных…
Рядом с руководителями Коммунистической партии и Советского государства на левом крыле Мавзолея Ленина стоят Алексей Максимович Горький, семеро Героев Советского Союза, Шмидт, капитан Воронин, Бабушкин. Тысячи москвичей приветствуют их, шествуя через Красную площадь, как в дни больших всенародных праздников.
НАД МАТЕРИКАМИ И ОКЕАНАМИ


19 ИЮНЯ В ПЯТЬ ЧАСОВ
Внизу на чистом мраморе льдов извивались черные, едва различимые прожилки. Кое-где вился туман. Однообразие белой пустыни путало представление о высоте. Стрелка альтиметра вздрагивала у деления 4000 метров.
Самолет шел точно на север.
За штурвалом – Валерий Чкалов, командир воздушного корабля. Он в теплой кожанке, меховых унтах. Обыкновенная кепка, надетая козырьком назад, придавала летчику озорной вид.
Позади командира прикорнул на масляном баке Георгий Байдуков, второй пилот. Сунув под голову спальный мешок, изогнулся на полу штурман Александр Беляков.
Чкалов бережно дотронулся до плеча Байдукова. Тот приподнялся, протер глаза и вздохнул.
– Подходим к полюсу! – крикнул Чкалов.
Байдуков порылся в дорожном мешке, вытащил апельсин – он превратился в ледяной шарик. Летчик попытался отогреть его в ладонях, потом положил на трубу отопления. Достал румяное крымское яблоко, оно тоже промерзло; надкусил – поморщился: заломило зубы.
Перебросив ноги через бак, Байдуков уселся подле Чкалова, подмигнул командиру: «Давай сменяться». Не выпуская из рук штурвала, Чкалов привстал, и Байдуков протиснулся на его место. Валерий Павлович уступил одну педаль, потом другую, отдал штурвал и полез на бак. Апельсин успел оттаять, кожица снималась легко. Чкалов отделил несколько сочных долек и нехотя, с усилием проглотил.
Прошло более суток со времени старта. У Чкалова припухли и покраснели веки, под глазами залегли глубокие тени. Устроившись на баке, он сразу погрузился в тяжелый сон.
Беляков, поднявшийся со своего жесткого ложа, сел за откидной столик и углубился в навигационные вычисления. Еще и еще раз он проверил правильность расчетов. Сомнений не было: самолет – над самым центром Полярного бассейна.
– Полюс под нами! – во весь голос крикнул штурман.
Чкалов мигом вскочил, поднял вверх большой палец, заулыбался.
Штурман старательно отстукивал ключом передатчика: «Перевалили полюс – попутный ветер – белые ледяные поля с трещинами и разводьями».
Это было 19 июня 1937 года, в пять часов по Гринвичу.
Летчики напряженно рассматривали поверхность океана: все та же необозримая белая равнина… Но они знали, что в эту величавую ледяную пустыню вторглась жизнь: где-то там, на скрытой туманом льдине, обитают и трудятся четверо советских полярников. Летчики помнили о них и надеялись разглядеть в сизой мгле крошечный лагерь дрейфующей научной станции «Северный полюс».
В те же минуты невысокий, коренастый, широколицый человек в меховой куртке стоял на льду возле радиомачты и, задрав голову, чутко прислушивался к затихающему гудению мотора. Он не двигался и ждал, словно надеясь, что самолет еще вернется. Это был Иван Дмитриевич Папанин, начальник первой дрейфующей станции «Северный полюс». Уже почти месяц он и три его товарища – Петр Ширшов, Евгений Федоров и Эрнст Кренкель, высаженные воздушной экспедицией на плавучую льдипу Северного полюса, – вели научные наблюдения, исследовали «вершину мира».