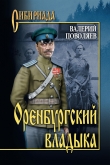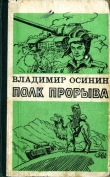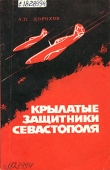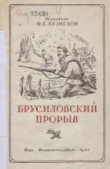Текст книги "1855-16-08"
Автор книги: Леонид Жирков
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
– Да, Ян Матвеевич, всегда попадал, – сидя на корточках, прапорщик поднял голову и посмотрел на командира снизу вверх.
– Берите винтовку, и идите сюда, только пригнитесь,– пока Колобов встал и пригнувшись переместился к командиру, Белькович продолжал наблюдение, – он целится, в то место где видел наши головы. Видимо думает, что мы затаились. Возьмите бинокль. На десять часов, видите?
– Да, отчетливо видно.
– Предоставляю Вам право произвести выстрел.
* * *
Солдат второго класса Роже Сантен, получил в голову пулю, отправившую его на встречу с Жаном Геоге. В этой реальности Нахимов остался жив и не жалкому человечку пытаться изменить то, что решили Мойры*.
Террор, начатый русскими стрелками, привел к тому, что работы по прокладке параллелей практически прекратились. Попытки одиночек-англичан из дальнобойных штуцеров со сделанными под заказ прицелами бороться с русскими приводили к их быстрой смерти. Англичан выдавал пороховой дым при производстве выстрела. А преимуществом
Бельковича, кроме скрытности стрельбы и пятикратного оптического прицела берлинской фирмы Р. Р. Фус, был больший опыт, и имевшиеся ранее наработки по маскировке. Англичане, считая расстояние в тысячу ярдов вполне безопасной дистанцией, даже не успевали пожалеть о своей самоуверенности.
–
*) Греческие богини судьбы.
Глава 41. Дебют минеров Черноморского флота
Павел Матвеевич Колмогоров, отнюдь не все рассказал о себе Ларионову и Степанову. Инженер он был опытный, поработать успел не только на Обуховском заводе. Свою карьеру, он начал на Балтийском заводе в тысяча восемьсот восемьдесят шестом году. Успел поучаствовать в достройке спущенного на воду крейсера 'Память Азова'. Уже тогда Колмогоров стал задумываться о рациональном размещении артиллерии. Русский флот интенсивно пополнялся кораблями, но молодой инженер всегда находил в проектах множество недостатков. Вот только прислушиваться к его мнению не спешили. Написанная Великому князю Алексею Александровичу докладная записка, вернулась к нему с пометкой управляющего морским министерством И.А.Шестакова 'Когда сей инженер займет мое место, тогда пусть предлагает новации'.
Серия броненосных крейсеров типа 'Рюрик', выстроенная с расположением артиллерии по бортам, в разговорах с несколькими друзьями подверглась критике. 'Всяк сверчок – знай, свой шесток', поговорку эту Павлу Матвеевичу неоднократно говаривали приятели. Иногда еще спрашивали когда 'великий провидец' займет место управляющего морского министерства, или на худой конец председателя морского технического комитета. Павел Матвеевич портил характер, ругался с друзьями. Писать очередную бумагу инженер не стал, хватило первого раза.
По вечерам он развлекался тем, что делал наброски и примерные расчеты невиданных кораблей, броненосцев с четырьмя башнями главного калибра, размещенными в диаметральной плоскости. Был проект легкого крейсера, артиллерия которого размещалась в четырех трехорудийных башнях, причем вторая и третья, возвышались над первой и четвертой. По поводу последнего, лучший друг инженера категорически возразил:
– Паша, во-первых, о каких крейсерах с трехорудийными башнями может идти речь, когда любая попытка поставить шестидюймовки в башни тут же сведет на нет всю их скорострельность? Что хорошо для броненосцев, с их двенадцатидюймовыми дурами главного калибра палящими раз в пять минут, совсем не подходит для крейсеров. Во-вторых ...
– Но послушай, Саша, ...
– Нет, ты послушай! Крейсер твой может и будет иметь будущее, но потом, в будущем, – друг усмехнулся своему невольному каламбуру и продолжил, – сейчас его строить никто не будет, прикинь объем проблем, которые надо решить для нормальной стрельбы, ну и стоимость этого. Кроме того, водоизмещение, приборы управления огне. Дистанцию меряют микрометром Люжоля-Мякишева, как на парусных кораблях! Столько проблем, что никаких денег не хватит на их разрешение. Вот и выйдет крейсер по цене броненосца, а то и дороже. Обратись с таким предложением в кораблестроительный комитет. Ответ сам знаешь или сказать?
– Так если вопросы не ставить их и решать не будут! Под лежачий камень, как известно, вода не течет!
– Тут ты прав. Но вот погоди, англичане придумают, тут и мы сиволапые возьмем пример с просвещенных мореплавателей.
– Опять англичане!
Аргументы друга были убийственны. Возразить было нечего, и если с приборами и механизмами можно было заниматься что называется в лабораторных условиях, то водоизмещение этих кораблей было таково, что крейсер надо было строить в эллинге предназначенном для строительства броненосца, а броненосец по проекту Колмогорова, строить было просто негде. Прикинув примерную стоимость своих задумок с учетом затрат на модернизацию верфи, Павел Матвеевич, тогда еще просто Паша, уложил эскизы и расчеты в саквояж и убрал его в дальний угол чулана.
На заводе заложили очередной броненосный таран под названием 'Гангут', строили долго, не раз изменяя проект, получилось как говорили острословы – 'одна башня, одно орудие, одна труба, одна мачта – одно недоразумение'.
'Выброшенные деньги' – так думал инженер, глядя на броненосцы, все как один оснащенные таранами на манер греческих триер. Один-единственный раз удалось удачно применить этот архаичный способ ведения боя, и все кораблестроители послушно копируют это бесполезное устройство. Идея тарана вражеского корабля, при всей ее привлекательности, с развитием артиллерии становится малоприменима на практике. Находясь в чертежной группе наблюдающего за постройкой броненосца 'Адмирал Ушаков' Д.В. Скворцова*, человека неординарного, который из инженеров-механиков флота, перешел в корпус инженеров-судостроителей, Павел Матвеевич попытался переговорить с ним о своих идеях, но понимания не нашел.
Время шло, карьера не двигалась, характер портился. Со всеми этими, неприятностями семьи Павел Матвеевич так и не создал. После конфликта с директором Балтийского завода М. И. Кази,
–
*) Дмитрий Васильевич Скворцов (1859-1910) – судостроитель, построивший броненосцы 'Адмирал Ушаков', 'генерал-адмирал Апраксин', 'Бородино'. Сын дворцового служителя, карьеру начал кондуктором.
по поводу артиллерии на минном транспорте 'Амур' (Колмогоров считал малокалиберные пушки абсолютно бесполезными, а их поставили аж семь штук) инженеру пришлось уйти.
Перешел на Обуховский сталелитейный завод, а после присоединения к нему Александровского рельсопрокатного, познакомился с железнодорожным транспортом. После позорного
Портсмутского мира, Колмогоров написал обширную докладную записку, где изложил свое видение проблем кораблестроения и вооружения. Но кораблестроительная программа по возрождению флота еще не была принята, на верфях отсутствовали заказы, а репутация у Павла Матвеевича была неважной. Как известно, 'нет пророка в своем Отечестве', докладная затерялась в недрах канцелярий. Колмогоров махнул рукой на кораблестроение. Занимался проектированием мостов, паровых котлов, насосов. На станции Тарнополь, Павел Матвеевич оказался в двенадцатом году. Карьера не сложилась, пороха не изобрел, корабля не построил.
И вот теперь – второй шанс! Оказавшись в России на двенадцать лет ранее своего рождения, инженер заново обрел смысл жизни. Теперь все было возможно, он вновь полон идей и знает , что и как надо. Есть возможность исключить метод проб и ошибок, не тратить силы, средства, материалы, на конструкции, ведущие в тупик. Надо только завоевать авторитет, а значит выполнить свою работу как можно лучше.
* * *
Способ минной постановки с помощью двух баркасов скрепленных поперечными брусьями, определил размеры и вес мин. Использовать для постановки катер, на который необходимо было приспособить автомобильный двигатель, было можно, но были и препятствия. Шум. Двигатель издавал рокот, а в пяти кабельтов от берега стоял вражеский дозорный бриг. Брандвахта, как назвал его лейтенант Костомаров назначенный Нахимовым для помощи инженеру в военно-морских вопросах.
Переделку в минные транспорты имеющихся в Севастополе пароходов инженер счел невозможной по тем же причинам. Зацепить баркасом на буксир плоты с минами и при входе в Камышовую бухту сбросить их в воду, было нельзя, плоты могли опрокинуться. Не дай Бог, при -этом повредить свинцовые колпаки, содержащие угольно-цинковый гальванический элемент и стеклянную ампулу с жидкостью Гренэ. Никаких предохранителей, ни на сахаре, ни на соли конструкция не предусматривала. Да и проплыть надо было под берегом, так, чтобы с моря было не видно, связка плотов слишком плохо управлялась.
После тщательного отбора сделанных корпусов из двенадцати штук, инженер отобрал восемь. Выдержав 'бой' с командиром саперной роты капитаном Коростылевым, минная команда обогатилась шестью пудами пироксилиновых шашек, что явно было недостаточно. С большим трудом еще два пуда получили из четырех фугасных гранат сталистого чугуна, которые пожертвовал подполковник Марков.
Пироксилин как взрывчатое вещество, имеет явное преимущество перед черным порохом. Мины Якоби, на которых подорвались корабли союзников у Кронштадта, снаряжались зарядом пороха в двадцать пять-тридцать фунтов пороха, значит, пуда пироксилина будет достаточным для пролома борта деревянного корабля.
Столь несложные подсчеты инженера, вполне подтвердил капитан Коростылев.
– Павел Матвеевич, зачем столько пироксилина? Бризантность у него выше таковой у пороха раз в шестьдесят! Фугасность хоть и не столь велика, но и она в три раза больше.
– Для надежности, Аркадий Олегович. А то от Кронштадта уплыли супостаты. Так Вы считаете, что пуда хватит?
– Для любого деревянного корыта за глаза. Вы, Павел Матвеевич, излишне мнительны.
– Мины, которые делали на Обуховском заводе, содержали семь пудов взрывчатки, вот я и засомневался.
– Так и корабли тогда были другие, – оценив то, что сам только что сказал, Коростылев рассмеялся, – вот ведь оказия, о будущем говорю в прошедшем времени! А остальные материалы у вас в наличии?
– Спасибо Аркадий Олегович. Не все еще в Севастополе так прижимисты. – ехидно подпустил шпильку инженер.
– Ну, вот опять снова-здорово...
– Не обижайтесь, Аркадий Олегович. Это я так, из вредности. Спасибо за помощь.
– Пожалуйста, обращайтесь, – обиженно сказал капитан, и тут же вслед за появившимся посыльным убежал на четвертый бастион.
Нашелся в Севастополе уголь с цинком для гальванических элементов, изготовили свинцовые колпаки, прапорщик из студентов химиков приготовил электролит. Испытания проводили в полном секрете в Северном укреплении. Никто, конечно, не стал взрывать мину, но по отдельности каждый элемент ее конструкции проверили.
Изготовили брусья, с помощью которых, два баркаса соединят в одно целое. Русские плотники всегда испытывали тягу к аккуратной, можно сказать ювелирной работе. Здесь тоже все крепления были 'в шип'. Никаких гвоздей и скоб не предполагалось, прочность обеспечивали болтовые соединения. Предназначенные для выполнения диверсии люди тренировались в обращении с лебедкой днем и ночью. Не прошедшие строгого контроля минные корпуса набили для веса песком, и тягали на учениях лебедкой из специально сделанных креплений на баркасах.
Людей подобрали самых смышленых, сильных физически, отчаянно храбрых и только охотников. Лейтенант Костомаров лично подбирал свою команду. Последним испытанием стала установка учебной мины, к грузу которой заранее привязали пеньковый канат. Все работало прекрасно. Ждали только новолуния, чтобы исключать возможность обнаружения двух хрупких суденышек предназначенных для доставки смертельного сюрприза французам.
* * *
Тихо поскрипывают уключины. Тяжелое дыхание гребцов сливается с плеском волн. Сидящий на руле лейтенант изредка вглядывается в светящийся ободок компаса подаренного офицером Сибирской бригады. Свет от лампы в ящике с синим стеклом, установленного на корме головного баркаса, словно связующая нить между двумя единицами минных сил Черноморского флота.
Приказ, отданный лейтенанту адмиралом Нахимовым категоричен – 'Выставить минную банку на фарватере. Либо на подходе к Камышовой бухте. Решение принять на месте сообразуясь с обстановкой'.
Днем, при взгляде на карту, все казалось простым и понятным. Доплыть незамеченными, скрепить баркасы, установить лебедку и накидать 'подарков'. Дополнительную уверенность лейтенанту придавало то, что Камышовую бухту он прекрасно знал. Конечно, ни о каком надежном минировании восьмью минами бухты имеющей ширину в четыреста саженей говорить не приходилось. Рассчитывать можно было только на случайный успех. Да и большой пользы, от утопления одного корабля, тоже не предвиделось. Как сказал инженер, 'расчет на психологический эффект, подорвутся – испугаются, испугаются – запаникуют'.
После крайнего выхода из Севастопольской бухты пароходофрегата 'Владимир', русские моряки давно не были за линией затопленных кораблей. Французы к этому привыкли, службу на брандвахтенном корабле несли абы как, лишь бы отбыть номер. Это тоже учитывалось лейтенантом. На тренировке в Хрустальной бухте все было отрепетировано не один раз. Теперь надо было попасть на середину входа в Камышовую и выполнить задачу.
В Севастополе, думая как лучше выставить мины, лейтенант очень жалел, что не может воспользоваться ориентирами на берегах. 'Сто саженей справа, сто слева, исключаем. Остается двести. Значит на двадцать пять по две мины. Будет конечно не ровная линия, но тут уж ничего не поделаешь', – размышлял Костомаров. Решение подсказал, а потом вызвался его осуществить прапорщик корпуса флотских штурманов Машин.
– Я на гичке, с четырьмя людьми заранее высажусь на берег. Два фонаря, один выше, другой ниже, створяясь, дадут вам возможность выставить мины ровно как по линейке. Согласны?
– Согласен. Спасибо, Родион Васильевич.
Теперь главное, это точно выверить по времени, какое расстояние пройдено. Матросов он тренировал в гребле на сцепленных баркасах до изнеможения. В назначенный день, прапорщик с людьми вооруженными 'Наганами', отплыли первыми и уже должны были быть на месте. Оставалось только доплыть без приключений Костомарову с Титовым.
За время нахождения рядом с инженером Колмогоровым, довольно много узнал какие обязанности у минных офицеров на кораблях в будущем, какие устройства входят в их заведывание. Фонарь, который Колмогоров иронично назвал 'ратьером', был жалкой пародией на настоящий. Вместо электрической лампы – керосиновая, вместо шторок, заслонка из жести. Об электричестве лейтенант, конечно, знал, но вот то, что оно столь широко будет использоваться на флоте, никогда не думал.
– А сколько же лет служит матрос?
– До войны служил пять лет.
– Когда же этот, как Вы говорите гальванер, успевает все узнать, все понять?
– Берут во флот грамотных. Береговой учебный экипаж, там учат, школы специалистов, там обучают, на корабль приходят, опять учат, под конец службы получается специалист. Впрочем, точно не знаю. Сам не служил, да и матросским обучением не интересовался.
– Да, Павел Матвеевич, далеко шагнула Россия, если Ваш матрос, знает и умеет поболее, чем нынешний офицер.
Разговоры инженера с лейтенантом были обо всем. Кроме устройства якорных мин, Костомаров успел узнать об орудиях, способах их размещения на крейсерах и броненосцах, бронировании, о самодвижущихся минах, тральщиках, эскадренных миноносцах, и еще множестве интереснейших вещей.
Широкая эрудиция и знания инженера произвели на лейтенанта сильное впечатление. Рассказ Колмогорова о 'Новике', дающем на полном ходу скорость в тридцать шесть узлов, казался чистой фантастикой. Язвительные замечания Колмогорова о заднем уме начальства из Морского министерства, не озаботившегося отправкой мин на Черное море, воспринимались лейтенантом с полным одобрением. Накидали бы мин в Евпаторийском порту, в Керчи, Феодосии и Балаклаве, и не было бы никакого десанта.
Но сейчас все мысли лейтенанта были направлены на выполнение задачи. Прикрыв несколько раз заслонку на фонаре, по двум ответным вспышкам, такого же синего цвета, понял, что баркас мичмана Федора Федоровича Титова, носящего прозвище 'Квадрат', с пути не сбился и выдерживает дистанцию. Неплохо было бы наличие плохой погоды, дождя, но вода сверху не лилась, а была только за бортом. Звезды давали не так много света, с моря на фоне берега баркасы не видно, но вот если найдется какой-нибудь мечтательный тип совершающий прогулку по берегу, то могли быть неприятности.
Времени, когда полностью темно на юге не много. Белых ночей как в Петербурге нет, но уж больно коротка ночь, с 'воробьиный скок'. Надо спешить.
– Навались братцы, еще мины ставить, да обратно идти, – свистящим шепотом проговорил лейтенант. Баркас прибавил ход.
'Узла три, пожалуй, скоро уже и бухта. Господи помоги, не дай супостатам заметить нас!– про себя молился лейтенант доворачивая баркас в нужном направлении, не забыв прочертить короткую горизонтальную линию своим 'ратьером'.
* * *
Бухта с французским городом Камышином открылась неожиданно. Времени по часам лейтенанта было двенадцать ночи, но на кораблях, пришвартованных в глубине бухты и в домах на берегу горели огни.
– Суши весла! – негромко подал команду Коростылев.
Через пять минут рядом с кормой появился нос баркаса Титова.
– Федор Федорович, будь добр не стукай меня в корму.
– Табань! – отреагировал мичман.
Вот появились синие пятна фонарей Машина, можно работать. Доведенными до автоматизма движениями матросы, убрав весла, начали сооружать грузовую платформу на носах баркасов. Это заняло совсем не большое время, чуть больше четверти часа. Хотя работали в темноте, без всякой подсветки, но доски и брусья послушно ложились на предназначенные им места. Еще через четверть часа, на платформе возвышалась лебедка. Глядя на створившиеся огни, Костомаров скомандовал:
– С Богом! Начали!
– Первая пошла! – тотчас откликнулся мичман.
Негромкий всплеск и первая рогатая смерть погрузилась в воду. На веслах обоих баркасов сидели восемь матросов, которые по команде лейтенанта гребли назад, а с платформы периодически раздавался голос мичмана:
– Третья пошла!
– Четвертая пошла!
Мины выставили поперек бухты. Разобрать конструкции на носу удалось гораздо быстрее, чем собрать. Всех охватил азарт от предчувствия удачи, и матросы работали как наскипидаренные.
Приказ Нахимова о том, чтобы ни в коем случае не допустить захвата нового оружия неприятелем, знали и помнили все. На обоих баркасах лежали киянки, предназначенные для удара по свинцовому колпаку, выполнявшие роль традиционного 'пистолета Казарского'*. Сейчас работа была окончена, но возбуждение, так тщательно скрываемое всеми во время постановки, требовало выхода.
– Весла на воду! Навались братцы!
В этот момент на брандвахте загорелся второй кормовой фонарь.
– Накося, выкуси, – раздался злорадный голос мичмана Титова.
–
*) Вступая в неравный бой с двумя турецкими кораблями, командир брига 'Меркурий', капитан-лейтенант Казарский, положил заряженный пистолет в крюйт-камере. Последний оставшийся в живых офицер, должен был взорвать бриг и не допустить его захвата неприятелем.
* * *
Шесть дней ничего не происходило, французский бриг все так же стоял на месте, никто из бухты не выходил и не входил в нее. Лейтенант Костомаров весь извелся. Вместе с мичманом Титовым, они ежедневно приходили на десятую батарею, где оба офицера часами смотрели в сторону Камышовой бухты. Очень мешала французская батарея 'Наполеон'. Бывало, что и пули посвистывали рядом. Сибирские стрелки, правда, понемногу приучали французов к вежливости, те постоянно кланялись и передвигались в полусогнутом положении, но пока еще находились храбрецы, пытавшиеся восстановить status quo.
Бывали и артиллерийские обстрелы. То одна, то другая батареи осаждающих делали несколько залпов и сразу замолкали. В воздухе было разлито предгрозовое ожидание. Колмогоров успокаивал флагманского минера, и привлекал к расчетам и выполнению чертежей на переоборудование в полноценные минные заградители пароходов 'Надежда' и 'Грозный'.
– Так ведь мин нет, Павел Матвеевич!
– Ну и что? Мины будут делать, а тут все готово. Все чертежи есть, останется за неделю переоборудовать корабли и пожалуйста.
Прекрасно зная о нравах царящих 'под шпицем', Колмогоров не питал больших надежд на скорое превращение двух 'калош', в полноценные боевые корабли, но кипучая его натура требовала дела.
– А может, стоит хотя бы порохом снарядить оставшиеся мины и в Балаклаву сходить? – как-то спросил присоединившийся к лейтенанту с инженером Титов.
– Тут голубчик Федор Федорович, я Вам не советчик, только мнится мне, что до Балаклавы и обратно, на веслах не успеть за ночь.
– Я спрошу у Павла Степановича. Вдруг разрешит? – истомившийся мичман был готов на все.
Но Нахимов не разрешил.
* * *
Наконец, одновременно с известием об удачном деле у Карача-Иляка, произошло событие, которого так ждали. Двадцать четвертого июля, в Камышовую бухту вознамерился войти бриг служивший брандвахтой, адмирал, разрешил команде 'освежиться', то есть погулять по кабакам и выполнить другие культурные мероприятия.
Место брига, должен был занять пароходофрегат 'Декарт'. Его команда отнюдь не спешила на
неделю оторваться от берега, поэтому бригу 'Тулон' выпала сомнительная честь стать первым кораблем, прошедшим по минному полю. Бриг прошел, и ничего с ним не случилось. Оба 'минера' наблюдавшие за маневрами французского корабля погрузились в мрачные размышления.
Со стороны бухты занятой французами, показался густой дым. Получив распоряжение на замену, 'Декарт' готовился выйти на позицию. Но пароходофрегату носящему имя великого математика, повезло меньше, чем бригу 'Тулон', хотя он и его командир, капитан-лейтенант Анри де Пиюск, навсегда вошли в историю Восточной войны, как первый корабль и первый капитан погибшие на русской мине.
Сначала раздался приглушенный толщей воды и расстоянием грохот взрыва. Приунывшие минеры торопливо вскинули зрительные трубы и успели заметить опадающий столб воды. В этот момент раздался еще один взрыв.
– Не иначе как взорвались паровые котлы.
– Я думал, взрыв мины будет громче, – невпопад ответил мичман, – интересно, сколько людей из экипажа погибли?
– А Вы кровожадны, Федор Федорович.
– А вам не интересно, Николай Иванович?
– Интересно конечно. Вот кончится война, узнаем. – флегматично сказал лейтенант, любуясь как вражеский корабль стремительно уходит на дно.
Из команды в двести тридцать четыре человека спаслось трое.
Все участвовавшие в минной постановке принимали поздравления, а в Севастополе царило ликование.
Столь дерзкая диверсия, вызвала, как и предполагал инженер боязнь у моряков отойти на своих кораблях от причала, а у французского командования бешеную злобу.
Глава 42. В поисках мира
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения,
якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть" . Отто фон Бисмарк
Александр Николаевич в отличие от отца, характер имел мягкий, ему вовсе не хотелось что-либо менять: ни во внутренней, ни тем более во внешней политике. При батюшке все было так хорошо устроено. Высказанное на первом приеме дипломатов намерение – продолжать все по-прежнему, показало, что новый государь стал продолжателем идей 'Священного Союза'. Другими словами, политика императоров Александра I и Николая I, останется в неприкосновенности. Это вполне отвечало желаниям австрийского и прусского дворов. Чувствовать себя свободными от обязательств и иметь постоянного слугу, вернее даже прислугу в лице России было очень удобно.
Постепенно, вникая в суть происходящего, после того, как Австрия отплатила черной неблагодарностью, а Пруссия вежливо отказалась от союза, взгляды императора стали меняться. Стало совершенно очевидно, что победить, то есть вести войну, пока Россия не достигнет почетного мира – невозможно. Империя, имея врагами силы объединенной Европы, физически не могла победить.
Осознание того, что государство, полученное в наследство больно, и требуется немедленное лечение, было очень неприятно. За тридцать лет царствования, Николай I, выстроил внешне мощное и блестящее государство, на поверку оказавшееся совсем не таким мощным, и как оказалось совсем не блестящим. Мысли о необходимости реформ, несмотря на желание ничего не менять, стали преобладать у молодого императора. Несовпадение желаний и необходимости было неприятно. Реформы – это слово даже стало сниться по ночам. Их проведения требовали и последние слова Николая Павловича: 'Сдаю Тебе Мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя Тебе много трудов и забот'.
Практически полная международная изоляция, в которой оказалась Россия, усугублялась: расстроенными финансами, крестьянским и польскими вопросами, воровством. Последнее, распустилось прямо-таки махровыми цветами. Армия оказалась совершенно не годной. Слитный строй полков, мерно марширующий на парадах, оказался весьма плох в бою. Реформы давно назрели, но какие необходимы в первую очередь? Все так неопределенно, так много всего надо, причем надо немедленно!
Счастливый случай, Божье провидение или Покров Богородицы, неважно, что это было, привел к появлению в Крыму в самый тяжелый момент нескольких тысяч солдат выученных и вооруженных совсем в другое время. Последние известия, о неудачах неприятеля успокоительно подействовали на все общество. В Петербургских салонах, о войне говорили мало. Казалось, что Крым – это другой конец света. Модницы жалели о невозможности приобрести последние парижские туалеты, да о недостатке английских товаров, и все! Война – это грубая проза, случившаяся так некстати, в мире есть гораздо более возвышенные вещи. Все было как всегда. Армия побеждает, полководцы храбры и мудры, зачем что-то менять?
Но Александру Николаевичу, осведомленному о действительном положении вещей, особенно после встречи с Ларионовым стало совершенно ясно, что необходимо в первую очередь. Тут, правда, возникли другие трудности, пришельцы из шестнадцатого года знали, к чему привели изменения в российской истории в их времени. Если что-то делать по-другому, то их знания не будут иметь никакого значения. Есть над чем подумать.
"Сейчас нужно, как можно скорее закончить войну. Закончить почти как в не измененном варианте, на любых условиях, но не роняя чести. Хоть и слишком хлипкое преимущество сейчас, но оно пока есть. Кончатся снаряды и патроны у Сибирской бригады, – император по привычке думал именно о бригаде, хотя прекрасно знал, что это всего лишь полк, усиленный артиллерией и саперной ротой, – и всё, кончатся успехи".
Поэтому, в недавнем прошлом капитану, а сейчас полковнику и флигель-адъютанту Сергею Аполлоновичу Гребневу приходилось по памяти восстанавливать все пункты Парижского мирного договора. Его высказывание о том, что неприятности надо переживать по мере их поступления, обернулись против него. Сейчас у России одна неприятность – война. Ее надо побыстрее закончить, по возможности почетным миром, чтобы не уронить чести России.
Знание тех требований и условий, которые в иные времена были у союзников к Империи, давали неоспоримые преимущества для переговоров. После таких щелчков по носу как Юшунь, Карач-Иляк, Евпатория, фиаско французского обстрела Севастополя с помощью броненосцев, пока враг в растерянности, а Австрия в страхе от выдвижения мнимых Сибирских корпусов к западной границе, нужно заключить мир.
'Наполеон не очень хочет усиления Англии, ослабления, а тем более расчленения России по плану Пальмерстона? Тем лучше, пусть Сергей Аполлонович получше припомнит, что и как было в его времени. Карл Васильевич ушел в отставку после Парижского трактата в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году? Уйдет раньше. Ориентация на Вену, которая высказала ТАКУЮ благодарность за сорок восьмой год, нам не нужна.
Реформы обязательно будут, причем будут гораздо более радикальные с условием послезнания, – император усмехнулся родившемуся у него названию того, что он ощущал, – пройдут они раньше, чем в мире Гребнева, последствия будут..., да будут непредсказуемы, но они явно будут лучше для России чем те, которые были у них. Батюшка любил Россию и всю жизнь постоянно думал об одной только её пользе. Не смог отменить крепость, придется мне. Но! Сначала мир, остальное потом!'
* * *
Первое, что сделал император, после того, что обдумал сведения, полученные от Гребнева и Ларионова, это была отставка Нессельроде. По этому поводу у него вышла размолвка с вдовствующей императрицей.
– Карл Васильевич, всегда был верным слугой престолу! Как ты мог Александр, не посоветовавшись со мной, отправить его в отставку? Пусть даже с определением в Государственный совет и награждением орденом? Он так пунктуально выполнял все пожелания твоего отца! Лучшего слуги нет и не будет!
– Mama! Батюшка мой был очень умный человек, он был наделен многими качествами, мне не присущими. Мог заниматься внешней политикой и внутренним устройством империи. Я не так умен, чтобы окружать себя дураками и послушными исполнителями моей воли. Мне нужны умные люди. И не слуги, а помощники. Впредь попрошу Mama, не вмешиваться в мои решения.
Алекса́ндра Фёдоровна (урождённая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская ), от отповеди своего сына сначала была очень расстроена, но потом, более не вмешивалась в его действия.
Должность канцлера Российской империи занял князь Алекса́ндр Миха́йлович Горчако́в. Послом при Венском дворе вместо него стал сын князя Орлова, Николай Алексеевич Орлов, офицер при штурме Силистрии получивший девять ран, лишившийся левого глаза, не годный к строевой службе, но вполне годный к службе дипломатической, унаследовав таланты отца*.
* * *
В Михайловском дворце, после смерти Великого князя Михаила Павловича, перешедшем в собственность его вдовы, Великой княгини Елены Павловны, собрались: Император Всероссийский, Царь польский, Великий князь Финляндский и прочая, прочая, прочая, срочно вызванный из Вены канцлер князь Горчаков, шеф жандармов князь Орлов, Великий князь Константин Николаевич, полковник Гребнев, чувствовавший себя в столь блестящем обществе не совсем комфортно и конечно хозяйка, Великая княгиня Елена Павловна.
Все присутствующие были посвящены в происхождение скромного полковника Гребнева, со строжайшим запретом обсуждения этого знания где-либо, кроме этого места. После представления доказательств в виде денег последующих царств, оружия, нескольких книг и –