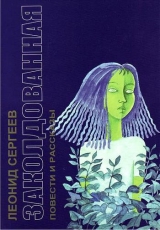
Текст книги "Заколдованная (сборник)"
Автор книги: Леонид Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
Еще один полупородистый пес Сандал стал ничейным после смерти хозяйки. Сандал был мрачный, замкнутый – никогда не лаял, ни к кому не приставал, но если собаки затевали драку, подходил и молча хватал за загривок.
Собак на другой стороне Лихоборки владельцы бросили, когда сносили деревянные дома, а жильцов переселили на новое место. Обычно днем собаки прятались в подворотнях, а с наступлением темноты шастали по помойкам. Только две маленькие дворняжки – крутолобый Уголек и его подружка хромоножка Найда и днем бродили между домов – бегали с ребятами в магазин и на озеро, а зимой провожали до школы.
Мы с Челкашом дружили с этими собаками; он с ними играл, я их подкармливал, и понятно, мы нешуточно привязались к ним, а они к нам и подавно, даже сопровождали нас во время прогулок к озерам. Случалось, я и лечил наших бездомных друзей: Найде замазывал лишай, Угольку промывал глаза марганцовкой, у Сандала вытащил рыбью кость из пасти, у Букета занозу из лапы. После этих «лечений», собаки уже воспринимали меня, как вожака их стаи; во всяком случае ходили за мной по пятам и постоянно заглядывали в глаза, ожидая приказаний.
Как-то зимой, прогуливаясь с Челкашем, я обнаружил под котельной теплый подвал и, купив дешевой колбасы, стал туда приманивать бездомных «ребят» так я называл их; за несколько дней собрал всю окрестную собачью братию. Было смешно смотреть, как, перекусив, собаки укладывались в подвале, ссорились из-за лучших мест, толкались, ворчали, потом засыпали, прижавшись друг к другу.
Старушка, у которой было много собак и кошек, почему-то считала меня ветеринаром, при встрече раскланивалась и говорила:
– Вы знаете, Сандала кто-то ударил по голове. У него кровоподтек возле уха. Пожалуйста, подлечите его и возьмите под свою защиту.
Я уже и на самом деле всерьез вошел в роль лекаря и опекуна, но вскоре убедился, что являюсь всего лишь бесправным любителем животных.
Однажды весной во время собачьей свадьбы Альма увела часть собак в парк за гаражи; вместе со сворой убежали Чарли и наш Челкаш. Я кое-что знал о методах собаколовов, знал – они промышляют на рассвете, и именно во время собачьих свадеб, что выглядит особенно жестоко.
Целый день до полуночи и все следующее утро я искал собак и нашел их вовремя: в парке уже стоял зеленый фургон, и знакомые «лиловые носы» с улицы Юннатов «обложили» стаю, перекрыли выход из парка и приманивали своих жертв колбасой – ничего не подозревающие собаки доверчиво подходили к мужикам. Часть бедолаг уже была в машине за решеткой. Я подбежал в тот момент, когда «лиловые носы» запихивали в фургон… Челкаша!
– Стойте, мужики! Это мой пес.
– Чего ж отпускаешь без ошейника?!
– Сбежал. Сами понимаете – свадьба. Вот вам.
Я протянул собаколовам три рубля; Челкаш бросился ко мне, начал прыгать, лизаться, а в фургоне – Букет, Уголек, Найда – еще разгоряченные, не отошли от своих игр, но уже в глазах страх, топчутся, дышат тяжело.
– Мужики, – говорю, – давайте договоримся. Выпустите их всех. Сейчас принесу рублей пятнадцать.
– Это можно, но у нас план. Есть постановление… Не сегодня, так завтра отловим. Ну, тащи четвертной, а там разберемся.
Я отвел Челкаша домой, занял у соседей деньги, принес «носам», они отъехали за гаражи, подальше от любопытных глаз, и выпустили пленников – те сразу дунули за Лихоборку.
– Зря стараешься, – сказали собаколовы, отъезжая. – У нас ведь план… Надо поставлять в институты. Все одно выловим.
А потом собаки стали исчезать. Первым пропал Букет; говорят, его какой-то алкаш отнес за пятерку на опыты.
…Однажды утром я проснулся от громкого воя Челкаша – он тревожно бегал по комнате, прятался за шкаф, стаскивал с меня одеяло. Я выглянул в окно и увидел зеленый фургон. Челкаш уловил далекий призыв своих собратьев и отчаянно будил меня, звал на выручку, но когда я выбежал из дома, фургон уже выруливал на шоссе…
В тот же день выяснилось – майорша все-таки пронюхала про подвал в котельной и долго поносила «всяких любителей животных», которые «с жиру бесятся, а их собаки разносят заразу», а потом вызвала собаколовов, навела их на собак и сама руководила облавой. Загребли незнакомого пса и Уголька с Найдой.
Говорят, Найда спряталась за коробками на помойке, но ее выдал торчащий хвост. Уголек долго отбивался и сумел-таки забежать в подъезд, но собаколовы накинули на него веревку, выволокли на улицу.
– Что же вы делаете, при детях-то?! – покачал головой какой-то старичок.
Летом, когда я был в отъезде, собаколовы наведались еще раз, и около наших домов не осталось бездомных собак. Говорят, в то утро «носы» решили забрать всех животных, но Рыжего успели спрятать жильцы, сильный Сандал вырвался и убежал к каналу; один парень днем его видел уже в Химках – с подбитым глазом, разорванным ухом он бежал, весь в слюне: видимо, решил спрятаться в загородных лесах… Альму будто бы избили, но она успела скрыться в своей гаражной будке… Одни говорят, что Валета увезли, другие – что на него накинули петлю, но он оборвал ее и с обрывком веревки на шее кинулся на проезжую часть улицы, и что за ним погнался один из «носов» с сачком на шесте, и что Валет сообразил бежать по осевой линии между потоками машин, и что ему удалось убежать от преследователя, но в конце улицы он попал под грузовик. Я сам ничего этого не видел. Говорят.
До завтра!
Самые лучшие компании в которых я бывал, – компании джазовых музыкантов. Когда собираются мои знакомые писатели, они, испытывая жгучее беспокойство, говорят о гонорарах, упорно заставляют слушать свои вещи, вешают друг на друга ярлыки; когда собираются мои приятели художники, они, распалив неконтролируемое воображение, говорят о картинах, которые пишут, и в их словах сквозит неутолимое желание прославиться, под конец они непременно крепко выпивают и в винных парах взахлеб болтают о женщинах; когда собираются мои друзья джазовые музыканты, они играют!
Вот уж одержимые люди! Ради музыки они отказываются от многих благ и удовольствий.
Меня окружает немало практичных людей; одни из них охвачены лихорадкой накопительства, вещизма: приобретают машины, строят дачи, другие из-за границы привозят шмотки, во всем стремятся перещеголять друг друга и никак не могут угнаться за своими дурацкими мечтами. А мои друзья музыканты обитают в коммуналках, не вылезают из долгов, плохо обуты и одеты – некоторые всю жизнь не имеют костюма, – но скопили деньги на инструменты и при случае отдают зарплату за пластинки. Некоторые из них, получая гроши, играют в кафе, а остальные по вечерам кочуют из одного увеселительного заведения в другое, запросто забираются на сцену и присоединяются к играющим. И это так же естественно, как завалиться ночью с компанией к близкому другу.
На сцене они сильно заводят друг друга, особенно если врубят какую-нибудь зажигательную вещь, ну хотя бы «Как высоко луна». Раскочегарятся – дальше некуда, весь зал трясет от их огня. А они знай себе посмеиваются, подмигивают друг другу, отпускают шуточки. Остроумные все, черти! Да и как не хохмить, ведь джаз, в сущности, веселая штука. Отыграв соло, раскланиваясь и улыбаясь, смахивая капли пота, они один за другим отходят в глубину сцены и оттуда, отбивая такты ногами, искренне восхищаются каждой отлично сыгранной фразой товарища. Вот это особое взаимопонимание, доброжелательное отношение друг к другу, искренняя радость от успеха других и отличают джазистов от всех других кланов.
На фестивале в Таллинне, когда десяток музыкантов из разных стран играли одну тему, я понял, что джаз еще и интернациональная штука. Но главное открытие, которое я сделал, слушая джаз, это то, что подобная музыка способна моментально поднять настроение или наоборот – заставить грустить. Стоило, например, послушать «Лору», как многое в жизни казалось ненужной суетой; стены кафе расширялись, меня обволакивала какая-то теплынь, и, ощущая романтическую приподнятость, я переносился в яркие, светлые дни, становился тем, кем хотел быть, перед глазами появлялось то, что хотелось видеть.
Мне удивительно повезло: я застал время зарождения русского джаза. В те бурные шестидесятые годы в Москве открылся джазклуб, сколачивались ансамбли и одно за другим появлялись кафе – «Аэлита», «Молодежное», «Синяя птица», «Романтики». Окрыленная свободой молодежь смело утверждала себя. В кафе устраивали выставки художники неформалы, читали стихи непризнанные поэты, пели первые джазовые певицы. Долгое время мы жили в духовном вакууме, без информации и общения с зарубежными сверстниками; пробивались, как ростки из-под асфальта, и вдруг – заграничные фильмы, пластинки, а главное – делай что хочешь и выноси на суд в кафе. Именно кафе играли первостепенную роль в формировании новой эстетики, новой культуры общения.
Сейчас на каждом шагу другие кафе, в которых разные ритм-группы через усилители обрушивают на слушателей ураган звуков и длинноволосые парни завывают писклявыми голосами. Как ни силься, мелодии у этих музыкантов не уловишь, один скачущий напор, невразумительный каскад звуков; взрывы гитарных аккордов, уханье не барабана, а парового молота, хрипы, стоны, вопли, какие-то хронические экстазы – чумовая эстрада разбивает мозги. Длинноволосые парни выучили три аккорда, научились щипать гитары, но понятия не имеют что такое мелодичность. В этих кафе редко увидишь танцующих пластично и страстно, как тогда, в шестидесятых, когда танцевали буги-вуги и рок-н-ролл. Сейчас в основном дергаются осоловелые джинсовые парочки, с выпученными глазами изображают припадочных, и кричат и воют. Когда я на них смотрю, мне по-настоящему жаль, что эти молодые люди не приучены к классическому джазу, что они лишены удивительного искусства импровизации.
Трагедия в том, что бум свободы длился недолго и вскоре «непонятную» музыку, как вредоносную, вновь запретили. Но сейсмическое эхо сработало: то тут, то там полулегально продолжали играть джаз, правда, все реже, да и уже менялись вкусы – во всю наступала примитивная массовая культура.
Я часто вспоминаю то золотое время, когда в кафе не только танцевали, но и слушали джаз и после каждой красивой вариации раздавались аплодисменты, восторженные восклицания. Это и понятно, ведь современный рок – всего лишь форма протеста, динамика состояния, а классический джаз – огромное музыкальное пространство, динамика чувств, определенная экологическая ниша. Рок выполняет не музыкальные, а социальные функции, а джаз – музыка свободных людей, для которых духовная жизнь и личное откровение – некий собственный Бог. Это подтвердит каждый, кому сейчас за сорок.
Наши первые джазовые музыканты учились мастерству у великих негритянских джазистов, развивали их знаменитые фразы, вносили в них свой национальный колорит, обогащали джаз фольклором. Одним из блестящих трубачей был Андрей Товмосян, человек, который самостоятельно научился играть на трубе и в своем мастерстве оставил далеко позади музыкантов, имеющих консерваторские дипломы.
Впервые я его увидел в «Аэлите» на Садовом кольце около Каляевской улицы: на сцене стоял невысокий сутулый человек с длинным носом и играл какую-то балладу в духе Клиффорда Брауна – этакая кружевная манера, причудливая и нежная, – прямо-таки фигурное катание в воздухе. Играл негромко, с недосказанной, как бы смазанной варьировкой, и все время около темы Гарнера «В тумане». Это было какое-то священнодействие – он совершенно околдовал меня. Я как вошел, так и остался приклеенным к двери. Перед ним зал оглушали лавиной звуков какие-то саксофонисты. Я слышал их из раздевалки. И вдруг… это звуковое облако: мелодичный рисунок, тихое откровение, утонченные, совершенные вариации, так называемый прохладный джаз. Какая-то хорошая грусть, как выдержанное вино, наполняла меня все больше и больше, пока я окончательно не раскис. Эта музыка, преображая окружающее, звучала во мне и в последующие дни, я не мог работать, все валилось из рук…
Позднее это состояние я испытывал каждый раз, когда слушал его приглушенную игру. Что и говорить, он был чуткий, тонкий музыкант. А как человек – замкнутый, необщительный, мнительный, с болезненным воображением; в «музыкальной» компании сидел насупившись, а то и вообще отключившись – слушал музыку, но краем уха улавливал все разговоры и время от времени отпускал колкости в адрес приятелей. Очень любил посмеяться над другими, но жутко обижался, когда подтрунивали над ним.
– Непрозрачный человек, – говорили о нем.
А по-моему, он был очень прозрачный, и потом, чтобы так волшебно играть, нужно иметь доброе сердце.
Андрей жил в большой комнате, среди прекрасной неразберихи. У него почти не было мебели, только тахта, стол и старое кабинетное пианино. Зато вдоль стен стояли штабеля магнитофонных записей, старинных и редких книг, причем совершенно разных: Верлен соседствовал с кулинарией, «Система йогов» с книгами по психиатрии. Андрей писал мрачные стихи с черным юмором и пародии на приятелей.
Когда я к нему заходил, мы слушали музыку, говорили о литературе, под конец Андрей брал трубу, надевал сурдину, чтобы не ворчали соседи, и играл любимые вещи. Как многие одаренные натуры, он был противоречив и у него частенько случались перепады настроений. Как-то весело проиграл свою пьеску, разулыбался:
– Как ее назовем? Может, «Солнечный день»?
Потом вдруг помрачнел и проиграл эту же вещь грустно.
– А может, «Пасмурный день»?
За глаза Андрей называл меня «гениальный безумец», несколько преувеличивая мои способности. Ничего гениального, да и просто стоящего, я не создавал, а «безумец» – совсем неточно, я нормален до неприличия. Думаю, ему просто нравилось сочетание этих слов. Мне оно тоже нравилось.
Джазу Андрей отдавал все свое время, с человеком не любящим джаз, он и разговаривать не стал бы – у него эта любовь была чуть ли не помешательством. Однажды мне заявил:
– Если я когда-нибудь женюсь, моя жена будет музыкантшей, от нее будет веять музыкальностью.
Эти слова я вспомнил через несколько лет, когда сидел с его женой на фестивале джаза в МИИТ. Андрей на сцене заканчивал блюз и, как всегда, последний квадрат играл ниже, чем предыдущие. Я был весь там, в музыке, и вдруг меня толкает локтем жена Андрея и спрашивает:
– Тебе нравится моя новая шляпа?
На ней красовалась не шляпа, а корзина с фруктами, ее лицо тонуло в косметике. Она была безвкусной женщиной, хотя работала портнихой, – одевалась с претензией неизвестно на какую моду, напяливала на себя все, что имела, и представлялась «модельершей». Глупая, но с претензией, она вечно помыкала мужем и при этом строила из себя наивную овечку. Она старалась быть на виду (садилась так, чтобы все оценили ее «линии»), постоянно строила глазки друзьям мужа, подогревая его ревность. Из-за нее Андрей вечно дулся то на одного приятеля, то на другого. Я сразу ему заявил, что она не в моем вкусе. Он ухмыльнулся, посмотрел на меня как на идиота, но с того дня привязался ко мне еще сильнее.
Все-таки после того концерта в МИИТ он встретил меня с надутой физиономией, прохладно, точнее – с ледяной суровостью. «Что такое, – думаю, – всегда улыбался, а тут еле процедил – Привет!» Я стал перебирать в памяти последнюю встречу – вроде, все было в порядке.
– Андрюш, – говорю, – в чем дело? Может, я обидел чем?!
– Чем, чем! Пока я играю, вы кадритесь.
С тех пор я обходил стороной его «модельершу».
Одним из первых наших джазовых музыкантов был и Герман Лукьянов, который считал себя лучшим трубачом в мире. Красивый внешне, он не пил, не курил, не ел ни мяса, ни рыбы, не мог долго находиться в одной компании, долго терпеть одного собеседника – его все раздражали. В кафе он никогда не появлялся с девушками; в их обществе корчил напускное безразличие, а то и болтал о «любовных» победах. Только однажды со мной разоткровенничался:
– Женщина, как правило, навязывает мужчине иллюзии, зачаровывает, околдовывает, парализует его волю, ощущение реальности. Я живу с матерью. Ни одна женщина не заменит мать.
Чувствовалось, слабый пол сильно ему насолил.
Герман единственный, кто выпадал из всего джазового братства. Он стоял на сцене прямо, с каменным лицом, таинственный и недоступный, играл с открытыми выпученными глазами и никогда не улыбался. Отыграв ураганное начало, сразу уходил в какие-то мудреные завывания. Перед тем, как с ним познакомиться, я слышал о нем только плохое, и как о музыканте, и как о человеке. Многие музыканты падали от смеха со стульев, когда он играл «колмановские» штучки, другие ухмылялись и отмахивались, кое-кто просто-напросто поносил его замысловатую игру. На это он позднее невозмутимо заметил:
– У каждого должно быть столько же друзей, сколько и врагов.
В зале действительно всегда сидели его поклонники и в молчаливом изумлении, затаив дыхание, ловили каждую ноту кумира, а после «потусторонних, запредельных» импровизаций стонали от восхищения.
Мне, как и большинству «нормальных» слушателей, не нравились выкрутасы Германа, его некоторая показушность и излишняя артистичность (на шее бабочка, в кармане пиджака треугольник яркого платка – и это вычурное обрамление среди скромно одетых товарищей). В своих надуманных импровизациях он совершенно не держал тему, его заносило черт-те куда. Я все надеялся, что надолго его не хватит, а он минут по двадцать закручивал головоломки.
Именно тогда я пришел к выводу, что в искусстве нужно простыми средствами выражать сложные мысли, а не усложнять простые вещи. Я считал, что джаз – компанейская и откровенная штука, а тут какая-то многозначительность, недосягаемость, безмерная самоуверенность. И надо же! Когда меня с ним познакомили, он оказался приветливым парнем и умным собеседником. И невероятным спорщиком. Не помню, с чего зашел разговор о единомышленниках, но помню – я высказался в том духе, что творческому человеку необходимо общение с себе подобными. Герман стал доказывать, что «великие люди» (вероятно, имел в виду себя) редко дружат друг с другом, им не нужна подпитка, что чаще их друзья совсем из другой среды. В общем, спорил со мной, спорил, потом усмехнулся:
– Вообще-то бесполезно что-либо доказывать. У нас всех уже сложившиеся взгляды, убеждения, и вряд ли их изменишь, верно? Спор подрывает дружбу…
В тот вечер мы с ним перешли на «ты», и я был уверен – расстались друзьями. В следующую встречу я чуть ли не бросился его обнимать, но он вдруг холодно протянул руку:
– Здравствуйте!
Он всех держал на дистанции и даже с оркестрантами говорил на «вы». И я ни разу не слышал, чтобы он хорошо отозвался о ком-нибудь из музыкантов:
– Андрей? Талантливый, но дурак. Игра без волшебства тяжело воспринимается… Владимир? Мертвый инструмент. Уровень ученика школы. Его ходы безнадежно заигранные… Алексей? Бедноватая техника.
В этих резких оценках сквозила повышенная требовательность; Герман сравнивал приятелей с лучшими исполнителями в мире. Я это понял позднее, а окончательно убедился, когда заикнулся о какой-то новой группе, работающей под «битлов».
– Это не имеет никакого отношения к джазу. Эти сопляки лишены всего, – сказал он и постучал согнутым пальцем по виску.
Вокруг каждого талантливого человека кружат околотворческие люди; они, точно пиявки, сосут соки из своего любимца, обедняют его талант, затягивают в бессмысленное времяпрепровождение. Не каждый имеет самодисциплину, способность отказаться от жизненных соблазнов. Я так ее никогда не имел и ухлопал полжизни на всякие приключения. Именно поэтому меня всегда восхищали цельные натуры, вроде Николая Громина, одного из лучших гитаристов, которых вообще знал джаз. Пожалуй, в то время его игра меня восхищала больше всего. В ней было столько изобретательности! Какая-то неистовая, ослепительная, искрометная фантазия! И сдержанность. Ведь именно в ней все дело. А его виртуозная техника! Он мог все. Полноватый, губастый, с умными, светлыми глазами и двумя-тремя волосками-нитками на голове – войдет в раж, губы отвиснут, щеки трясутся, весь красный и раздутый, точно накачан воздухом, – и каждый пассаж, каждый аккорд на нерве. Он держал зал в напряжении, вкладывал в игру всю душу, отдавал себя полностью, без остатка; отыграет, сразу худеет, точно из него выпустили воздух, и, вдрызг опустошенный, уходит в сторону; ему рукоплещут, а он еще минуту-другую приходит в себя, потом каким-то чудесным образом смущенно наклонит голову и шаркнет ногой по полу.
Он всегда внимательно, с профессиональным уважением, слушал игру товарищей – линию саксофона или трубы, и я видел, как теплел его взгляд, светлело лицо.
Часто Николай играл в паре с Алексеем Кузнецовым, тоже первоклассным гитаристом – да что там первоклассным! Он играл так, как всего несколько человек в мире! И что немаловажно, никогда не выпячивался и со всеми держался с необыкновенной простотой. До знакомства с ним, я думал, что все большие таланты – сложные люди с тяжелыми характерами. Оказалось, не все.
Так вот, когда Николай играл с Алексеем, тогда стоял такой упругий свинг, что весь зал лихорадило. Демонстрируя красивые ходы, Николай обыгрывал тему, Алексей аккордами создавал фон, а барабанщик Валерий Буланов палочками расцвечивал мелодию. Их трио прямо-таки дышало, как единый организм. Отыграв тему, они по очереди исполняли соло, а затем наступало самое интересное: они играли вместе, по квадрату каждый, один начинает варьировать мелодию, второй продолжает. Доли секунды оставались для воплощения мысли в звуке, но что значит – прекрасные исполнители! – они подхватывали фразу на лету и еще больше закручивали импровизацию. Новая музыка рождалась прямо на глазах, накал достигал предела, все вскакивали, нетерпеливо вскрикивали, дрожали от возбуждения, а музыканты вдруг неожиданно обрывали звуки и… сразу – тему, только намного горячей, чем в первый раз.
Николай работал экономистом в институте, а по вечерам играл в кафе; играл, повторюсь, вдохновенно, с кипучей самоотверженностью. О большинстве музыкантов он отзывался с похвалой, но в глаза мог и крепко отругать. А со слушательницами был предельно учтив. Как-то одна юная особа спросила его:
– Что нужно, чтобы научиться хорошо играть?
– Совсем немного, – ответил Николай с нежностью в голосе. – Любить инструмент и гонять пассажи по пять часов в день. И, как говорил Моцарт, в нужное время нажимать на нужные клавиши. Вот и все.
Я был знаком почти со всеми джазовыми музыкантами, и надо же! – с лучшим, самым известным, бесспорно незаурядной личностью, мне познакомиться так и не довелось, хотя я много слышал о нем и он вызывал во мне благоговейное почтение. Он напоминал Оскара Питерсона: и внешне – так же искрился весельем, и манерой исполнения – вихревыми каскадами пассажей. Его звали Борис Рычков. Трудно было поверить, что этот грузный, вечно улыбающийся толстяк, может так легко играть. Его лапищи не касались инструмента – это было неуловимое прикосновение, порханье рук над клавишами! А зал наполнялся водопадом звуков.
Он всегда играл с улыбкой, музыка доставляла ему радость. Временами, импровизируя на стандартную тему, он даже дурачился: вставлял смешные фразы из других произведений, что, понятно, вызывало восторг и смех. Его композиции были неожиданными, но всегда точными.
Я уже сказал, что Рыжков удивительно легко играл, но еще легче он вскакивал со стула закончив пьесу, взволнованно оглядывал зал, как-то красиво и просто кланялся, держась за спинку стула, и быстро убегал со сцены.
Он начинал одним из первых, во времена, когда еще джаз считался «музыкой толстых», «веянием загнивающего Запада», когда нелегально привозились пластинки и их переписывали на «ребрах» – рентгеновских снимках, когда музыканты собирались в подвалах, постоянно опасаясь, что на них донесут. Но ко времени бума шестидесятых годов он уже имел свой ансамбль, с которым гастролировал от Москонцерта.
Солисткой их трио была жена Бориса – Гюли. Вот женщина! И создает же такое природа! Блестящая певица и красавица: точеная фигура, огромные глазищи с «самыми длинными в столице ресницами» и черные волосы, свободно спадающие на плечи. Понятно, мерилом всего является талант, но и внешность определяет многое, а вместе с обаянием это вообще значительная сила – перед Гюли открывались все двери.
Она появлялась на сцене, застенчиво опустив голову, обходила инструмент, робкая, точно ночной мотылек кружащий у лампы, и начинала издалека: после вступительных аккордов, с потухшими глазами, еле слышно вела тему низким, хрипловатым голосом; но постепенно раскачивалась, ее глаза разгорались, а из хрупкого тела уже вырывался такой мощный голос, что по спине бежали мурашки.
Борис с женой и вне сцены смотрелись прекрасно: он – тучный здоровяк, а она – маленькая, изящная – такая контрастность, как нельзя лучше, подчеркивала индивидуальность каждого.
В «Аэлите» я познакомился с архитектором и саксофонистом подвижником джаза Алексеем Козловым, который неустанно экспериментировал: создавал различные группы, играл то джаз-рок, то фольклор Якутии, то вводил в ансамбли струнные инструменты, то синтезаторы, без конца искал «тембровые палитры», «новую фактуру». На мой дилетантский взгляд, в результате этой мешанины, он так и не выработал свой стиль и слишком далеко ушел от классического джаза. На взгляд профессионалов, изощренной элитной публики, был новатором, его музыкальный язык «опережал время». Несколько лет я пытался дорасти до понимания этих заковыристых новшеств, но так и не дорос и остался приверженцем традиционного джаза.
С Козловым внешне мы были на редкость похожи, до тех пор пока он не отрастил длинные волосы и бороду. Наше сходство помогало мне проходить в кафе во время закрытых вечеров: парни дружинники, увидев меня, открывали дверь. Правда, иногда кто-нибудь из них бросал:
– Ты что, сегодня без инструмента?
Собственно, в другие кафе я проходил как певец или басист. Кем только не был! А что делать? Хотелось послушать музыку.
«Аэлита» представляла собой большое помещение на первом этаже жилого дома: сцена, раздевалка, стойка, пять-шесть столов и две официантки – вот и все кафе. Сцена была крохотной, на ней еле умещался квартет; в углу стояло старое пианино. У стойки висел устрашающий список коктейлей: «Любовь с первого взгляда», «Гремучая смесь», «Солнечный удар», «Ядерный взрыв», но буфетчица тетя Маша выдавала только кофе и стакан сухого вина. Зато на столах были чистые скатерти и девчонки официантки еще не научились грубить, а главное, можно было весь вечер просидеть за чашкой кофе – роскошь, не позволительная ни в одном заведении общепита.
В те дни, когда кафе арендовали какие-нибудь организации, музыкантам приходилось играть разную заезженную мишуру, но ради других свободных дней стоило и помучиться.
Среди посетителей кафе было немало истинных ценителей джазовой музыки. Помню слепого паренька Володю, который ходил по улицам без палки, а слушая джаз, подпевал и отбивал пальцами по столу ритмический рисунок. Володя закончил ИНЯЗ, работал переводчиком и одновременно собирал радиосхемы.
Помню Люсю, очень худую нервную фанатку джаза, которая носила дешевые платья. Она печатала статьи о джазе в журнале «Юность» и в брошюрах общества «Знание», являлась членом Европейской ассоциации джазовых критиков. Острая, восторженная и умная, она была неудачницей в личной жизни. Парни видели в ней зануду, «мозговую женщину» – «живет не сердцем, а головой, а в башке у нее электронная машина, все и всех вычисляет». А она поджимала губы:
– Горе от ума – единственное настоящее горе женщины.
Люся появлялась в кафе с подругой Валей, смуглой, цыганского вида молодой женщиной. Эта Валя всегда сидела молча, не привлекая внимания, но однажды вышла на сцену и так спела «Мисти» Гарнера, как ни до нее, ни после в Москве не пел никто! Ее не просто горячо приняли – ей устроили овацию, даже музыканты отбили ладони, а пианист Борис Рычков подошел и расцеловал ее. После этого Валю долго не отпускали со сцены, и она пела «Колыбельную птичьих островов» Ширинга, невероятно красивые вещи Джорджа Гершвина и напряженные Кола Портера, кое-что из репертуара Рей-Кониффского ансамбля и даже «Чучу». Она подражала великой Элле Фитцджеральд, но кто не подражает в начале пути? Важно, кому подражать.
Что меня еще поразило в Вале, так это ее раскованная манера держаться. На фоне наших деревянных эстрадных певиц она выглядела прямо-таки западной звездой. Тайну мне открыл гитарист Андрей Гарин.
– Внешняя свобода идет от внутренней, – сказал он. – Мы жили под страхом, и наши души искорежены, а она полуцыганка, привыкла жить сама по себе, без всяких ограничений, раскрепощено…
В то время Валя перебивалась случайными заработками, но вскоре прямо-таки взлетела на пьедестал – ее пригласили в цыганское трио «Ромэн», она сказочно разбогатела, стала ходить увешанная бриллиантами, но джаз не забывала и пела на всех фестивалях.
«Аэлиту» посещал мой старый приятель, фотограф журнала «Советский Союз» Виктор Резников. Он всегда выглядел отлично: в модном костюме, в квадратных очках, с камерой и кофром через плечо; на его куртке красовался значок «Пресса». Виктор неутомимо щелкал музыкантов и колоритных типов, добросовестно запечатлевал для потомков то неповторимое время. Виктору было некогда знакомиться с девушками, поэтому он считал, что мои приятельницы, с которыми я время от времени приходил в кафе, являются и его возлюбленными. Оттесняя меня в сторону, он запросто обнимал их, целовал, записывал их телефоны, да еще фотографировал, то есть получал двойное удовольствие. Частенько он и провожал моих подружек, из-за чего у меня с ним возникали трения, но Виктор все сводил к шутке:
– Девушки в кафе совершенно необходимы, – говорил Виктор. – Они поддерживают уровень застолья и завода на сцене.
Завсегдатаем «Аэлиты» был инженер Алексей Баташев, крупный знаток, «профессор» джаза, ведущая фигура в среде джазистов – именно он представлял музыкантов на выступлениях, а позднее написал книгу «Советский джаз» и пробил ее в издательстве «Музыка».
В «Аэлите» царила домашняя атмосфера, там можно было пообщаться с единомышленниками, узнать новости богемной жизни, но туда заходили и случайные люди, которые считали кафе забегаловкой, где «тунеядцы» попросту убивали время. Случалось, эти, неизвестно откуда взявшиеся, типы свербили:
– И что за чертовню играют?! Давай что-нибудь наше, русское! «Журавли», что ли! И за что им деньги платят?! Их бы всех в шахты да на лесоповал, этих выдувальщиков!
Или о выставке художников:
– Ну и мазня! Я бы и то лучше намалевал.
Эти воинствующие невежды освистывали читающих стихи.








