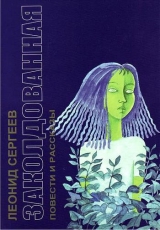
Текст книги "Заколдованная (сборник)"
Автор книги: Леонид Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
Ангел пролетел
Да что ж это такое, что со мной происходит, я совсем потерял голову, не помню какое сегодня число, день недели, все валится из рук – неужели наступила весна? В доме какое-то сумасшествие: теплый ветер распахивает форточку, полощет занавески, срывает абажур, все вещи в некоем незамкнутом пространстве – сместились и витают и раскачиваются, словно куклы на нитках, и стол, и тахта, и шкаф отодвинулись и маячат где-то в отдаленье, как бы ушли в прошлое, вместе со всей предыдущей жизнью. Похоже, это весна.
Я выхожу на улицу, а там и вовсе водоворот, веселое безумство: на мокром тротуаре осколки упавших домов и перевернутых машин, все искажается, кружится и слепит, отражая яркое солнце. На каждом углу продают фиалки и мимозу, цветы в киосках и кафе, в витринах магазинов и троллейбусах – от их запаха нет спасения. Еще капает с крыш и время от времени сыплет прозрачный дождь, но без сомненья – это весна. Слишком много неопровержимых признаков.
На улице прямо-таки всеобщее братство – незнакомые люди улыбаются друг другу, первые смельчаки разгуливают без пальто, приветствуя каждого встречного – смотрите, первый весенний солнечный день! В сквере детский гомон сливается с гомоном птиц, один мальчишка тащит скворечник, другой не выдержал и выкатил велосипед, девчонка-подросток вальсирует меж деревьев. Все немного сошли с ума, не иначе. Что творится с женщинами! У них посветлели глаза и походки стали легкими, в улыбках – ожидание, надежда. Кто бы подумал, что в городе так много красивых женщин, и куда они прятались до сих пор? Да и мужчины изменились: с них точно смыло всегдашнюю угрюмость, на их лицах тоже улыбки, смутные улыбки людей, уставших от долгой зимы. Улыбаются даже те, кто обычно редко улыбается: дворник и постовой, водитель автобуса и продавщица овощного ларька; улыбаются абсолютно все, будто истосковались по свободе и вот, наконец, ее обрели. Среди прохожих я вижу нашу почтальоншу, мужчину из соседнего подъезда, с которым мы постоянно стреляем сигареты друг у друга, сокурсницу по институту, знакомого художника, сослуживца по работе, школьного товарища, который по слухам стал крупным начальником, даже соседку с прежнего местожительства – и как очутилась в нашем районе? Я и не знал, что у меня так много знакомых; с одними здороваюсь издали, с другими обмениваюсь рукопожатием.
– Теперь все худшее позади, теперь-то все будет хорошо, – говорим мы друг другу. – И забудем, простим обиды, ведь наступила весна.
Я вхожу в телефонную будку, обзваниваю друзей, голоса у них праздничные, они подтверждают – сегодня, вот так внезапно наступила весна. Мы договариваемся о встрече на вечер; и не виделись всего-ничего, а кажется, прошла целая вечность.
По пути на работу захожу в кафе и, ожидая у стойки кофе, заговариваю с симпатичной барменшей, – у нее открытая грудь, зеленые глаза; я еще только налаживаю контакт, а она уже верещит:
– …Такой небритый, мог бы и побриться по случаю весны… И неухоженный. Наверное, нет жены. А у меня нет мужа. Наш дом ломают и если у меня будет муж, я получу большую квартиру. Давай поженимся… ненадолго.
– Поженимся? Ненадолго?
– Ну-да. Весна-то скоро пройдет и дом сломают.
– Нет уж, сударыня. Пожалуйста, меня не соблазняйте. Весна в этом вопросе ни при чем. И дом тоже. Я, понимаете ли, к женитьбе отношусь крайне серьезно, не то, что некоторые… Ваши достоинства, сударыня, очевидны, и легкий роман – пожалуйста. Очень легкий. А жениться…
– Знаете что! Вы просто трус или совершенно непрактичный.
– Скорее первое. А может и второе, не знаю. Но поверьте, в душе я человек положительный. Я не против женитьбы, но мне нужна идеальная жена. И потом, есть такая вещь, как любовь, вы слышали?
– С вами все ясно, вы просто зануда. И на вас не действует весна, – она ставит чашку на стойку и исчезает в глубине бара.
Ну вот, еще и не разобрались, что к чему, а она уже меня бросает. Я беру кофе и направляюсь к столу, у окна. Не действует весна! Еще как действует! Но именно весной нельзя быть такой практичной. В другое время года еще куда ни шло, но сейчас никак нельзя; сейчас время чувств, а не дел. Мне даже на работу не хочется идти. Впрочем, о чем это я?! Барменша, дом, квартира, работа… Очевидно, во всем виновата весна.
Я сажусь у окна; за стеклом, точно в гигантском аквариуме плывут прохожие, машины; на противоположной стороне улицы стайка девушек парикмахерш, стоят на ступенях салона, разглядывают прохожих, щурятся от солнца, смеются. Надо же, заметили меня, машут руками, как бы подогревая мой романтический настрой. Но пора на работу, никуда не деться от этой работы. Как-нибудь в другой раз, сударыни. Куда спешить? Весна-то только началась.
Вестибюль метро как запруда в половодье – все пестрит от плащей и разноцветных зонтов и, по-прежнему, всюду множество цветов. На эскалаторе все вежливые, предупредительные, и опять – сплошные улыбки.
Мне и ехать-то всего три остановки по прямой, без всяких пересадок; и надо же! На следующей станции в вагон впорхнуло чудо – светловолосое юное существо с нотной папкой и веткой мимозы – прозрачный розовый плащ просвечивает тонкую фигуру, как соломинку в стакане коктейля; на лице капли дождя и самая прекрасная улыбка из всех, которые я увидел за утро. И создает же природа такое! Надо подойти, сказать что-нибудь замечательное: «Вас Бог послал. Я знал, что сегодня вас встречу, ведь сегодня наступила весна и значит, если чего-то очень хочешь, это случится». Или нет, другое: «Знаете, мне очень одиноко, только вы можете меня спасти». Нет, и это не годится. Может, просто: «Давайте познакомимся, ведь наступила весна».
Да, что я в самом деле! Вот так всегда. С барменшами, парикмахершами знакомлюсь запросто, а как только встречаю потрясающую женщину, теряюсь и не нахожу слов. А сейчас стою как обмороженный – она не потрясающая, она – ангел, случайно спустившийся на землю, такое судьба посылает раз в жизни… Вот повернулась в мою сторону, чуть дрогнула улыбка, исчезла совсем, она продолжает улыбаться одними глазами. Господи, как хороша! Ее лицо снова озаряет лучезарная улыбка, на этот раз она предназначается только мне, это яснее ясного. Болван! Я не двигаюсь с места.
Моя станция, но я и не думаю выходить – черт с ней, с работой. Какая работа, когда решается судьба! Конечно, она с радостной готовностью откликнется на любые мои слова – нас уже связывает невидимая нить. Конечно, мы будем встречаться и это будет чистая и пылкая любовь, без всяких размолвок и огорчений – каждодневное всевозрастающее счастье, одна круглогодичная весна. И, разумеется, мы поженимся. Это будет совершенно непрактичный брак. Ну что я имею?! Комнату в коммуналке и работу – так себе, обычный оклад рядового инженера, а она, наверняка, студентка консерватории или учитель в музыкальной школе, но у нас огромное будущее, ведь мне нет и тридцати, а ей всего-то двадцать, не больше… Как замечательно вместе завтракать, разбегаться по делам, ненадолго расставаться, чтобы вскоре встретиться вновь, за ужином пересказывать друг другу новости на работе, в учебе, сходить в кино, навестить общих друзей; а в выходные дни отправиться в гости к родственникам, совершить вылазку на природу, запланировать летний отпуск, вслух что-нибудь почитать, послушать музыку, заняться домашними делами, а перед сном, обнявшись, смотреть телевизор, то есть жить теми мелкими отдельностями, которые все вместе называются семейным счастьем.
Но что это?! Она выходит и спешит к эскалатору. Что за станция, ничего не соображаю. Расталкивая пассажиров, устремляюсь за ней, сердце колотится – готово выпрыгнуть из грудной клетки, такого со мной еще не было, но и девушку-ангела я встретил впервые, потому и боюсь ее потерять. Розовый плащ, точно язычок пламени, мелькает в толпе, поднимается по эскалатору. Обернется или нет? Нельзя же так жестоко обрывать уже различимую нить. Может быть чувствует, что я где-то рядом – обычно женщины это чувствуют; но почему так спешит? Быть может посчитала меня нерешительным дуралеем? Собственно, таков я и есть – законченный дурак, полный кретин. Ее улыбка была открытым посланием – призывом, а я, идиот, упустил момент, и потом упустил уйму времени, станций пять, уж точно. Но еще не поздно. Вот и вестибюль, я держусь в двух-трех метрах – ничтожное расстояние до счастья, но хоть убей, не могу его преодолеть.
Мы выходим на улицу почти одновременно; нас встречают ослепительные ручьи, оглушающий шум, многоголосье. Она быстро идет по тротуару, размахивая папкой; замечаю торопливый полуоборот, но вряд ли он адресован мне, скорее – просто беглый взгляд на свое отраженье в витрине. Она сворачивает за угол и мне надо во что бы то ни стало ее догнать – это последний шанс, но ноги не слушаются и сами собой замедляют шаг; еле доплелся до угла – она удаляется, вот-вот исчезнет, чтобы больше в моей жизни не появиться никогда.
Заколдованная
Психоневрологическая больница имени Кащенко находится в бывшем монастыре, стоящем на возвышении около Старого шоссе. Я не раз слышал от стариков, что в былые времена место для монастырей искали юродивые – они чувствуют выход энергии из земли, – и поэтому полезно постоять около монастырских стен, особенно в вечерние часы – заряжаешься этой энергией. Недаром же говорят: «Сходил в церковь – полегчало». Иногда я думал: может, неспроста и больницу для умалишенных устроили в монастыре, ведь считается, что душевнобольные потеряли связь с землей, у них нет своего энергетического поля.
С одной стороны к больнице подступает пустырь с новостройками, с другой – Даниловское кладбище. Может, и это не случайно? Больные видят нормальных людей, их тянет к ним, но дома от больницы отделяет озеро, а известно – «незаземленные» боятся воды и мало кто из них преодолевает этот страх. Зато переплывшие озеро становятся «заземленными» – такими, как все. А соседство кладбища без всяких намеков показывает, куда ведет более легкая дорога. Обо всем этом я думал по пути в больницу. Иногда такие мысли уводили меня еще дальше. Я, например, рассуждал: а что, если количество энергии в природе уравновешено; то есть, если в одном человеке ее больше, то в другом – соответственно должно быть меньше. И тогда получалось, что многие старухи, сидящие перед домами и осуждающие молодежь, живут как раз за счет рано умерших молодых людей. Я приходил и к еще более сомнительным выводам, пока ходил от трамвайной остановки на Старом шоссе в гору, к воротам монастыря. Чего только ни придет в голову за эти минуты! В самом деле, психика – туманная область, врачи и те не могут разобраться.
Каждое воскресенье к больничным корпусам тянутся цепочки людей с коробками и сумками. Вдоль аллей стоят старухи, продающие цветы, шитье и карамели. Между корпусов в полосатых халатах прогуливаются больные. Некоторые из легкобольных помогают обслуге около котельной и кухни.
Двенадцатое отделение, где лежала моя сестра, занимало самый дальний корпус. Здесь находились шизофреники-хроники. Во время свиданий посетителей впускали в холл; они располагались на стульях за столами и у подоконников, доставали из сумок еду, раскладывали на салфетках и газетах, открывали бутылки с соком и лимонадом. В палату вела дверь с застекленным окошком. Около двери стояла медсестра с квадратным ключом-ручкой, она по одному впускала больных в холл; остальные больные нетерпеливо вглядывались в окошко.
В двенадцатом отделении лежали разные больные: с плохой наследственностью, перенесшие тяжелые душевные травмы, старые девы, «заучившиеся» девчонки… Я помню бывшую балерину, которая помешалась оттого, что начала полнеть. К балерине ходил отец, семидесятилетний старик. Обычно она ничего не ела из того, что он приносил.
– Я тебя, папа, совсем не это просила принести, – заявляла и начинала танцевать по холлу, раздавая больным фрукты.
Время от времени она крутилась на одной ноге или застывала, раскинув руки, и улыбалась, потом подбегала к медсестре и восклицала:
– О-о! Ну когда же за мной придет машина? Мы поедем в аэропорт, да? Мы полетим в Париж, да?
– Да, полетим, – успокаивала ее медсестра. – Сядь, не прыгай!
Помню кассиршу, которая, как говорили врачи, помешалась после того, как от нее ушел муж. Кассирша выглядела спокойной женщиной с умным лицом. Ее муж был архитектором неудачником; он быстро всем загорался, но так же быстро ко всему охладевал и отчаивался. Много лет кассирша с ним няньчилась: то утешала, то подогревала его честолюбие, заражала желанием работать. В конце концов он по-настоящему увлекся каким-то проектом, получил за него премию, стал известным, купил машину и… начал наведываться к незамужней сестре кассирши, а позднее и совсем переехал к ней. Кассиршу изредка навещала соседка.
Больные меня любили – я подыгрывал им, видел их такими, какими они хотели быть. Когда балерина танцевала, я подходил к ней и хвалил ее «партию», и она краснела от удовольствия, а через минуту танцевала только «для меня»… Одна девушка всегда бросалась мне на шею и шептала:
– Наконец-то ты пришел! Я заждалась. Ты написал мой портрет?
Рыжей девушке я приносил конфеты, а однажды и сделал ее портрет цветными карандашами.
Наверно, я поступал неправильно, поддерживая иллюзорный мир сломленных людей. «Но, с другой стороны, – оправдывался я перед самим собой, – они очертили вокруг себя определенные круги и по-своему счастливы. Разбей эти круги – лишишь их единственной радости». Говорили, общаться с нервнобольными вредно – они забирают часть энергии здоровых людей, будто бы после больницы чувствуешь себя разбитым. Я этого не замечал, – наверно, от природы толстокожий. Но мне становилось грустно и больно за этих людей, лишенных радостей жизни.
Мы с сестрой обычно пристраивались в углу, около кадки с пальмой. Пока сестра ела, я расспрашивал ее о самочувствии, о подругах, о производственных мастерских, где они делали бумажные цветы, коробки, заколки.
Сестре исполнилось тридцать пять лет, половину из них она провела в больницах; из красивой девчушки превратилась в старуху с лицом землистого цвета; ее взгляд остекленел, руки мелко дрожали, она все время что-то бормотала, издавая нервный приглушенный смешок. Долго со мной она не разговаривала; съест пару яблок, односложно ответит на вопросы, потом вздохнет:
– Ну я пошла.
Я ставил в ее ящик фрукты и мы прощались.
…Как все началось, теперь трудно вспомнить. В нашей родне не было подобных больных и в кого она – непонятно. Она всегда отличалась странностями. Еще до войны, когда ей было всего четыре года, я заметил, что она не такая, как все. Мы жили тогда в подмосковном поселке на станции Правда. Отец и мать работали в Москве, отец – инженером, мать – чертежницей. Утренней электричкой они уезжали в город и возвращались поздно вечером; целыми днями мы с сестрой были предоставлены самим себе. Мне, как старшему, поручали подогревать обед, поливать грядки, следить за курами. Сестра во всем помогала мне. И вот в те дни я и заметил ее необычность.
Она всегда была очень тонкая, словно тростинка, с голубыми волосами – голубыми от природы! – и зеленоватыми, прозрачными, как льдинки, глазами. Но однажды я заметил, что она еще и какая-то прозрачная – от нее не было отражения в воде, и даже в солнечные дни не падало тени. Это заметил не я один. Бывало, вокруг нас соберутся ребята и смеются:
– Нинка-то прозрачная!
А она растерянно смотрит по сторонам, ищет рядом с собой темное пятнышко… И ходила она странно: под ней не приминалась трава, не оставалось следов на песке и снегу. Как и все ребята, летом она ходила босиком, но ее ноги всегда были незапыленными. Она не шла, а порхала над землей, невесомая, хрупкая. В дождь на нее не падали капли – казалось, вокруг нее защитное облако, невидимый стеклянный колпак, казалось, сама природа оберегает ее от напастей. Стоило ей дотронуться до бутонов цветов, как они сразу распускались, стоило поднять бабочку со сбитой пыльцой, как та улетала – она все оживляла, точно волшебница… Она ходила медленно, плавно и тихо, даже наша скрипучая дверь не скрипела, когда она открывала ее; казалось, она не входит, а влетает, и не уходит, а растворяется, словно невидимка.
Ночами она частенько исчезала из дома, выходила в сад, и к ней сразу слетались светляки. Случалось, ночами гуляла и по поселку, и тогда к ней сбегались собаки и кошки. Любили ее. Жалели, что ли?.. Говорили, у нее «лунная» болезнь, будто она родилась в полнолуние. Говорили также, что ее ночные прогулки – последствия жуткой грозы, в которую она попала в двухлетнем возрасте… В тот день она играла перед домом, а я на окраине поселка запускал змея. Гроза налетела внезапно; молнии сверкали одна за другой, от грохота дрожали дома… Я долго искал сестру – оказалось, она пряталась в собачьей будке.
Мать не верила ни в «лунатизм», ни в последствия грозы, и позднее говорила:
– Во всем виновата война.
Действительно, когда началась эвакуация, наш эшелон бомбили, и во время налетов сестра плакала и испуганно забивалась под лавку. За полтора месяца, которые эшелон тянулся на восток, товарные вагоны сильно продувались, и когда мы прибыли в Казань, у сестры обнаружили нефрозонефрит; ее распухшую положили в больницу. В больнице детей кормили плохо, но два раза в день давали по двадцать граммов молока-суфле. Наливали в баночки, которые ставят при простуде. Чуть ли не каждый день в палатах умирал ребенок. Женщины уже не плакали, только крестились – дети избавились от голодной смерти. Мать решила не сдаваться: не отходила от сестры по два-три дня подряд; с разрешения врача спала в коридоре. Ночами сестра бредила:
– Это не мама, а кто-то с рогами. Я боюсь.
Нужно было где-то достать продукты, и мать отправилась в деревни менять вещи: уложила в мешок перешитые и заштопанные кофты, туфли, покрывало. На другой день привезла масло, картошку, хлеб. Вскоре сестру выписали из больницы, но она была слаба и с кровати не вставала, а во сне все время плакала.
Мы жили в бывшем студенческом общежитии, в темных комнатушках, переделанных под жилье из туалета и ванной. На холодном кафельном полу стояла печурка «буржуйка» – единственная семейная ценность; для нее собирали щепки по всей окрестности. Отец и мать работали на эвакуированном оборонном заводе, и снова мы с сестрой подолгу оставались вдвоем. Я возвращался из школы в час дня, разогревал на печке какую-нибудь чечевичную похлебку или кулеш – мучную кашу, мы с сестрой обедали, потом я читал ей книжки. Как-то сестра захотела порисовать, и я дал ей бумагу и цветные карандаши. Она протянула тонкую руку и с мутным взглядом стала как-то странно ощупывать карандаши; потом вдруг заплакала:
– Я не знаю, где красный… И какие еще есть. Это только палочки!
Вернувшись с работы, мать завернула сестру в одеяло, и мы пошли к врачу, который жил на нашей улице.
За дверью с табличкой «Профессор Черников» слышались крики и плач. Дверь открыла домработница. Из комнаты доносилась визгливая, захлебывающаяся ругань женщины:
– …Нахал. Взрослые дети, а ты заводишь любовницу!
Из комнаты вылетел пожилой мужчина с красным раздраженным лицом.
– Что у вас? – бросил не глядя.
Мать попросила осмотреть сестру. Мужчина нехотя впустил нас в комнату. В кресле, обложенная подушками, сидела красивая старуха и изливала поток оскорблений. Она кричала и смотрела мимо нас, точно выискивая кого-то за нашими спинами.
– У нас пациентка, – остановил ее профессор, и старуха моментально осеклась.
Я часто встречал профессора и старуху на улице, вечерами они прогуливались под руку.
Осмотрев сестру, профессор сказал:
– Ее не долечили. Больницы переполнены, и всех выписывают раньше времени. Она сейчас не видит, но это должно пройти.
Он выписал направление в больницу. Прощаясь, мать отдала профессору последние деньги.
Позднее мать говорила:
– Несчастья, как правило, выбирают самых беззащитных. В нашей семье они выбрали Нинусю, самую чувствительную, ранимую.
Те военные годы в памяти остались как запыленные, темные картины: мрачные коридоры общежития, коптилки, сухари, жмых, клопы и мыши, худые усталые лица, похоронки, которые приносил почтальон, слезы, отчаяние… Помню, собирали крапиву и моллюсков на Казанке; из них мать варила щи «фантазии».
Как-то мы с сестрой были на реке – собирали створки мидий, и вдруг над нами низко пронесся коршун. Сестра испугалась, и, чтобы спрятаться под кустом тальника, не вбежала, а каким-то странным образом перенеслась на край обрыва, по которому все ребята обычно долго карабкались; я и моргнуть не успел, как она очутилась наверху, словно ее подбросили гигантские качели.
В другой раз сестра пожаловалась мне:
– Девочки из общежития забрали всю красоту. Увидят что-нибудь красивое и сразу кричат: «Мое!». А я не успеваю. Все красивое разобрали, а мне ничего не осталось.
В школу ходили далеко, классы не отапливались – занимались в пальто, при свечах, писали на оберточной бумаге, один учебник выдавали на троих. Единственная светлая картина того времени – спектакли в общежитии. Мы устраивали представления: из обрезков фанеры сколачивали декорации, разрисовывали их акварелью, делали костюмы из разного тряпья. Ставили «Золотой ключик», «Хижину дяди Тома». Лучше всех выступала сестра: пластичная и легкая, она отлично танцевала, свободно делала кольцо и шпагат, а главное, так искренне входила в роль, что и после спектакля подолгу не выходила из образа: идет, пританцовывая, по коридору общежития, напевает, улыбается, разговаривает с невидимыми героями. Бывало, неделями не возвращалась в реальность и по утрам рассказывала мне свои ослепительные сны, потом бежала за общежитие, втыкала палки в снег и танцевала среди «деревьев». За общежитием простирался пустырь, а она помнила станцию Правда и наш дом на опушке леса.
– Твоя сеструха-то того, с бзиком, – усмехались мои приятели и крутили согнутым пальцем у виска.
– Ерунда! – злился я, а у самого внутри начинало как-то щемить.
– Заколдованная девочка, – качали головами старухи, завидев сестру.
– Нина! Опустись на землю, – тревожно говорила мать.
– Мамочка! А зачем?
И правда, зачем? Если все живут на земле, ведь кто-то должен жить на небе. Как оскудела бы жизнь, если бы не было незаземленных людей.
После войны мы переехали на окраину Казани, в маленький поселок Аметьево, около железнодорожного разъезда. Летом в поселке работали в саду и огороде, сколачивали разные постройки, по воскресеньям ходили в лес за грибами. Пожалуй, то время было лучшим для нашей семьи. Конечно, не обходилось без размолвок – отец часто впадал в уныние и выпивал (на фронте погибли все его друзья), а мать постоянно нервничала из-за Нины. Зимой, когда завьюживало, становилось тоскливо; город был далеко, ни в театры, ни в кино не выбирались. Случалось, рвались провода, и по вечерам снова, как в общежитии, сидели при коптилках. Единственное, что в то время нас связывало с миром, – это радиоприемник.
Сестра все вечера напролет просиживала около нашего старого «Рекорда»; прислонится щекой к радиоприемнику, слушает музыку, улыбается своим красочным фантазиям, неотвязным плавающим мыслям… Музыка всегда была с ней: идет ли в школу, помогает ли матери на кухне или окучивает грядки – напевает, останавливается, замирает, прислушивается к звучащим мелодиям… Музыка околдовывала, парализовывала ее чувство реальности.
Иногда сестра представляла себя пианисткой, играющей в светлом зале, где танцевали принцы и Золушки. В такие минуты ее глаза стекленели, а пальцы бегали по невидимым клавишам. Но вот голос матери или отца разбивал прозрачную скорлупу, бумажный замок рушился, мелодия исчезала, и перед глазами – сеновал, кувшин из необожженной глины, огороженный угол с недозрелыми помидорами, поленья у печки…
Еще когда мы жили в общежитии, мать отвела сестру в музыкальную школу, у нее нашли редкие способности, но школа находилась в центре города, к тому же не было денег, чтобы платить за учебу, – сколько я помню, мы никогда не вылезали из долгов. Но мать не теряла надежды приобрести инструмент и найти на окраине учителя музыки.
Одно время у меня была морская раковина; я постоянно таскал ее в кармане, то и дело доставал, прислонял к уху и слушал отдаленный морской гул. Но однажды сестра сказала с таинственной улыбкой:
– А столбы слушать интереснее!..
– Какие столбы?
– Телеграфные. Прислонишь ухо, и можно послушать музыку. Побежали, послушаем… Там еще красивые тени!..
Она привела меня на пустырь за поселком, где к кирпичным заводам тянулся железнодорожный путь и телеграфные провода. Провода висели на старых столбах, потрескавшихся, сучковатых. Мы подбежали к первому столбу, прислонились с разных сторон и стали вслушиваться. Вначале я только смотрел на источенный короедом ствол и ничего не слышал, кроме монотонного гуденья, но постепенно заметил, что гудение меняется, становится то высоким, то низким. После каждого такого музыкального перехода, сестра выглядывала из-за столба и с серьезным видом шептала:
– Слышал, слышал?
Через некоторое время, когда у нас затекли руки и ноги, мы отошли от столбов и присели на насыпи. Я перебирал гальку, сестра пыталась воспроизвести мелодию, которую только что слышала; она пела знакомую песню, но мне казалось, я и на самом деле слышал ее.
– У этого столба я слушаю песни. Он песенник. Видишь открытый рот? – сестра кивнула на дупло. – А вон болтунишка, – она показала на второй столб, на котором сучки образовали смешную маску. – А за ним принцесса! Там вальсы!..
До позднего вечера мы бегали от столба к столбу. Сестра чаще всего останавливалась около «принцессы», а я облюбовал себе корявый белесый ствол – точь-в-точь голова старика. Стоило только прильнуть к «деду», как в ушах раздавалось что-то наподобие марша; я отчетливо различал высокие звуки трубы, удары барабана; звуки постепенно усиливались, и я прямо глох от грохота и уже видел, как мимо меня, сверкая медью, вышагивает оркестр. Я пристраивался к оркестрантам, вторил бравурным звукам… С того дня мне стало не до раковины, она померкла перед старым телеграфным столбом.
Сестра всегда была со странностями, которые делали ее и счастливой, и несчастной. Счастливой – потому, что она жила в выдуманном гармоничном мире, а несчастной – потому, что она не находила контакта с окружающей действительностью, никак не могла связать свой маленький мир с остальным огромным миром.
В школе до восьмого класса сестра была отличницей. После занятий ходила в районную библиотеку и читала Блока, Тургенева, Тютчева. Дома по радио слушала Рахманинова, Глинку, Чайковского, и… переносилась в прошлый век: носила длинные платья с рюшами и шляпы с лентами, музицировала, каталась в каретах, гуляла с подругами в парках под зонтами от солнца.
Девчонки считали ее воображалой, за незаземленность и замкнутость звали «цыпочка»; мальчишки были еще откровенней:
– Она чокнутая!
Чтобы оградить сестру от насмешек, мать часто посылала меня встречать ее из школы. Я должен был выполнять роль телохранителя, но по пути к дому сам не раз отчитывал сестру за «всякие штуки и закидоны». В то время поведение сестры мне казалось какой-то затянувшейся игрой, я всерьез думал, что она вполне может быть такой как все, просто не хочет. Где мне было понять, что есть невозможные вещи.
В восьмом классе сестра стала учиться хуже, и мать не раз вызывали в школу. Вначале говорили, что замечают у Нины какие-то отклонения от нормы, потом – что «ее странность переходит все границы»: на уроках рисует принцесс, сама с собой разговаривает, ни с того ни сего смеется, «все делает не как все, ведет себя ненормально, постоянно оригинальничает».
– Она немного необычная девочка, – защищала мать Нину. – Впечатлительная, хрупкая, тонкая. Потом, знаете, переломный возраст.
Дома мать возмущалась:
– Что они говорят! Странная, странная! Вся жизнь странная! А кто сейчас не странный?!
Все чаще я заставал сестру у окна – она подолгу смотрела на железнодорожную колею и таинственно улыбалась, точно знала разгадки всех тайн мира.
А во сне она по-прежнему плакала. Иногда слышались только всхлипывания, а иногда нас будили горькие рыданья. Мать с отцом никак не могли понять, что ей видится по ночам, какие обиды переполняют ее маленькое сердце. В родителей вселялась смутная тревога за будущее дочери, в ее ночных плачах они видели определенное предзнаменование, отголоски уготовленной судьбы.
Как-то мы около часа звали сестру ужинать. Мать отыскала ее в палисаднике – она рвала цветы и пряталась за букеты, ее глаза то вспыхивали, то угасали как светляки.
– Что ты делаешь? – поинтересовалась мать.
– Прячусь от плохих людей! И почему они все как-то смотрят на меня? Иди, мамочка, сюда, спрячемся вместе, и нас никто не увидит!
Чтобы успокоить дочь, мать подыграла ей; присела и, смахивая слезы, зашептала:
– Да, да… Нас никто не увидит.
– О боже, какие люди неискренние, мамочка… Все играют в жизни и говорят неправду, но мне правду говорят сны.
В тот день сестра сообщила мне, что «нельзя наступать на тени животных – они могут умереть».
Теперь-то странности сестры мне не кажутся странностями. Я даже подумываю – может быть, как раз такие, как она, нормальные, а мы все странные. Но тогда… Как-то сестра вполне осмысленно смотрит мне прямо в лицо и говорит тихо, еле шевеля губами:
– Посмотри, наша мебель на меня надвигается, – и прячется за дверь и съеживается.
Она и плакала-то не как все – без слез, только дергалась и всхлипывала.
В другой раз она сообщила, что «часы останавливаются, когда на них смотрю», потом ее хотел «клюнуть» кипящий чайник – она становилась все более незащищенной, потерянной. И постоянно нервничала: разговаривая со мной, все время дотрагивалась до моей руки – то ли снимала напряжение, то ли устанавливала контакт для большего взаимопонимания. Я отмахивался от сестры, считал, что ее слова – всего лишь нарочитое умничание, а поведение – дурацкая причуда, и покрикивал на нее, поучал, чем надо заниматься… только однажды заметил ее настоящую необычность.
Она часто выбегала в сад, собирала опавшие соцветия, танцевала среди деревьев или вставала на цыпочки и отчаянно махала руками, пытаясь взлететь. Иногда она подпрыгивала и каким-то странным образом ей удавалось зависнуть в воздухе. Я считал, что это происходит из-за ее невесомости. Но все-таки она всегда быстро опускалась, а в тот день я увидел, как она оторвалась от земли и – то ли мне померещилось, то ли на самом деле – некоторое время зигзагом, словно раненая птица, летела среди наших вишневых деревьев, и ее голубые волосы развевались за ней, как водоросли по течению. От страха я закричал. Крик, точно выстрел, сразил сестру, и она упала. Когда я подбежал, она лежала около изгороди и тяжело дышала. Спутанные волосы падали на тревожные, испуганные глаза.








