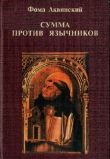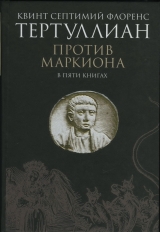
Текст книги "Против Маркиона в пяти книгах"
Автор книги: Квинт Тертуллиан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Против Маркиона
Книга I
Глава 1. О причине появления третьего сочинения против Маркиона. Варварство его родины в сопоставлении с его собственными дурными качествами
1. Отныне всё, что мы предприняли против Маркиона ранее, теряет свое значение. Оставив старое, мы приступаем к новому делу. Первое небольшое сочинение, написанное наспех, я впоследствии перечеркнул более обстоятельной работой. Ее, когда с нее еще не было сделано копий, я лишился из-за коварства человека, являвшегося тогда братом во Христе, но потом ставшего отступником. Он в высшей степени неточно, как уж у него это получилось, переписал кое-что оттуда и издал. 2.Появилась необходимость исправления внесенных им изменений. Это и побудило меня добавить некоторые вещи. Таким образом, это произведение – третье после того второго и отныне ставшее первым – должно начинаться со слов об аннулировании написанного мною прежде, чтобы никого не смутили внесенные в прежний текст изменения, обнаруживающиеся то там, то здесь. 3. В названии моря, которому быть Евксинским [60]60
Букв.: «гостеприимным» ( греч.). Речь идет о Черном море.
[Закрыть]не позволяет природа, содержится насмешка. Впрочем, ты не сочтешь Понт гостеприимным и из-за его географического положения: столь далеко он, словно бы стыдясь своего варварства, отделился от наших более человеколюбивых морей. [61]61
Своеобразный римский шовинизм. Ср.: «...на теплом Востоке и на Юге и народы более многочисленные, и дарования более яркие, в то время как все сарматы отличаются косным умом» ( Tert.De an., 25, 7).
[Закрыть]На его берегах обитают совершенно дикие племена, если только можно говорить об обитании про тех, которые проводят свой век в повозках. У них нет определенного жилища, жизнь их груба, их похоть обращена на кого попало и по большей части неприкрыта. Даже пытаясь сохранить ее в тайне, они, чтобы никто не вошел в соответствующий момент, указывают на нее подвешенными на ярмо колчанами. Они, стало быть, и оружия своего не стыдятся. Трупы родителей, изрубленные вместе с мясом скота, они поедают во время пира. Смерть тех, которые оказались не годными в пищу, считается у них проклятой. [62]62
Ср.: Hrd.I, 216.
[Закрыть]И женщины там лишены присущей их полу кротости, предписываемой стыдливостью: они оставляют неприкрытыми свои груди, прядут с помощью боевых топоров, предпочитают войну замужеству. [63]63
Malunt militare quam nubere. Маркион запрещал брак. Ср.: «Дидона... предпочла сгореть, чем выйти замуж (maluit... uri quam nubere)» (Tert.De ex., 13, 4) – осуждение второго брака.
[Закрыть]Суров там также и климат: день никогда не бывает безоблачным, солнце никогда не блещет, вместо воздуха – туман, целый год – зима, из ветров известен лишь аквилон. Жидкости возвращаются в прежнее состояние благодаря огню [64]64
liquores ignibus ( конъектура: nivibus) redeunt. Любопытно рассуждение Т. Д. Барнеса по поводу этих слов: «...подробно описан ледяной холод края. Но возникает несоответствие: наряду с ледяными потоками и снежными горами, там появляются огненные озера (fiery lakes). Издатели исправляют текст, заменяя огонь снегом. В действительности, Тертуллиана снова подвела его память» (Barnes Т. D.Tertullian: a historical and literary study. 2 ed. Oxford, 1985. P. 199). Далее английский ученый ссылается на Геродота (Hrd. IV 28). Следует заметить, что Тертуллиан, очевидно, не имел в виду «огненные озера», в которые превращаются жидкости: Геродот рассказывал о появлении грязи при разведении огня, и карфагенский автор здесь достаточно точно, хотя и лапидарно, передает мысль «отца истории».
[Закрыть], реки из-за льда перестают быть реками, горы завалены снегом, [65]65
реки <...>, горы <...> – характерное для древних писателей описание стужи. Ср.: «Смотри, как стоит ослепительно-белый от глубокого снега Соракт и леса уже не выдерживают бремени, и реки остановились из-за пронизывающего холода» (Ног. Od., I, 9,1-4).
[Закрыть]всё коченеет, всё цепенеет. Там нет ничего горячего, кроме дикости, той самой, что дала театральным сценам трагедийные сюжеты о Таврических жертвоприношениях [66]66
Ср.: Eur. Iph. Taur.
[Закрыть], колхидских любовных страстях [67]67
Ср.: Eur. Med.
[Закрыть]и о кавказских распятиях. [68]68
Ср.: Aes. Prom.
[Закрыть]4. Однако из всего варварского [69]69
Маркион родился в Синопе, приморском городе Пафлагонии, основанном греками в середине VIII в. до P. X. и вследствие этого едва ли могущий считаться «варварским»; до возникновения Синопы в этих местах, правда, нашли приют бежавшие от скифов «варвары»-киммерийцы (Hrd. IV, 12).
[Закрыть]и скорбного, что есть на Понте [70]70
Sed nihil tarn barbarum ас triste apud Pontum... На суровую природу Понта жаловался Овидий в «Скорбных элегиях (Tristia)» и «Письмах с Понта (Epistulae ex Ponto)», написанных в ссылке в Томах на берегу Черного моря. Эрнст Нёльдехен полагает, что, написав о варварском и скорбном Понте, Тертуллиан «оглядывался на Овидия» (Noldechen Е. Tertullian’s Erdkunde//Zeitschrift Kir kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben. 1886. 6. S. 320).
[Закрыть], ничто не может сравниться с тем фактом, что там родился Маркион. Он ужаснее скифа, более непостоянный, чем обитатель повозок, бесчеловечнее массагета, необузданнее амазонки, непрогляднее тумана, холоднее зимы, более ненадежный, чем лед, обманчивее Истра [71]71
Истром в древности назывался Дунай в нижнем течении.
[Закрыть], обрывистее Кавказа. Разве не так? Своим богохульством он терзает истинного Прометея – Всемогущего Бога. Да и зверей этого варварского края Маркион хуже. 5. Ибо какой бобр является таким же оскопителем плоти [72]72
Игра слов: castrator camis castor.
[Закрыть], каким является тот, кто отменил брак? Какая понтийская мышь столь же прожорлива, как тот, кто изгрыз Евангелия? Право же, ты, Понт Евксинский, произвел на свет зверя, более приемлемого для философов, чем для христиан. Ведь знаменитый собакопоклонник Диоген [73]73
Диоген, как и Маркион, происходил из Синопы.
[Закрыть], нося в полдень зажженный светильник, желал найти человека. [74]74
Ср.: Diog. VI, 41.
[Закрыть]Маркион же Бога, Которого нашел, утратил, потушив светильник своей веры. 6. Его ученики не будут отрицать, что раньше его вера совпадала с нашей; об этом свидетельствует его собственное сочинение. Так что уже на этом основании может быть осужден как еретик тот, кто, оставив то, что было прежде, избрал себе впоследствии то, чего раньше не было. Ведь настолько ересью будет считаться то, что вводится позднее, насколько истиной то, что было передано с самого начала. 7. Но этот выпад против еретиков, которых следует опровергать, даже и не рассматривая их учение, ибо они являются еретиками на основании их новоявленности, будет сделан в другой книжке. [75]75
Речь идет о сочинении: Tert. De praescr.
[Закрыть]Поскольку иногда все-таки приходится вступать с ними в прения (чтобы краткость повсюду мной используемого их опровержения на основании их новоявленности не приписывалась моей неуверенности), теперь я изложу прежде суть учения противника, дабы ни от кого не было скрыто то, о чем будет вестись основной спор.
Глава 2. Попытка объяснить возникновение Маркионовой ереси о двух богах
1. Понтиец вводит двух богов, словно две Симплигады [76]76
Симплигады (букв.: «Сталкивающиеся») – два небольших скалистых острова в Боспорском (Босфорском) проливе у входа в Понт Ев-ксинский. Согласно мифам, они то расходились, то сталкивались, сокрушая все, что проплывало между ними. После прохождения корабля аргонавтов Симплигады перестали быть опасными для мореплавателей. Тертуллиан неоднократно обращался к существовавшим в языческой мифологии образам, чтобы нагляднее выразить свою мысль. Он, например, призывает возненавидеть золото, погубившее праотцов (ср.: Исх. Гл. 32), говоря, что для христиан всегда, а особенно теперь, не «золотой» век, но «железный» (tempora Christianis semper, et nunc vel maxi-me, non auro sed ferro transiguntur) (Tert. De cult., II, 13, 6). Опровергая веру в переселение душ, Тертуллиан замечает, что даже Платон, которого можно было бы счесть Нестором из-за «меда красноречия» (ob mella facundiae) (ср.: II. I, 247-249), не помнит, кем был в прошлой жизни (Tert. De an., 31, 6). В том же трактате (50, 3) он, говоря об удивительных водоемах, в том числе об исцеляющем бассейне, бывшем в Иудее до Христа (Ин. 5:2-4), упоминает и Стигийские болота, удаляющие смерть, по словам поэта, но не спасшие сына Фетиды (Stygias paludes poeta tra-didit mortem diluentes, sed et Thetis filium planxit). Далее (Tert. De an., 50, 4) автор утверждает, что магия не прогоняет смерть и не обновляет жизнь: Медее было не дано омолодить человека, даже если она смогла проделать это с бараном (hoc enim ne Medeae quidem licuit in hominem, etsi licuit in vervecem) (ср.: Ου. Met., VII, 312-321). Подобным образом мифологические образы использовал один из самых яростных борцов с древнегреческой культурой Татиан, сравнивавший книги язычников с лабиринтами, а их читателей – с бочкой Данаид (Tat. 26).
[Закрыть]своего кораблекрушения: Того, бытие Которого он не мог отрицать, т. е. Творца, нашего Бога, и того, существование которого не сможет доказать, т. е. своего бога. Несчастный, Маркион впал в соблазн под влиянием < нелепого > предположения относительно простого отрывка из Господней проповеди, в которой людей, а не богов касаются те притчи о добром и дурном дереве, что доброе дерево не приносит дурные плоды, а дурное – добрые [77]77
Ср :.Мф.7: 17-18.
[Закрыть], т. е. добрая душа или вера не совершает плохих дел, а злая – добрых. 2. Ведь Маркион, не справившись, подобно многим нашим современникам, особенно еретикам, с вопросом о происхождении зла, утратив остроту чувств из-за чрезмерного любопытства, обнаружил, что Творец говорит Я – Тот, Кто творит бедствия . [78]78
См.: Ис. 45: 7.
[Закрыть]Поскольку Маркион уже считал Его виновником зла на основании других доводов, способных убедить любого порочного человека, постольку, истолковав дурное дерево, творящего дурные плоды, а именно зло, как Творца, он предположил, что должен существовать другой бог, соответствующий доброму дереву с добрыми плодами. 3. Найдя, стало быть, во Христе иное, так сказать, установление единственной и чистой доброты, отличной от той, что принадлежит Творцу, [79]79
Конъектура Кройманна (Аеш. Кгоушапп). В рукописи (Codex Montepessulanus 54, XI в.): «отличной от Творца». По поводу конъектур Кройманна сразу следует сказать, что многие из них весьма спорны. Поскольку перевод осуществлен все-таки по изданию Кройманна (выбранному для публикации в 1954 г.), его исправления вошли в текст, однако рукописные чтения в этих случаях приводятся в примечаниях.
[Закрыть]он легко сделал вывод о существовании нового неизвестного божества, открывшегося в его Христе, и малым количеством таких дрожжей всю глыбу веры безрассудно обратил в еретическую кислоту [80]80
Ср.: Мф. 13: 33; Лк. 13:20-21.
[Закрыть]. Виновником этого соблазна стал для него некий Кердон [81]81
О Кердоне см.: Iren. 1,27, 1; III, 4,3; Eus. Ill, 21; IV, 10-11.
[Закрыть]: двум [82]82
Конъектура Кройманна. В рукописи: «насколько легче слепцам предположить, что они разглядели двух богов».
[Закрыть]слепцам [83]83
Ср.: Мф. 15: 14; 23: 16,24; Лк. 6:39.
[Закрыть]было легче предположить, что они разглядели двух богов, ибо они не видели, как следует, одного. Ведь люди, страдающие воспалением глаз, видят много светильников вместо одного. Итак, одного Бога, существование Которого он был вынужден признать, Маркион низверг, обвинив Его в создании зла; другого, которого силился изобрести, он воздвиг, указывая на наличие блага. По каким пунктам он распределил эти две природы, мы покажем в самих наших возражениях.
Глава 3. О Боге как о величайшем, а потому единственном
1. Итак, основной наш спор, а потому и весь – это спор о числе: позволительно ли вводить двух богов по праву поэтов или живописцев, а теперь уже – и по праву еретиков. Но христианская истина объявила определенно: если Бог не один, Его нет, ибо мы придерживаемся более достойного мнения, что не существует то, что существует не так, как ему должно существовать. 2. А чтобы убедиться в том, что Богу должно быть одному, исследуй, что есть Бог, и обнаружишь, что дело обстоит именно так. Насколько это в человеческих силах, я даю такое определение Богу, которое признает совесть всех людей: Бог есть нечто величайшее, существующее в вечности [нерожденное, несотворенное, без начала, без конца], [84]84
В квадратные скобки заключаются слова, исключенные издателем как интерполяция.
[Закрыть]ведь это состояние следует приписать – вечности, которая являет Бога величайшим, поскольку она сама в Боге является таковой. Так же обстоят дела и с остальным, так что Бог – величайший и по форме, и по разуму, и по силе, и по власти. 3. Поскольку в этом вопросе все сходятся во мнении, – никто ведь не будет отрицать, что Бог есть нечто величайшее, кроме, разве что, того, кто сможет провозгласить Бога чем-то в высшей степени незначительным, чтобы отрицать Бога, отнимая у Него то, что является Божьим, – то каковым будет условие существования величайшего? 4. Конечно, это условие заключается в том, чтобы не было ничего равного ему, т. е. чтобы не существовало другого величайшего, ибо если оно будет существовать, то будет равным, а если будет равным, то уже не будет величайшим, поскольку нарушено условие и, так сказать, закон, который не позволяет, чтобы что-либо было равным величайшему. 5. Следовательно, необходимо, чтобы величайшее было единственным, а это будет возможно при отсутствии чего-либо равного ему, [85]85
Перестановка Кройманна. В рукописи: «Следовательно, необходимо, чтобы было единственным то. которое будет величайшим при отсутствии чего-либо равного ему».
[Закрыть]дабы оно оставалось величайшим. Следовательно, оно будет существовать не иначе, как в силу того, в силу чего оно должно существовать, т. е. в силу своей совершенной исключительности. Поэтому, так как Бог – величайший, наша истина верно возвестила: Бога, если Он не один, нет. Мы говорим «если Он не один, Его нет» не из-за сомнений в Его существовании, но потому что, будучи убежденными в этом, мы определяем Его как Того, Кем если бы Он не являлся, Он не был бы Богом!, а именно, величайшим]. [86]86
Интерполяция, по мнению Кройманна.
[Закрыть]А <если> [87]87
Вставка Кройманна.
[Закрыть]величайшее неизбежно бывает единственным, то и Бог будет единственным. Он будет Богом, лишь являясь величайшим; Он будет величайшим лишь при условии отсутствия равного Ему; у Него не будет равного, только если Он – единственный. 6. Действительно, какого бы другого бога ты ни вводил, ты никак не сможешь доказать, что он – бог, если не припишешь ему божественные свойства: вечность и превосходство над всем. Следовательно, каким образом будут существовать два величайших, когда быть таковыми значит не иметь равного, а отсутствие равного может быть лишь у одного, но никак не у двоих?
Глава 4. Ущербность аналогии с царями
1. Но на это любой возразит, что возможно существование и двух величайших, разделенных и обособленных в своих пределах, и непременно приведет в качестве примера земные царства, весьма многочисленные и, однако, величайшие каждое в своем краю, и будет считать, что человеческое всегда сопоставимо с божественным. Если принять во внимание это доказательство, что помешает, не говорю о третьем и четвертом боге, но ввести уже стольких богов, сколько есть царей у разных народов? 2. Речь идет о Боге, особым свойством Которого является невозможность сравнения с кем бы то ни было. Это возвестит сама природа, если не некий [88]88
Маркион не признавал Ветхий Завет, поэтому ссылка на пророка для него не была убедительной.
[Закрыть]Исаия или, скорее, Сам Бог, глаголющий через Исаию: Кому вы уподобите Меня? [89]89
См.: Ис. 40: 25.
[Закрыть]Человеческое еще можно сравнить с божественным; с Богом – нет: ведь одно – Бог, другое – то, что Ему принадлежит. 3. Кроме того, решив использовать пример царя как величайшего, посмотри, можешь ли ты им пользоваться. Ведь царь, хотя и возвышается на своем престоле до Бога, все-таки ниже Бога; будучи же сопоставленным с Богом, перестает быть величайшим, поскольку таковым становится Бог. Если дело обстоит так, то как ты можешь пользоваться для сравнения с Богом примером того, что исчезает еще на пути к сравнению? 4. Что же теперь, если даже у царей величайшее не может казаться многообразным, но одним и единственным, т. е. принадлежащим Тому, Кто, будучи Царем царей благодаря высоте Своего величия и подчинению остальных чинов, возвышается над ними всеми, словно господствующая вершина? 5. Но если цари [другого типа], [90]90
Интерполяция, по мнению Кройманна.
[Закрыть]которые, являясь единственными в своем роде и обладая полнотой власти, стоят во главе небольших, так сказать, <земных> царств, будут сходным образом [91]91
Вставка Кройманна.
[Закрыть]всесторонне сравниваться, чтобы стало ясно, кто из них выделяется своими богатствами и вооруженными силами, то высшее величие неизбежно будет отцежено одному, когда все остальные постепенно в процессе сравнения будут вытеснены и удалены с вершины величия. [92]92
Сказывается имперский, европоцентричный менталитет Тертуллиана, античного «глобалиста».
[Закрыть] 6. Даже если величайшее, находясь в разных местах, кажется различным, по своим силам, своей природе и своему положению оно является единственным. Поэтому, когда сравниваются два бога, как два [царя и два] [93]93
Интерполяция, по мнению Кройманна.
[Закрыть]величайших, обладание этим качеством неизбежно в результате сравнения отходит к одному из них, ибо величайшее становится таковым благодаря своей победе после поражения соперника, великого, однако – не величайшего, и оказывается единственным, достигнув из-за слабости соперника некоего уединения благодаря одиночеству, вызванному собственным превосходством. Это рассуждение неизбежно приводит к следующему заключению: или надо отрицать, что Бог – величайший, чего никто, находясь в здравом уме, себе не позволит, или не следует делать никого подобным Ему.
Глава 5. Невозможность существования двух одинаковых богов
1. На основании какого рассуждения были введены два величайших? Во-первых, я спрошу, почему не больше, если уж введены два, ибо следовало бы считать божественную сущность более богатой, если бы ей соответствовала численность. Более почтенен и благороден Валентин, [94]94
Речь идет о гностике Валентине.
[Закрыть]который, дерзнув сначала замыслить двух, Бифона и Сиге [95]95
До сих пор мы, кажется, рассуждали так, как если бы Маркион вводил двух равных богов. Ведь когда мы утверждали, что Бога, как нечто величайшее, следует считать единственным, лишая Его возможности быть кому бы то ни было равным, мы рассуждали об этих богах словно о двух равных. Тем не менее, уча, что по самому характеру величайшего они не могут быть равными, мы вполне доказали, что их не может быть двое. Впрочем, мы осведомлены, что Маркион вводит неравных богов: одного – судью, свирепого, воинственного, другого—кроткого, миролюбивого, исключительно хорошего и наидобрейшего. 2. Рассмотрим также и эту гипотезу: позволяет ли, по крайней мере, различие сосуществовать двоим богам, если не позволяет равенство. Что же, и здесь нам будет покровительствовать тот же самый критерий величайшего, поскольку он определяет все состояние божественности.
[Закрыть], затем выпустил стаю божеств, насчитывающую до тридцати зоновых порождений [96]96
Валентин учил о Плироме («Полноте») Божества, состоящей из тридцати эонов (духовных сущностей), одни из которых порождали другие.
[Закрыть], словно помет Энеевой свиньи. [97]97
Ср.: Verg. Aen., VIII. 43 сл.
[Закрыть]
2. Любое рассуждение, которое не допускает существования многих величайших, не допускает существования и двух, поскольку <и> [98]98
Вставка Кройманна.
[Закрыть]два многочисленнее <одного>; ведь после одного следует множественность. Рассуждение, которое смогло допустить двух, смогло допустить и многих, ибо и два становятся множеством, поскольку утрачивается единственность. Вообще, верить во многих богов нам не позволяет сила этого рассуждения, устанавливающего границу, в соответствии с которой известное правило утверждает бытие одного Бога, а не двух. Из этого правила следует, чтобы Бог был таким, к Которому как к величайшему никто не приравнивался; а Тот, к Которому никто не приравнивается, должен быть единственным. 3. Теперь зададимся вопросом, каким делом, какой пользой может быть оправдано существование двух величайших, двух одинаковых богов? Какое значение имеет количество, если два, будучи одинаковыми, не отличаются от одного? Ведь является одним то, что тождественно в двух. Даже если бы существовало несколько одинаковых, их общее количество совпадало бы с одним, так как они ничем между собой не отличаются, будучи одинаковыми. 4. Далее, если ни один из двух не отличается от другого, так как оба они – величайшие, поскольку они – боги, то ни один не превосходит другого, и отсутствует всякий смысл в их числе, так как ни один из них не обладает превосходством. Множественность же божественности должна была бы иметь очень хорошее обоснование, так как ее почитание было бы поставлено под сомнение. Вот, мне, взирающему на двух богов, столь же одинаковых, сколь величайших, что следует делать? 5. Если бы я чтил обоих, я опасался бы, что избыточное служение было бы сочтено скорее суеверием, нежели религией, ибо богов совершенно одинаковых, таких, что они оба пребывают в каждом из двух, я мог бы умилостивить и в одном, приводя как свидетельство их равенства и единства сам этот факт, что я оказываю почет одному в другом, поскольку в одном их для меня два. Если бы я чтил одного из двух, то думал бы, как бы не показалось, что я пытаюсь высмеять суетность множественности, оказавшейся излишней при отсутствии различия. Это значит, что я счел бы более безопасным не чтить ни того, ни другого, чем одного с сомнением или обоих необоснованно.
Глава 6. Критика утверждения Маркиона о существовании двух неравных богов
хватая рукой и удерживая мысль его, не отрицающего божественность Творца, я с полным правом представлю в качестве возражения тот факт, что нет места этому различию между теми, которых Маркион не может сделать различными, признав их в равной степени богами, не потому, что и людям невозможно быть совершенно различными под одним и тем же наименованием «люди», но потому, что Бог не должен будет называться Богом и в Него не нужно будет верить как в Бога, если Он не будет величайшим. 3. Следовательно, поскольку Маркион вынужден признать величайшим Того, Чью божественность он не может отрицать, то невозможно допустить, чтобы величайшему он приписывал некое умаление, из-за которого это величайшее оказалось бы подчиненным другому величайшему. Ведь величайшее перестает быть таковым, если будет подчиненным. Не подобает Богу переставать быть Тем, Кем Он является по Своему положению, т. е. величайшим. Ведь и в том лучшем боге величайшее может оказаться под угрозой, если оно может обесцениваться в Творце. Таким образом, когда два бога провозглашаются двумя величайшими, необходимо, чтобы ни один из них не был больше или меньше другого, чтобы ни один не был выше или ниже другого. Отрицай, что является богом тот, которого ты назовешь худшим; отрицай, что является величайшим тот, которого ты считаешь меньшим. Признав же того и другого богами, ты признал существование двух величайших. Ты ничего не отнимешь у одного и не припишешь другому. Признав божественность, ты отверг различие.
Глава7. Абсолютное величие принадлежит не имени, но сущности. Маркион не в состоянии доказать бытие ни двух разных, ни двух одинаковых богов
прочим личностям, ибо написано: Бог богов встал в собрании богов, среди богов будет вершить суд [99]99
См.: Пс. 82/81: 1.
[Закрыть]и Я сказал: вы – боги ; [100]100
См.: Пс. 82/81: 6.
[Закрыть]однако, скажешь ты, на том основании, что они называются богами, они не могут претендовать на звание величайшего, как не может претендовать на него и Творец. 2. Я готов ответить и глупцу, не принявшему во внимание, что с таким же успехом это может быть обращено и против Маркионова бога: тот факт, что он назван богом, не доказывает, однако, что он является величайшим, как не являются таковыми ангелы или люди Творца. [101]101
О которых идет речь, согласно Тертуллиану, в процитированных им в этой главе библейских отрывках.
[Закрыть]Если общность имен создает предвзятое мнение о статусе, сколько негодных рабов – Александров, Дариев и Олофернов – позорят царские имена? И, однако, изза этого у царей не отнимается то, чем они являются. Ведь и сами идолы язычников – боги для толпы; однако, никто не является богом из-за того, что так называется. 3. Таким образом, в отношении Творца я закрепляю атрибут величайшего не за произнесенным или написанным именем Бога, но за самой сущностью, к которой относится это имя. Находя ее одну нерожденной, несотворенной, единственной вечной создательницей всего, я приписываю и закрепляю абсолютное величие не за именем ее, но за положением, не за названием, но за состоянием. 4. А поскольку имя Бога уже получила та сущность, которой я приписываю абсолютное величие, ты полагаешь, что я приписываю его имени, ибо использование имени мне необходимо для того, чтобы показать, какой сущности я это приписываю, а именно той, из которой состоит Тот, Кто называется Богом. Но [102]102
Конъектура Кройманна. В рукописи: «Кто называется Богом, и».
[Закрыть]Он считается величайшим по сущности, а не по имени. Да и Маркион, отстаивая этот атрибут для своего бога, делает так в соответствии с его положением, а не с именем. 5. Следовательно, мы утверждаем, что величайшее, которое мы приписываем Богу по закону сущности, а не по жребию имени, должно быть в равной мере у обоих, состоящих из той сущности, которая [103]103
Конъектура Кройманна. В рукописи: «<благодаря> которой».
[Закрыть]называется Богом; ведь поскольку они называются богами, т. е. величайшими, благодаря нерожденной и вечной, а, следовательно, могучей и величайшей сущности, постольку величайшее не может считаться меньше или ниже другого величайшего. 6. Если счастье, возвышенность, безупречность величайшего будут присущи Маркионову богу, то будут равным образом присущи и нашему; если всего этого не будет в нашем, то также не будет и в Маркионовом. Стало быть, не будут два величайших ни равными, ибо это запрещает уже установленный принцип величайшего, не допускающий [104]104
Конъектура Кройманна. В рукописи: «принцип величайшего, не допускающего сравнения».
[Закрыть]сравнения, ни неравными, ибо это вступает в противоречие с другим принципом величайшего, не допускающего его уменьшения. 7. Ты застрял, Маркион, среди зыбей своего Понта. С обеих сторон на тебя накатывают волны истины. Ты не можешь доказать существования ни равных, ни неравных богов. Ведь их не двое. Что касается собственно спора о числе, то, хотя его тема о двух богах не исчерпана, мы пока ограничим его [105]105
Конъектура Кройманна. В рукописи: «ее (тему)».
[Закрыть]этими границами, между которыми сойдемся на бой уже относительно отдельных особенностей Маркионова бога.
Глава 8. Новый бог не может быть истинным
1. Во-первых, маркиониты воздвигают свою тупость на высокомерии, ибо изобретают нового бога, словно мы стыдимся старого. И дети делаются заносчивыми из-за новых башмаков, но, обутые старым педагогом, бывают затем биты за суетную славу. Итак, я, услышав о новом боге, пребывавшем неизвестным и неслыханным в старом мире и в старом веке, под властью старого Бога, о боге, которого, бывшего столько столетий никем и являющегося древним лишь в силу древности незнания о нем, лишь теперь открыл людям некий Иисус Христос, сам [106]106
Со строчной буквы в этом тексте пишутся слова бог, он и др., относящиеся к богу и Христу Маркиона.
[Закрыть]под старыми именами оказавшийся новым, возношу благодарение этому честолюбию маркионитов, намереваясь впредь с его неоценимой помощью обличить сию ересь, заключающуюся в провозглашении нового божества. 2. Это будет то самое стремление к нововведениям, которое порождало богов у язычников всё под новым и новым именем при каждом апофеозе. Каков новый бог, если не ложный? Даже древность Сатурна, кажущаяся ныне величайшей, не докажет его божественность, ибо и его некогда извлекла из небытия тяга к новому, когда впервые произошло его обожествление. Ведь живая и подлинная божественность определяется не новизной и не стариной, но своей истинностью. 3. Вечность не имеет времени, ибо сама представляет собой все время. То, что производит нечто, не в состоянии испытывать его воздействие; лишено возраста то, что не может родиться. Бога, если он древний, не будет существовать впоследствии; если он новый, его не было ранее. Новизна свидетельствует о начале, древность угрожает концом. Бог столь же чужд началу и концу, сколь и времени, посреднику и разделителю начала и конца.
Глава 9. Бог не мог быть неизвестным. Неизвестное можно испытывать так же, как и известное, если у них одинаковое образующее их сущность состояние
1. Я знаю, в каком смысле они выставляют своего бога как нового; в том смысле, конечно, что он недавно был узнан. Но я хочу отвергнуть и саму новизну познания, поражающую грубые души, и саму естественную привлекательность нового, а затем уже завязать полемику о неизвестном боге. Ведь того, которого они представляют как нового в отношении людского знания о нем, они показывают как неизвестного до момента узнавания. 2. Давай держаться точно установленных границ! [107]107
Ср. выше: Tert. Adv. Marc., I, 7, 7.
[Закрыть]Докажи, что Бог мог быть неизвестным. Я, конечно, нахожу алтари, поставленные [108]108
Тертуллиан использует причастие prostitutas.
[Закрыть]неизвестным богам [109]109
Павсаний пишет, что у афинян есть гавань в Фалере, при которой, кроме святилища Деметры, храмов Афины и Зевса, имеются жертвенники богам и героям, называемым «неведомыми» ( Paus. 1,1,4). Апостол Павел одобрительно отзывался о жертвеннике «неведомому богу»: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны; ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано “неведомому богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17: 22-23). Тертуллиан упоминает этот алтарь не только в Adv. Маге, но и в Ad nat., где он, сказав, что Варрон разделил римских богов на определенных (certi), неопределенных (incerti) и выбранных (electi), удиапяется, зачем им понадобились неопределенные, если есть определенные. «Может быть, – с сарказмом предполагает апологет, – они пожелали воспользоваться аттической глупостью, ведь у афинян есть жертвенник “неведомым богам”» ( Tert. Ad nat., II, 9, 3-4).
[Закрыть], но это – аттическое идолопоклонство. Нахожу также алтари неопределенным богам [110]110
Согласно Авлу Геллию, неопределенным богам приносились жертвы после природных катаклизмов, в том случае, когда понтифики не знали, какой конкретный бог был оскорблен и должен был быть умилостивлен (Aul. Gell. II, 28).
[Закрыть], но это – римское суеверие. Далее, неопределенные боги мало известны, поскольку о них мало определенной информации, и из-за этой неопределенности их вообще можно считать неизвестными. Какое имя из двух вырежем на алтаре Маркионова бога? Думаю, оба: одно – для неопределенного теперь и другое – для неизвестного ранее. Ибо как неизвестным его сделал [111]111
Речь идет о том, что всё, в том числе известность и определенность, познается в сравнении.
[Закрыть]известный Бог, Творец, так и неопределенным – Бог определенный. 3. Но я не уклонюсь от темы, сказав: если бог был неизвестным и прятался, то его должна была скрывать тайная область, которая сама, конечно, новая и неизвестная и, подобно ему, еще и теперь неопределенная. Определенно [112]112
В оригинале игра слов: «...incerta, certe...».
[Закрыть], она – огромна и, несомненно, больше того, которого скрывает. 4. Но я сделаю краткое предуведомление и как можно полнее буду излагать свою мысль, утверждая, что бог не мог быть неизвестным из-за своего величия и не должен был быть таковым из-за своей благости, особенно как превосходящий в том и другом качестве нашего Творца. Но так как я замечаю, что в некоторых отношениях доказательство бытия всякого нового и неизвестного ранее бога должно осуществляться в соответствии с образом Творца, то я буду должен сначала заявить, что мы так поступаем обоснованно, чтобы я мог с большей уверенностью ссылаться на этот довод. 5. Прежде всего, скажи, как получается, что ты, признавая Творца Богом и исповедуя Его как первого в познании людей, не понимаешь, что второй бог должен у тебя исследоваться теми же способами, по которым ты уже научился узнавать Бога в первом? Всё более раннее предоставляет критерии последующему. 6. Перед нами теперь два бога: неизвестный и известный. Об известном расспросы излишни: не подлежит сомнению, что Он существует, ибо Он не был бы известен, если бы не существовал. О неизвестном предстоит спор: ведь его может и не быть, ибо, если бы он существовал, был бы известным. Итак, то, что под вопросом, пока оно неизвестно, является неопределенным, пока оно под вопросом, и пока оно неопределенно, нет уверенности в его существовании. У тебя есть Бог определенный, ибо известный, и неопределенный, ибо неизвестный. 7. Если это так, не покажется ли тебе справедливым, чтобы неопределенное проверялось по тому же образу, подобию и принципу, по которому проверяется определенное? Впрочем, если к этому твоему делу, самому до сих пор неопределенному, привлечь также и доказательства из неопределенного, сплетется ряд вопросов при рассмотрении этих доказательств, равным образом неопределенных, полагаться на которые будет опасно из-за их неопределенности, и это приведет к тем бесконечным спорам, которые не одобряет апостол. [113]113
...indeterminabiles quaestiones, quas apostolus non amat. Ср.: 1 Т им. 1: 4. Тертуллиан неоднократно ссылается на это место из Первого послания Тимофею. Ср.: infinitas enim quaestiones apostolus prohibet «Ведь бесконечные прения запрещает апостол» (Tert. De an., 2, 7).
[Закрыть]И если из верных, несомненных и абсолютных частей правила веры привлечь доказательства, то, используя их, можно будет составить предварительное мнение о неопределенном, сомнительном и запутанном. 8. Конечно, то неопределенное, в котором обнаруживается отличие состояния, не может, по всей видимости, быть сопоставленным с определенным как освобожденное от дальнейшего сравнения из-за отличия состояния, образующего его сущность. 9. Когда же перед нами оказываются два бога, образующее их сущность состояние у них будет общим. Ведь они оба являются тем, чем является Бог: нерожденные, несотворенные, вечные. Это будет образующим их сущность состоянием. Остальное пусть будет на совести Маркиона, если он счел это отличным от свойств Творца. Ведь, будучи вторичными, оно <не> [114]114
Вставка Кройманна.
[Закрыть]учитывается при рассуждении и вообще непредставимо, если известно об образующем сущность состоянии. Далее, известно, что оба они – боги: следовательно, когда в соответствии с их состоянием, о котором известно, что оно у них одинаковое, подвергается проверке что-либо неопределенное в одном из них, 10.то это неопределенное должно будет испытываться так же, как испытывается то определенное, с которым его роднит образующее сущность состояние, чтобы и при проверке они стояли рядом. После этого рассуждения я с уверенностью буду утверждать, что не является богом тот, кто сегодня неопределенен, ибо ранее он был неизвестным, так как очевидность того, что Он есть, проистекает именно из того факта, что Он никогда не был неизвестным, [а поэтому и не неопределенным!. [115]115
Интерполяция, по мнению Кройманна.
[Закрыть]
Глава 10. Творец был известен с самого начала мира, оНем свидетельствует человеческая душа
1. Ведь с самого начала мира его Творец был узнан вместе с сотворенными Им вещами, поскольку они были произведены для того, чтобы Бог был познан. Ведь, хотя живший достаточно поздно Моисей и кажется первым, кто узнал Бога вселенной в храме своих скрижалей, родословие познания не будет из-за этого вестись лишь от Пятикнижия, так как все написанное Моисеем не вводит знания о Творце, но лишь с самого начала повествует о них так, что они должны быть отнесенными к раю и Адаму, а не к Египту и Моисею. 2. Наконец, большая часть человеческого рода, не имеющая представления даже об имени Моисея, не говоря уже о Писании, знает, однако, Моисеева Бога. Несмотря на то, что идолопоклонство затемнило мир своим столь великим могуществом, язычники, выделяя, называют Его как бы Его собственным именем «Бог» и «Бог богов» и говорят: «Если Бог даст», «как Богу угодно» и «поручаю Богу». [116]116
Ср.: Tert. De test., 2.
[Закрыть]Смотри, не знают ли они Того, о Ком свидетельствуют, что Он все может. И этим знанием они не обязаны никаким Моисеевым книгам. 3. Душа была прежде пророчества. Ведь сознание души – от начала дар Божий. Она – одна и та же, а не разная и у египтян, и у сирийев, и у понтийцев. [117]117
Намек на Маркиона.
[Закрыть][Ибо Бога иудеев называют Богом души.] [118]118
Интерполяция, по мнению Кройманна.
[Закрыть]О, варвар-еретик, не делай Авраама старшим, чем мир! И если Бог был бы Создателем одной семьи, Он, однако, не был бы более поздним, чем твой, будучи известным ранее него даже понтийцам. 4. Итак, пусть <твой бог> примет [119]119
Конъектура Кройманна. В рукописи: «Прими».
[Закрыть]от своего Предшественника мерило: неопределенный – от определенного, непознанный – от познанного. Бог никогда не будет скрываться, никогда не будет отсутствовать; Он всегда будет воспринимаемым, слышимым и даже видимым таким образом, каким пожелает. Бог имеет свидетельства – всё то, чем мы являемся и в чем живем. Таким образом, поскольку Он не пребывает неизвестным, доказывается и бытие Его, и Его единственность, в то время как существование другого доселе сложно подтвердить.
Глава 11. Бог Маркиона, ничего не создавший и не обеспечивший таким образом себе известность, не может считаться богом
1. «И это естественно», – говорят маркиониты. Ведь кто своим известен не так, как чужим? [120]120
Возможно иное понимание текста: «Ведь кто благодаря своим свойствам известен не так, как благодаря чужим?»
[Закрыть]Никто. Я признаю это. Но каким образом что-либо может быть чуждым богу, для которого ничто не было бы таковым, если бы он существовал, ибо свойство Бога заключается в том, чтобы всё принадлежало Ему и к Нему относилось? В противном случае нам пришлось бы сразу спросить: какое ему дело до чужого? Об этом речь пойдет подробнее в своем месте. 2. Теперь же достаточно заметить, что никем оказывается тот, которому ничего не оказывается принадлежащим. Ведь как Творец является Богом, и Богом несомненным, потому, что всё – Его и нет ничего чуждого Ему, так и иной потому не Бог, что всё – не его, и поэто му– чуждо ему. 3.Наконец, если вселенная принадлежит Творцу, то я уже не вижу места для другого бога. Всё полно и занято своим Творцом. Если какое-нибудь пространство в творении свободно для божества [121]121
Т. е. в этом пространстве нет этого божества.
[Закрыть], то, конечно, оно будет свободно для ложного божества. Истина становится очевидной благодаря лжи. Почему столь великое множество идолов нигде не может принять Маркионова бога? 4. Итак, я требую, чтобы <его> [122]122
Вставка Кройманна.
[Закрыть]бог, как и Творец, был постигнут и из проявлений его неких собственных вселенной, человека и века, поскольку даже заблуждение мира сего потому предположило богов, которых порою признают людьми, что те или иные вещи кажутся заготовленным каждым из них для пользы и удобства в жизни. [123]123
Здесь Тертуллиан излагает евгемеровский взгляд на богов.
[Закрыть]5. Из-за того, что это делал Творец, считается также божественным устанавливать и показывать нечто целесообразное и необходимое для человеческих дел. У ложной божественности появился авторитет именно по той причине, по которой ранее он возник у истинной: бог Маркиона должен был произвести, по крайней мере, одну маленькую чину [124]124
Cicercula. Чина – Lathyrus Cicera, травянистое растение семейства бобовых.
[Закрыть], чтобы быть названным неким новым Триптолемом. [125]125
Триптолем – сын легендарного царя Келея (или Элевсина), получивший от Деметры запряженную крылатыми драконами/ змеями колесницу ( Ps.-Apoll. I, 5, 2; ср.: Hyg. 147; Ον. Met., V, 642-649), чтобы он распространял злаки по всему миру. Считалось, что Триптолем первым стал пахать, сеять и получать урожай (Ov. Fast., IV, 559-560).
[Закрыть] 6. Или дай достойное бога объяснение, почему он ничего не сотворил, если существует, ибо он сотворил бы, если бы существовал, – на основании того принятого ранее положения, на основании которого существование нашего Бога становится очевидным не иначе, как из того факта, что Он всё это основал.