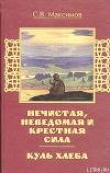Текст книги "Война: ускоренная жизнь"
Автор книги: Константин Сомов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц)
Война шла, и со страшным, смертельным «скрипом» все же близилась к своему завершению. Понятие неотвратимости нашего праздника, когда от просто «выжить и выстоять» протянулся мостик к «победоносно завершить» порождало новые, солидно-официальные веяния, которые выражались в том числе даже и в погребальном деле.
Приказом № 023 от 4 февраля 1944 года о введении в действие «Наставления по учету личного состава Красной армии (в военное время)» регулировался порядок погребения бойцов и офицеров Красной армии. Трупы офицеров от командира полка и выше должны были вывозить в армейский тыл и хоронить в отдельных могилах в деревянных гробах, окрашенных краской.
«Личный состав почти весь уничтожен»Как уже говорилось в этом повествовании, война не знала крайностей и коснулась всех, с обеих сторон с оружием в руках шли в бой как дети крестьян, так и сыновья политиков и маршалов. А бои эти были ожесточенными до самых последних дней мирового побоища, и каждый из этих дней собирал свой страшный урожай.
Сыну командующего 71-й армией генерал-полковника Александра Смирнова 19-летнему лейтенанту Владлену Смирнову суждено было погибнуть 27 апреля 1945 года у немецкой деревни Шлодиен. Переписку отца молоденького лейтенанта-взводного с командиром полка, где воевал и погиб Владлен, а также генерал-майором Шавельским (начальником управления РККА по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава. – Авт.) хочется привести здесь без сокращения и без всяких комментариев.
Письмо командующего 71-й армией генерал-полковника Смирнова.
«Командиру полка подполковнику т. Ловягину.
Я получил извещение о том, что мой сын, лейтенант Смирнов В.А., в бою с немецкими захватчиками 27 апреля 1945 года был убит.
Прошу подробно сообщить о последних часах жизни сына, обязательно правдиво указав: где и при каких обстоятельствах он погиб, оказывалась ли ему медпомощь, какие просьбы были высказаны им перед смертью и точное место его захоронения.
Личные вещи сына, за исключением фотографий, писем и его личных документов, прошу не высылать, а раздать его товарищам в полку.
О гибели сына моей жене не сообщать – я это сделаю сам».
* * *
«Командующему 71-й армией Герою Советского Союза генерал-полковнику Смирнову А.И.
Согласно Вашему распоряжению сообщаю подробно обстоятельства последнего боя, последних часов жизни и гибели Вашего сына, командира стрелкового взвода 5-й роты 2-го батальона вверенного мне полка лейтенанта Смирнова Владлена Александровича.
Ваш сын, при первой атаке немцев подбивший фаустпатроном немецкий танк, был при этом легко ранен автоматной очередью в голову и правую руку. Его перевязали бойцы, он остался в траншее, от эвакуации на БМП (батальонный медицинский пункт. – Авт.) он отказался и, несмотря на потерю крови, до конца остался в бою.
При повторных атаках немцев на участке 2-го батальона сложилось критическое положение. В строю осталось менее 30 человек, из 7 офицеров 5 были убиты или тяжело ранены. Принявший на себя командование батальоном лейтенант Журкин через связного доложил мне, что люди стоят насмерть, но немцы продолжают атаковать превосходящими силами с бронетранспортерами, станковые пулеметы разбиты, гранаты на исходе, он боялся, что не выдержит, и просил немедленной поддержки. Я послал в батальон агитатора полка, станковый пулемет с расчетом (из 3 человек), ящики с патронами и 15 противотанковых гранат. Другой действенной помощи я оказать батальону не мог.
При четвертой или пятой атаке немецких танков лейтенант Смирнов, приняв командование ротой, заметил, что фаустпатронов осталось мало, бросился в отсеченную вторую траншею, где хранился ротный запас фаустпатронов. С тремя снарядами на плече он бегом возвращался по ходу сообщения к пулеметной площадке взвода, откуда сержант Жуганов, рядовые Мышко и Тишин изготовились к отражению атаки немцев.
В тот момент, когда он выскочил из-за угла в траншею, сержант Жуганов произвел с бруствера пуск фаустпатрона по немецкому бронетранспортеру, при этом огненный луч на расстоянии нескольких метров поразил Вашего сына в область живота.
Он прожил после этого всего две-три минуты, медицинская помощь ему не оказывалась, ничего поделать было нельзя, так как огненным лучом был пережжен позвоночник. По словам рядового Крячко, подбежавшего к нему, он тихо повторял одни и те же слова: «мама» или «мамочка» и «прости меня». Никаких просьб перед смертью лейтенантом Смирновым высказано не было.
Как мне стало известно, в своем донесении от 30 апреля нач. политотдела дивизии обвинил меня, что второй батальон в трудную минуту был оставлен без поддержки. Это не соответствует действительности. Перед тем мною по рации был получен приказ командира дивизии и боевое ориентирование. Кодом было сообщено, что немцы смяли правый фланг полка и прорвались в глубину боевых порядков, что немецкие самоходки подожгли трехэтажное здание, где размещалось свыше сотни раненых бойцов и офицеров дивизии. В бинокль я сам видел, как здание горело, а раненые выбрасывались из окон. Командир дивизии приказал бросить весь имеющийся у меня резерв в район медсанбата, чтобы защитить раненых и не дать немцам прорваться дальше в глубину нашей обороны, но к тому времени полковые резервы были полностью исчерпаны.
В действиях серж. Жуганова, подбившего фаустпатроном немецкий бронетранспортер, как мною, так и назначенной командиром дивизии проверкой и расследованием никакой вины не найдено. Возможность террористических намерений с его стороны в отношении Вашего сына офицер контрразведки Смерш полка капитан Филимонов полностью исключает.
27 апреля с.г. Ваш сын был похоронен в районе городского дворика дер. Шлодиен, восточнее города Менха-узель, в индивидуальной могиле с отданием воинских почестей. Место было выбрано наилучшее – под деревом, на возвышении. Могила по периметру аккуратно задернована. Установлен временный надмогильник – пирамида с надписью: «Лейтенант Смирнов Владлен Александрович 23.12.25 г. – 27.04.45 г». (Специально сделанная фотография после усадки могилы прилагается.)
В дальнейшем надгробие на могиле лейтенанта Смирнова будет улучшено.
За отличные боевые действия и самоотверженность, проявленные в бою 27 апреля с.г., Ваш сын был посмертно представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени. 2 мая с.г. это представление приказом командира корпуса № 028-Н было реализовано. Орденский знак (№ 340 069) нами получен и вместе с временным удостоверением № Е 614 833 высылается Вам для постоянного хранения. Одновременно высылается и временное удостоверение № Е 613 901 к медали «За отвагу», которой Ваш сын был награжден 19 марта с.г.
Личные вещи сына, не являющиеся табельным имуществом, как-то: гармошка губная трофейная, свитер шерстяной домашней вязки, часы трофейные офицерские «Сильвана», шарф шерстяной, нож финский самодельный, перчатки кожаные, подшлемник шерстяной домашней вязки находятся на складе хозчасти полка. Выполнить Ваше приказание и раздать их товарищам Вашего сына в батальоне не представляется возможным, так как в бою 27 апреля личный состав батальона почти весь был уничтожен, оставшиеся в живых 6 человек находятся в госпиталях. По этому вопросу ожидаю Вашего нового распоряжения.
29 писем и 7 фотографий, в том числе и три лично Ваших фотографии в генеральской форме, упакованы в пакет, опечатанный сургучными печатями, и 6 мая фельдсвязью отправлены на Ваше имя в штаб армии.
В заключение считаю необходимым доложить, что Ваш сын, прибыв в полк из училища необстрелянным лейтенантом, за два месяца участия в боях заслужил авторитет офицера-гвардейца. Он стойко и терпеливо переносил все тяготы боевых действий и окопной жизни, во всех боях вел себя мужественно и находчиво, как комсомолец принимал активное участие в изготовлении наглядной агитации и выпуске боевых листков в роте. Память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Командир полка гвардии подполковник Ловягин».
«Письмо генерал-майора Шавельского генерал-полковнику Смирнову.
Многоуважаемый Александр Иванович!
Пользуясь оказией, командировкой в Германию, и в частности в вашу армию подполковника Синева, посылаю Вам это личное, конфиденциальное письмо и прежде всего выражаю глубокое соболезнование в связи с гибелью Вашего сына, которого мы с Ольгой Васильевной помним еще ребенком.
Ваша супруга, Ирина Васильевна, обратилась к тов. И.В. Сталину как к наркому обороны с письмом, которым просит разрешить выкопать останки Вашего сына в Германии и перевезти на территорию СССР для захоронения на одном из московских кладбищ.
Как Вам, очевидно, известно, решение о перевозке тел погибших в боях на территории противника генералов и Героев Советского Союза для захоронения на территории СССР принимается в каждом отдельном случае непосредственно заместителем наркома СССР генералом армии тов. Булганиным Н.А. по ходатайствам военных советов фронтов и армий, направленных ему через военный совет Главупраформа (директива НКО № 515 361 от 21.03.45 г.). Замечу, что речь идет только о генералах и Героях Советского Союза и о перевозке сразу после их гибели, а не об эксгумации спустя месяцы для перезахоронения.
При всем стремлении, моем и генералов Смородинова И.В. и Карпоносова А.Г., пойти навстречу просьбе Ирины Васильевны для доклада (в порядке исключения) руководству НКО в данном случае обязательно требуется ходатайство военного совета фронта, в котором Вам, полагаю, не откажут. Каким будет решение заместителя наркома, предсказать невозможно.
Для сведения сообщаю, что разрешений в порядке исключения за это время дано всего девятнадцать, хотя, как мне достоверно известно, значительно большее количество перезахоронений с перевозкой останков погибших на территорию СССР осуществлено и осуществляется неофициальным путем.
Надеюсь, Вы оцените значение этой информации, сообщить которую Ирине Васильевне я, к сожалению, не имею права.
Пользуясь случаем, поздравляю Вас, дорогой Александр Иванович, с присвоением Вам в последние месяцы высокого звания генерал-полковника и Героя Советского Союза и желаю здоровья и успехов в прекрасном служении Родине.
С давним глубоким уважением.
Ваш Шавельский».
От подлости до подвигаЧитаешь повесть Константина Симонова «Четыре шага», и в момент описания им (без сомнения, практически документальном. – Авт.) встречи журналиста Лопатина с только что похоронившим жену батальонным комиссаром Васильевым (в декабре 1941 года на одном из московских кладбищ), в который раз вспоминаешь: «Кому – война, а кому – мать родна…».
«За все дай! – сказал Васильев. – За место – дай! За то, чтобы могилу вырыли, – дай! За то, чтоб сегодня, а не завтра похоронили, – дай! Даже за то, чтобы землей засыпали, – дай! Как будто можно землей не засыпать. А хотя с них все станется – не дашь, так и не закопают! Вытащат гроб из земли, в сторону поставят и кого-нибудь другого на этом месте похоронят, и опять – дай! Дай хлеб, дай сахар, дай табак! Дай водки! Дай, дай, дай!
– А если не дать? – сказал Лопатин.
Васильев печально и зло усмехнулся:
– На кладбище не заходили?
– Нет.
– И хорошо сделали. По неделе прямо на снегу гробы стоят, как в очереди – кто последний, я за вами! Это у тех, кто не дал. Не дал, потому что нету. Кто же пожалеет дать, если есть? Этим и пользуются, сволочи. Был бы я московским комендантом, – помолчав, сказал он, – сократил бы патрули и выделил наряды бойцов на кладбищах могилы копать. Ничего бы не составило. А так собралась – ряшка к ряшке – бесстыжая компания из пьяных инвалидов, и просто жулики, пользуются сложившимся положением, нашли себе теплое местечко – кладбище! Горе – а они дай, дай, дай, дай! Как злые попугаи: копают – матерятся, опускают – матерятся. Ни стыда нет, ни совести, только глотка и брюхо. – Он снова надолго замолчал.
Лопатин с пронзительной печалью подумал, что жизнь и смерть идут своим чередом, и какие-то люди жадно урывают себе куски и на жизни, и на смерти. «Жуки-могильщики», – подумал он. Что ж, бывает и похуже! Кормятся и вокруг госпиталей, и вокруг этапных пунктов, и на станциях – при билетах, и в столовых при миске супа, на которую до того в обрез отпущено, что неизвестно, что выловить в свою пользу, а все-таки вылавливают, догола, до воды!
Что ж, раньше, до войны, этого не было? Или он, как слепой, ходил и не видел? Или во время войны, когда, кажется, всему этому уж и вовсе не место, наоборот, его стало больше? Или испытания войны всколыхнули в людях так много сильного и чистого, что нечистое сразу лезет в глаза, как пятна на снегу? Где тут правда? И как это будет после войны: неужели то же будет?»
А бывало и по-другому, да и не могло не быть, поскольку в самые смутные и лихие времена в России проживало немало людей, у которых имелись не только «глотки и брюхо», но и те самые стыд и совесть. В своей книге «Судьба детей войны» яровчанин Василий Свиридов рассказывает об одном случае, для нынешней поры (не в обстоятельствах, но в проявлении человеколюбия. – Авт.) неординарном, а в то время вполне обычном.
Поздней осенью 1942 года хуторские женщины узнали, что «за Сумами, в Конотопе, лагерь военнопленных. Говорят, будто если кто из родственников придет, то отдают. Собрались несколько человек, в основном женщины преклонного возраста да девчонки лет тринадцати-четырнадцати. Взрослых девчат и парней в такую дорогу пускать было опасно. Облавы шли везде: и в городах, и на дорогах. И у кого не было аусвайса, забирали и будто бы в Германию отправляли.
Собрались и с нашего хутора, и с окрестных сел, договорились идти вместе. Гуртом оно легче, да и там, если не встретят кого из своих или знакомых, то хоть кого-нибудь вызволят.
Надо сказать, что в то время, насмотревшись на все происходящее, люди жалели всех: и своих, и чужих. Все были тогда свои, все были родные. Долго мы ждали, наконец, недели через две пришли, привели, вернее сказать, привезли всего одного. Был он родом откуда-то из Средней Азии, то ли казах, то ли киргиз. По-русски почти ничего не понимал, хорошо выговаривал только слово «мама». Вот что рассказала сестренка, она тоже туда ходила.
Пришли уже к вечеру. У местных расспросили, что и как. Наутро пошли к лагерю. У ворот их остановили. Сначала женщины никак не могли объяснить немцам, зачем пришли.
Потом пришел переводчик в цивильной одежде. Говорил очень вежливо, с улыбочкой и так расположил их к себе, что женщины, осмелев, откровенно ему сказали:
– Если, мол, нет наших, то давайте чужих.
Подумал переводчик и говорит:
– Пойду поговорю с начальством.
Через какое-то время из дома вышло много немцев, все такие веселые, смеются. Приказали что-то караульным, и те привели пленного. Вели его осторожно, с ужимками. Кривляясь, подвели к нам и спрашивают у одной женщины:
– Ваш?
Смотрит тетка Катерина – живой скелет. По ее лицу текут слезы, губы дрожат, не может слова вымолвить. А он стоит, смотрит и вдруг:
– Мама!
Бросилась женщина к нему. Немцы не пустили, переводчик спрашивает:
– Ваш?
И решилась тетка Катерина: будь что будет, убьют, так убьют.
– Мой, – говорит. Сама побледнела, но глаз от переводчика не отвела. Стал переводчик что-то говорить немцам, сам смеется, те тоже что-то выкрикивают, за животы хватаются. Наконец переводчик сказал:
– Ваш, берите.
Караульные, стоявшие возле пленного, отошли. Подошла тетка Катерина к нему, а он на ногах едва стоит.
Идти он не мог, выменяли на самогон да продукты санки, благо немцы гонорар не взяли, видно, довольные были от такого зрелища – смотрите, русские детей своих не различают, сказано – низшая раса.
А русские женщины посадили парня в санки да гуртом, друг дружку сменяя, привезли его домой.
Забрала его тетка Катерина к себе. Старалась поставить на ноги, да не смогла. Последние его слова были:
– Спасибо, мама.
Похоронили его на сельском кладбище по-христиански, в гробу, и крест поставили. А как же иначе? Ведь тогда у нас не знали, как хоронят мусульман, да и никто не знал, какой он веры, спросить не успели, не догадались. А вера в то время у всех нас была одна.
Занедужила тетка Катерина. Говорят, на могиле его часто бывала, да вскорости и сама преставилась. Похоронили ее рядом с могилкой того, кто в последние минуты своей жизни назвал ее мамой.
Знайте, родные, жители степей Казахстана или Ферганской долины, ваш сын покоится в далекой Руси, на сельском кладбище, рядом с русской матерью, которая в последние минуты жизни поила его с ложечки, ласковой материнской рукою поддерживала его голову».
Без следаБарнаулец Дмитрий Каланчин, оккупированный фашистами Донбасс, весна 1942 года:
«Мешочники, что шли с Донбасса по Украине от деревни к деревне менять вещи на продукты, ночевали, сменяя друг друга, в брошенных колхозных сараях, конюшнях. Одни ушли – другие приходят. Тысячи и тысячи людей так шли, плюс еще с осени 41 года разбрелись по Украине оставшиеся в окружении красноармейцы, какие к бабам прибились, а какие так и бродили, ночевали в тех же конюшнях и сараях.
Тиф гулял вовсю. И после каждой ночи в таких местах оставалось два, три, а то и больше трупов. Крестьяне вывозили их на кладбище и всех в одной яме закапывали. Холмик и все. Что за люди были, так неизвестным и осталось, их родные ничего о них не узнали».
Борис Соколов, лагерь советских военнопленных Саласпилс, Литва, зима 1942–43 годов:
«Ежедневно по утрам видишь, что почти у каждого барака валяются то один, то несколько босых и раздетых трупов. Сначала специальная похоронная команда свозит их в сарай, превращенный в мертвецкую. Затем раза два-три в день их отвозят за лагерь и зарывают в заранее выкопанных рвах. Эта грустная процессия, словно для большей торжественности, движется очень медленно. А просто сказать, десять человек, впрягшись в оглобли, с натугой волокут тяжелую обозную повозку, доверху нагруженную трупами и укрытую брезентом.
Местные миннезингеры, сложившие множество песен, воспели и это обстоятельство и поют на мотив «Колымы»:
«Мертвецов по утрам там таскали.
В тот холодный, без двери, сарай.
Как обойму в порядок складали.
Для отправки готовили в рай.
Грабарям там работы хватало.
В день два раза, а часто и три,
С мертвецами повозку возили.
Туда, где рылись глубокие рвы».
Сергей Голубев, лагерь советских военнопленных в Рославле, зима 1941 года:
«Однажды мне пришлось слышать разговор переводчика Бифеля со старшим врачом нашего корпуса Бекешевым. Бифель рассказывал, что смертность пленных в комендатуре учитывалась по количеству вывезенных трупов из лагеря. За время с 26 декабря 1941 года и по 2 января 1942 года из лагеря вывезли 16 564 трупа.
Это только за семь дней! А за один только день 28 декабря вывезли 1852 трупа. Но ведь не всех мертвых управлялись вывозить. Целые груды трупов и около корпусов, и в самом лагере долгое время лежали на морозе, уложенные ровными рядами.
28 декабря – страшный день в лагере. Утро выдалось какое-то серое, мороз доходил до 43 градусов. Из окон нашего корпуса хорошо были видны черные неподвижные точки, рассыпанные по всему лагерю. Некоторые точки передвигались, и мы решили посмотреть, что делается на территории. С художником Николаем Морозовым мы вышли из госпиталя. Когда подошли, то оказалось, что черные точки – это замерзшие люди.
Около замерзших копошились живые. Живые раздевали умерших, брали шинели и остальное обмундирование и тут же надевали на себя снятое с трупов. Особые люди, которых в лагере называли капутчиками, собирали трупы и укладывали их в штабеля, как поленницы дров. Таких куч, или штабелей, стояло уже двенадцать, а трупы все выносили и выносили из помещений.
«Капут-бригада» (или могильщики) называлась так от часто произносимого фашистами слова «капут», то есть смерть, конец. Бригада была довольно многочисленной. Иногда состав ее доходил до 330–350 человек. Почему-то в «капут-бригаду» немцы отбирали преимущественно людей из среднеазиатских национальностей. Одеты капутчики были значительно теплее остальных, так как снимали одежду с умерших, да и питание они получали несколько больше. Нельзя сказать лучше, нет. Давали ту же баланду, и тот же хлеб с «петушком», но давали в двойном или тройном размере. Баланды они ели досыта.
На капутчиках лежала обязанность ежедневно вывозить мертвецов из лагеря на Вознесенское кладбище, расположенное тут же, рядом с лагерем. Они же должны были рыть могилы. Всю работу капутчиков можно было наблюдать из окон лагерного госпиталя.
Народ капутчики – в большинстве своем слабый, и питание им мало помогало, а земля твердая, мерзлая. Конечно, рыть такую землю слабым людям трудно. Иногда немцы помогали им, взрывая землю аммоналом, а потом заставляли капутчиков образовавшуюся яму углублять, вернее, расчищать.
Могилу делали общую, на пять-шесть тысяч трупов. В длину могила иногда достигала 80–100 метров. Трупы укладывались в вырытую яму ровными рядами и засыпались землей. На месте таких могил впоследствии возвышались большие холмы».
* * *
После освобождения американскими войсками концентрационного лагеря у немецкого городка Штукенброк (в этом лагере менее чем за четыре года нашли свою смерть порядка 65 000 человек. – Авт.) находящиеся в нем русские военнопленные перед отъездом на родину создали проект и 2 мая 1945 года поставили на лагерном кладбище памятник своим погибшим товарищам. Во время его открытия на могилы упала и скончалась у всех на глазах русская женщина.
* * *
Участник обороны Ленинграда, бийчанин Иван Карнаев, март 1942 года:
«Дорожное полотно было обозначено только санным следом. В стороне от дороги, в снегу, в отдельных местах, виднелись трупы людей. На увиденное наша голодная серая масса никак не реагировала, просто прошли мимо. Справа и слева от дороги стояли отдельные сосны. Начали переходить небольшую низинку, правее увидели работающий экскаватор.
Я подумал – надо же, уже и в городе роют окопы, значит мы идем на передовую к финнам. Но, подойдя ближе, увидели несколько автомашин с высокими решетками на бортах, доверху заполненные трупами, причем большинство трупов голые. Сюда, на будущее Пискаревское кладбище, свозили умерших ленинградцев из больниц, квартир, с обочин дорог. Увидел машины, заполненные, как дровами, голыми трупами, холодок пробежал по спине. После этой кошмарной встречи опять все притупилось, мы еле волокли ноги».
Другой защитник города на Неве, тоже житель Бийска Павел Царьков рассказывал, как сам чуть не оказался на Пискаревке. После госпиталя, находясь в команде выздоравливающих, он участвовал в патрулировании города:
«Ходил как-то в обходе, дежурил. Присел отдохнуть и задремал немножко. А меня подобрали – и в братскую могилу. Хорошо еще, что близко к кабине попал. Когда вываливали, я сверху оказался. Чую, рядом кто-то еще копошится. Оказалось, москвич Миша Иванов. Собрались мы с силами, выползли из могилы. Подобрали нас и в госпиталь, там поставили на ноги – и снова воевать.
А вообще-то я за войну две «рамы» сбил – это самолеты-разведчики такие, шесть танков подбил, сам в танке горел. Не повезло мне на минах. В одной из атак прошел одну линию обороны, вторую, а на третьей подорвался на минном поле. Идут санитары вслед за наступающими бойцами, раненых подбирают. А я что – кусок мяса. Сейчас у меня полжелудка нет, полкишечника нет, полпечени нет, череп пробит.
А следом за мужиками шли девушки-санитарки. Заметили меня, зеркальце подставили, видят – запотело.
Значит, жив. Собрали кое-как меня, отправили в полевой госпиталь, оттуда на самолете в Ярославль. Там и вернули к жизни. А те санитары взяли у меня медальон солдатский, похоронку по адресу выслали, оказывается. Приезжаю в Бийск, стучусь домой, а там опешили. Я с ними разговариваю, а они сидят и молчат. Потом уже кое-как пришли в себя, когда я закричал: «Да я же это, я, я!.».