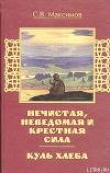Текст книги "Война: ускоренная жизнь"
Автор книги: Константин Сомов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 44 страниц)
«В первой половине января 1942 года вечером мы погрузились в эшелон, состоявший из товарных вагонов (их в народе называли телятниками), и под звуки марша «Прощание славянки» он тронулся в путь. Немногочисленные провожающие вытирали слезы, не зная еще, что многие, очень многие не вернутся к родным местам. Мы тоже этого не понимали, рвались на фронт, но беспокойство и неуверенность в будущем тревожили и нас иногда, в основном вечером, когда укладывались на нары спать, – пишет в своей книге «Записки офицера-артиллериста» выпускник Томского артиллерийского училища Иван Новохацкий. – Никаких постелей, конечно, не было, посуды тоже, был дня на два или три сухой паек: сухари, сало, консервы, брикеты каши. Днем молодость брала свое, и мы во всю молодую силу пели песни, открывая двери, когда проезжали станции.
Стояли сильные холода, печку топили практически непрерывно, но это не очень помогало. Спасал полушубок, который постепенно из белого превращался в серый, а затем – в грязный. Да мы и сами выглядели не лучше – умыться было негде и нечем, на коротких остановках успеть бы в туалет да набрать ведро воды для питья.
Вскоре в наших вагонах кто-то заболел, кажется, сыпным тифом. Нас направили на санобработку, в баню. Тут мы впервые за многие дни помылись. Мы были уже далеко не того вида, что в начале пути. Закопченные лица и руки, грязные полушубки, в общем, вид был, что называется, фронтовой, хотя пороха мы еще не нюхали. Правда, печки в вагонах топили толом, добываемым из противотанковых гранат, которые часто находили в вагонах на станции. На нашу группу наложили карантин и дальше ехать не разрешили. Мы продолжали жить в вагонах. Карантин продлился где-то недели три».
Упоминаемый Иваном Митрофановичем вагон-телятник, он же столыпинский, или просто столыпин, изначально был предназначен для перевозки переселенцев западных губерний на новые земли в Западную Сибирь, особенно на Алтай. Крытая теплушка предназначалась для перевозки 36–40 человек. О подобной в своем романе о похождениях бравого солдата австро-венгерской армии Йозефа Швейка поведал еще Ярослав Гашек:
Три тонны удобрения
Для вражеских полей —
Сорок человечков
Иль восемь лошадей.
Уже много лет спустя после Великой Отечественной о ней же проникновенно пел замечательный артист, фронтовик, участник еще финской войны Юрий Никулин:
Когда по ночам эшелоны по вогнутым рельсам гудят,
А я от бессонниц своих до утра не усну,
Я снова, как прежде, теплушка и сорок ребят.
Все еду и еду, уже на другую войну.
Теплушка, махорка и сорок ребят
И двадцать из нас не вернулись назад…
В идеале выглядела теплушка примерно так. Двухосный вагон, в торцах которого двухъярусные нары, а в середине вагона только верхние. Напротив вагонных дверей – чугунная печка-«буржуйка» и ведро с углем. На одних нарах на каждом этаже располагались по восемь человек (при условии, что всего их было сорок). Ночью лежать приходилось только на боку, если у кого-нибудь онемел один бок, и он пытался перевернуться на другой, вся восьмерка делала то же самое.
Но это, как уже говорилось, в идеале. В случае необходимости в «телятники» вместо 40 набивали и по 60, и по 80, и по 100 человек.
Вот как описывает такую поездку отправившийся на фронт из родной Астрахани боец 58-го истребительно-противотанкового полка Геннадий Пикалов:
«В середине вагона стояла чугунная буржуйка – одна на весь пульман. Девяносто человек, посаженные в вагон, не могли разместиться на нарах. Многим пришлось расположиться на полу, поближе к печке. Нам, совсем еще юным, оторванным от дома, впервые пришлось испытать неудобство и холод. Угля дали предельно мало: скудное тепло выдувало в прямую, без единого колена трубу. Спали на голых нарах, не раздеваясь, положив под голову котомки и, тесно прижавшись друг к другу, старались согреться. Жарко горел в печке уголь. Ее окружили. Вагон гудел от шума многоголосой ребячьей толпы. Одни в жестяных банках из-под консервов, в кружках растапливали снег и грели воду для питья. Другие, проголодавшись, грызли ржаные сухари с селедкой из выданного сухого пайка.
Утро третьего дня мы встретили далеко от дома. Было морозно, солнечно и тихо. Вокруг лежала ровная степь, покрытая слепяще белым снегом. Мимо проплывали редкие полустанки с землянками с короткими трубками, из которых валил дым, отдавая с детства знакомым запахом кизяка. Вороны с голодным карканьем стаями летали над жильем. На станциях мы впервые увидели следы войны. На запасных путях стояли сожженные и покалеченные бомбами вагоны. Их было много. Разбитые водонапорные башни, поврежденные станционные постройки.
Отодвинув двери, мы со смятением смотрели на разбой фашистской авиации. Все поутихли, стали серьезнее. Каждый думал о своем, но неизбежно – об одном и том же, сводившемся к тому, что мы едем на войну, и вполне возможно – впереди всем выпадает доля испытать лихо.
В середине дня последние куски угля были разбиты и до крошки сожжены. Эшелон остановился на каком-то полустанке. Дрожа от холода, Васька Коснарев схватил ведро и побежал раздобыть хоть немного угля. Запыхавшись, он примчался к паровозу и, пересиливая шипение пара, вырывавшегося густой струей из-под колес, задрал голову и что было мочи заорал:
– Эй, на паровозе! Выгляни сюда!
– Уж не за теплом ли пришел? – громко спросил машинист.
– Ага, у нас в вагоне холодно! – как можно убедительнее ответил Васька.
– Ну, поднимай ведро повыше и держи покрепче!
Васька, ухватившись обеими руками за дужку ведра, поднял его перед собой. А машинист, исчезнув в окне, через минуту появился в дверях с резиновым шлангом в руках, из которого валила густая струя пара, и быстро вставил шланг в ведро. Из худого ведра, как вода из душа, в разные стороны вылетал пар. Сначала Васька ничего не понял, а когда догадался, что это шутка, сам же рассмеялся и, бросив ведро на снег, закричал машинисту:
– Я не за теплом пришел – за топливом!
Машинист, убрав шланг, снова появился в окне и еще громче захохотал над обескураженным пареньком. А Васька все так же с мольбой смотрел на машиниста. Тогда тот пояснил:
– Слушай, Аника-воин, если бы я и дал тебе топлива, ты все равно не смог бы его унести!
– Унесу, унесу, только дай!
– Не унесешь, – ответил машинист, – ведро твое дырявое, и сколько ни лей в него мазута, все равно вытечет».
Но, как пел Владимир Высоцкий, «это были еще цветочки». Впереди Ваську Коснарева, его товарищей и миллионы их сверстников, «пацанов войны мировой», ждали куда более суровые испытания.
Окопная жизньБоец 312-й стрелковой дивизии славгородец Федор Слепченко рассказывал, что за почти три проведенных им на фронте года под крышей он ночевал гораздо меньше времени, чем без нее. О том же не раз приходилось слышать и от других фронтовиков, а также читать в воспоминаниях бывших рядовых солдат и младших офицеров.
«А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой». Под этими словами из известной песни подпишется, наверное, каждый фронтовик-окопник. Летом хорошо. Окопы и траншеи не заливает дождем, не заметает снегом, можно прожить и без блиндажей и землянок, а вот осенью или зимой.
Передний край. Вот как описывал его начавший войну под Сталинградом и сложивший на ней голову в феврале 1944 года Герой Советского Союза разведчик Владимир Дыминский:
«Стрелковые ячейки, открытые или только начатые, соединили траншеями, прорыли ходы сообщения в тыл. Для нас они стали постоянным местом обитания. Здесь мы укрывались от огня, сами вели огонь, принимали пищу, поблизости хоронили друзей, общались с соседями.
Сверху то светило солнышко, то сыпался вначале мелкий, нудный дождь, а потом и мокрый, хлопьями, снег. Над головой было что-то только у ротного.
Под ногами чавкает. Ботинки с виду еще целые, а уже пропускают воду. Ноги почти каждый день сырые. Для отдыха мы отрывали в стенках траншей, на полметра выше дна, ниши. В них спали, укрывшись от огня противника. Но и в них было холодно, сыро. Спали чаще «валетиком». Но разве это сон? Только согреешься, заснешь – обязательно что-то разбудит. Хоть и не спишь, но и вылазить не хочется. Поэтому лежишь и слушаешь чей-нибудь разговор».
Когда не было времени и возможности выкопать в боковых стенах траншей ниши, солдаты порой долбили уступы, чтобы можно было в них упереться ногами или просто ложились поперек траншеи, упираясь головой в бруствер, и в таком подвешенном состоянии находились по два-три часа. Подобное проживание и привело, наверное, к возникновению одной из наиболее популярных на передовой частушек:
Я сижу на дне окопа
У меня печальный вид,
У меня промокла ж…
И теперь я инвалид.
«Блиндаж наш был ниже траншеи и глубже ее, поэтому после каждого дождя полон воды. Приходилось ночью спать в сыром блиндаже. Здесь я, как говорят, на своей шкуре узнал, что значит выражение «гнить в окопах», – пишет о боях в Молдавии в марте 1944 года Иван Новохацкий. – По телу, особенно по ногам, пошли болячки. Когда я обратился к нашему доктору, он сказал, что это болезнь называется окопная гниль.
В общем, мы гнили заживо, и никакие лекарства не помогали, да их попросту не было. Единственное лечение – раздевались и в траншее загорали, когда погода была солнечная. Болячки подсыхали и не так зудели, как сырые. Но все лето они давали о себе знать и потом на всю жизнь на ногах оставили свои следы».
И все же (как показывает и приведенная выше частушка) наши солдаты и офицеры умели смеяться и шутить даже сквозь слезы. Пример можно взять из книги того же Новохацкого «Записки офицера-артиллериста»:
«Мои разведчики притащили из города большое зеркало – подобрали его где-то в полуразрушенном доме. Зеркало установили в траншее, там, где она разветвляется на две ячейки наблюдения. Траншея в этом месте перекрыта, и создается впечатление, что она продолжается дальше, и кто не знает, лбом ударяется в зеркало.
Как-то на наш НП прибыл командующий артиллерией дивизии полковник Леонов. Он всегда появлялся неожиданно, без предупреждения. Вот и сейчас он вошел в нашу траншею и быстро пошел к ячейкам наблюдения. Я не успел его предупредить, как он лбом уже стукнулся о зеркало и, удивленный, остановился. Я попытался было извиниться, все-таки большое начальство, но он выругался, обозвал нас циркачами и прошел в ячейку наблюдения».
Еще хуже, чем весной-осенью приходилось на передовой и вблизи нее в зимнее время. По воспоминаниям многих фронтовиков, попавших на войну совсем еще молодыми людьми, в абсолютном большинстве своем в 18–20 лет, очень часто в сложных ситуациях выручали всех пожилые – по военным меркам – солдаты, имевшие больший жизненный опыт. Они подсказывали, как откопать окопы в снегу, устроить шалаши и т. д.
«Для штабов и шалашей доставили большие палатки с войлочным полом. Мы же ночевали у костров, – рассказывал писательнице Изольде Ивановой боец 2-й ударной армии И. Калабин о зиме 1941–42 годов под Ленинградом. – Веток наломаешь побольше, чтобы не простыть, – и к костру. Бывало, и ноги вместе с валенками обгорали. Добыть другие – топай на передний край, чтобы снять с убитого: больше взять негде».
По воспоминаниям Мансура Абдулина, зимой 194 243 годов на Донском фронте (когда замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии Паулюса. – Авт.) бойцы батальона, где воевал и он сам, копали в плотном снегу норы, каждый на свой вкус и по своей комплекции. На двоих-троих тоже устраивали «ложе»: теплей было вместе.
«Слой мерзлоты над головой с успехом заменял нам бетонное укрытие, – сообщает он в своих записках. – Ноги же, укладываясь спать, мы всегда высовывали наружу на случай внезапного взрыва, чтобы можно было выбраться, если засыплет землей. Залезешь в такую нору и умирать не хочется. «Как, – думаешь, – уютно! Как хорошо!».
Но именно эта любовь к уюту, желание создать себе хоть немного приближенные к человеческим условия, приводили порой к гибели. Абдулин в своих воспоминаниях описывает два таких случая.
«Утром мы потеряли солдата Гарипова Ахмета. Еще вечером вчера его видели наши ребята с котелком горячих углей. Его нашли уснувшим под плащ-палаткой, которую он сделал балаганчиком над котелком с углями. Угорел, бедняга.
Рядом в стрелковой роте тоже ЧП. После вчерашнего боя солдаты нашли в поле рядом с окопами круглую, как люк танка, дыру. Из дыры поднимался теплый запах жженого кирпича, как от только что сложенной и в первый раз затопленной печки. Дыра при дальнейшем исследовании оказалась входом в просторный отсек, наподобие горшка пяти-шести метров в диаметре, образовавшийся в результате взрыва фугасной бомбы. Глинистый вязкий грунт раздался от взрыва в стороны, спрессовался, как кирпич, и внутренние стенки «горшка» прожарились, только узенькие трещинки в них.
Самые бойкие и нахрапистые солдаты роты решили выспаться, «как у Христа за пазухой». Спустились туда восемнадцать человек и уснули навсегда: оказалось, что из мелких, но глубоких трещин продолжалось выделение окиси азота от взрыва. Ну кто мог знать о такой опасности? Знать могли шахтеры. Я шахтер, допустим. Найди я этот «горшок» – прекрасную спальню, я забыл бы, что я шахтер, – первым бы спустился захватить себе место. И когда ума наберемся?»
Дом для солдатаСогласно военной терминологии, землянка относится к категории сооружений для обогрева и хозяйственных построек. Она никогда не сооружается на переднем крае и не предназначена для укрытия личного состава от огня противника. Землянка предназначена для отдыха личного состава в тыловых районах, где нет или разрушены иные пригодные для жилья помещения. В землянках в тыловых районах также могут размещаться различные хозяйственные службы, склады, штабы, медицинские пункты, госпитали, прачечные, бани, мастерские и т. п.
Сооружения же, расположенные непосредственно на переднем крае, по той же терминологии полагается именовать блиндажами. Однако абсолютное большинство бойцов Великой Отечественной в таких тонкостях не разбирались и называли свои жилища на «передке» и так и этак, но чаще все-таки землянками, оставляя слово «блиндаж» для немецких построек.
«Землянки, или блиндажи – мы их так и называли, строили просто, – рассказывал топограф артдивизиона 312-й стрелковой дивизии Василий Фалалеев. – Копается яма, все равно как погреб, потолок перекрывается. Бревна повдоль, потом поперек – накаты называются. Чем больше их, тем лучше и безопаснее. В стене делаешь нишу, а с другой стороны блиндажа – выходное отверстие, «трубу», вот и печка тебе.
В Смоленской области, где нашей дивизии пришлось долго воевать, больше чем на полметра яму не выкопаешь, дальше вода. Тогда землей стены поднимаешь, перекрываешь так же – и готово. На пол сосновые, еловые ветки – вот тебе и постель. Рядком ложимся, друг друга согреваем, спим. Так, считай, все три моих фронтовых года».
Здесь надо сказать, что примитивные сооружения, одно из которых описано выше, получили неожиданно уважительную оценку наших противников, представителей технически развитой, уже тогда привыкшей к комфорту Европы.
«Русские не строили блиндажей, они просто выкапывали землянки, на несколько человек каждая, на которые укладывались бревна, – пишет в своих воспоминаниях о войне офицер 252-й пехотной дивизии вермахта Армин Шейдербауер. – Это было примером поразительной способности русских к сочетанию импровизации с практичностью».
А вот пример более «цивилизованной», построенной практически по всем правилам, землянки, в создании которой принимал участие в декабре 1944 года механик-водитель тяжелого самоходного орудия ИСУ-152 Электрон Приклонский:
«Забит последний гвоздь и брошена последняя лопата мерзлого песку: небольшая, на двенадцать человек, землянка нашей батареи готова. Устраиваемся в ней быстро, но без паники.
В дальнем конце землянки – единственное оконце. Под ним – маленький квадратный столик на одной толстой ноге, которая крепко врыта в землю. Вдоль всей землянки – проход в виде углубления в земле, шириной в метр, глубиной в полметра. Слева и справа от прохода – земляные нары. На них – постель из толстого слоя хвойных лап, прикрытых плащ-палатками. Вход в землянку защищен тамбуром, дверьми служат две плащ-палатки. Печь – конечно же, незаменимая «буржуйка», установленная в земляной нише, слева от ступенек, по которым спускаешься в наше жилище. «И дом готов, и крыша есть». Хоть зимуй. (Порой печурки для землянок изготавливались из больших жестяных банок от присланной союзниками «рузвельтовской» колбасы. Трубу с пистолетный ствол – и мини-очаг готов. – Авт.)»
Любовь к большому количеству накатов была присуща на войне многим начальникам. Об одном из них, особенно «основательном», рассказал в своей книге «Наедине с прошлым» фронтовой журналист Борис Бялик. Описываемый им «отец-командир» служил в 44-й стрелковой бригаде, раз и навсегда отдал саперам приказ – на его землянке всегда, где бы она ни строилась, должно быть не менее пяти накатов – пяти рядов бревен каждое в обхват.
Иногда саперы пробовали убавить один накат, но не тут-то было! Спускаясь в новую землянку, начальник каждый раз проводил рукой по бревнам над входом: производил подсчет.
Этот его любимый жест и подсказал саперам способ облегчить свою жизнь. Они изготовили небольшой, вполне транспортабельный срез из пяти бревен и стали укреплять его над входом каждой новой землянки. В остальном они ограничивались одним накатом, засыпая его повыше землей. Эта рационализация так ускорила их работу, что ничего не подозревавший начальник не мог ими нахвалиться. Он говорил:
– Если бы все саперы походили на моих орлов – мы бы уже зарывались в землю за Одером!.».
Рядовому пехотному ване, также, как и ваньке-взводному, о пяти накатах, разумеется, и думать не приходилось – была бы хоть какая-то крыша над головой, и то предел мечтаний. Хотя курьезно-комические случаи происходили и с такими жилищами. Одну из таких историй поведал много повидавший на той войне и все же оставшийся жизнерадостным человеком Иван Новохацкий.
Он вместе с несколькими солдатами занимал весной 1944 года позицию у кладбища. Дело происходило под Корсунь-Шевченковским, во время окружения там нашими войсками крупных сил гитлеровцев.
«Вырыли окопные ячейки, установили приборы, разведчики поочередно ведут наблюдение за врагом, – пишет в своих воспоминаниях Иван Митрофанович. – Тут же вблизи вырыли небольшой блиндажик, накрыли его полусгнившими кладбищенскими крестами, прутьями и соломой, благо неподалеку стояла большая скирда.
Погода стояла плохая: мокрый снег с дождем днем, ночью подмораживало. К ночи в блиндаж набивалось столько народу, что лежать можно было только боком, тесно прижавшись друг к другу, зато было теплее. Спали мы, конечно, одетыми, под голову – противогаз, в обнимку с автоматом или карабином, кто чем был вооружен.
Вдруг среди ночи затрещало перекрытие нашего блиндажа и послышался скрип колес брички. Мы дружно подняли ноги вверх, уперев их в потолок. Одновременно дружный крепкий солдатский мат отреагировал на это событие. Очевидно, кто-то приехал ночью за соломой. Днем здесь появляться опасно из-за ружейно-пулеметного обстрела. Вскоре раздался взрыв, конский топот, и все затихло. Только утром, выбравшись наружу, я увидел часть разбитой повозки и засыпанную снегом воронку от взрыва.
Позже мы узнали, что ночью за соломой приезжал старшина нашего дивизиона, пожилой мужик. Услышав на кладбище ночью из-под земли какие-то голоса, он напугался, видимо, подумав, что это с того света, погнал лошадей и при повороте задним колесом наехал на мину. Повозку разбило, его оглушило, кони в испуге помчались назад с оставшейся частью повозки, а старшина так уцепился за вожжи, что кони приволокли его туда, откуда он ранее выехал. Потом мне рассказали, что старшину отправили в медсанбат, он так и не смог рассказать, что произошло, настолько был напуган случившимся».
Не покидало чувство юмора на войне и барнаульца Деомида Кожуховского. Вот запись из его дневника.
«01.05.45 г. Норвегия.
После завтрака закурил папироску и два раза сыграл в домино. Конечно, остался «козлом». Выпивка еще не предвидится, но обещают. В землянке полно грязи, со всех стен течет.
Сделал бумажный пароходик и пустил по ручейку, проходящему по землянке на полу. Когда только будет то время, когда пройдет грязь, и мы вздохнем вольным свежим воздухом».
Война не отбила у людей желания жить, а для многих даже многократно его обострила. И когда хоть немного отступало ощущение смертельной опасности, солдатам и офицерам хотелось радоваться жизни, не замечаемым обычно мелким благам и удовольствиям, быту, без которого существование человека немыслимо даже в траншеях.
«А старшина был хороший, заботливый, – вспоминал Семен Никитович Соболев. – Его хозяйство размещалось в полутора километрах от батареи, в овраге. Там же он устроил землянку, где была постель даже с простынями: однодневный «дом отдыха». Однажды и меня отправили на сутки туда. Не знаю, за заслуги ли какие, за худобу ли? Но целые сутки отдыхать, ничего не делать, трижды поесть и ночь спать раздевшись, без обуви! Об этом на фронте нельзя было даже мечтать».
Прошедший через все мыслимые круги военного ада кавалер восьми боевых орденов Михаил Сукнев, человек наблюдательный и неунывающий, оставил нам в наследство свою небольшую, но до боли правдивую книгу «Записки офицера штрафбата», отрывок из которой, посвященный описанию окопной жизни весной 42 года на Волховском фронте, хочется привести здесь полностью:
«В Лелявине остался без хозяев серо-голубой котище. Васька – так я его назвал – будто стал «пулеметчиком», шатался по всем землянкам и был везде «наш» – завтракает, обедает, ужинает. Считай, как сыр в масле катается. Однажды его ранило в ногу, я унес кота в медсанвзвод к Герасимову. Вылечили. Опять рана – осколок проделал у кота в горбинке носа дырку, стал сопеть; тогда он самостоятельно побежал к Герасимову лечиться! Умница, а не кот!
Звук снаряда – он тотчас в блиндаже. Самолеты – тоже нам сигнал тревоги.
Как-то прихожу в землянку и почувствовал аромат духов. Девушка?! Не понимаем, откуда такие ароматы.
Однажды я караулил, как кошка мышь, фрица, наблюдая в оптику снайперской винтовки из амбразуры дзота за логом. Перевел прицел на нейтралку. Не верю своим глазам. Подумал – заяц пробирается по минному полю противника, ан нет – Васька! Да так аккуратно – былинки не заденет. Шел кот деловито от противника к нам! Под вечер он появился у нас ужинать, и от него снова веяло духами. фрицев. У них он завтракал, а у нас ужинал. Немцы его еще и духами обрызгают.
После разлива Волхова на нашем участке фронта появились полчища мышей-людоедов. Стоит в блиндаже задремать, как тут же эта гадость старается тебя укусить за ухо! Всю зиму мразь отъедалась на убитых, усеявших своими телами все в округе и на нейтралке. А тут всех прибрали. В блиндаже бойцы спят, а один дежурит, чтобы не покусали эти враги. Крыс тоже бегало немало. Этих стреляли из пистолетов, травили, но все впустую. И вдруг подошло к нам подкрепление: сотни, а возможно, и тысячи огромных лесных ежей, которых привлекли мыши как добыча. Идешь по окопу, смотри под ноги: ежи, ежи, ежи.
Пошли сильные дожди. Стало сыро и холодно. В окопах грязь. Все пространство от леса до реки заполнили новые пришельцы – голубые лягушки. Тысячи! Бросишь такую вверх, и она на фоне голубого неба «исчезает». Таких мы в Сибири не видывали. Когда спала вода – на десятки километров в приволховских лесах, лужах стоял лягушачий стон».