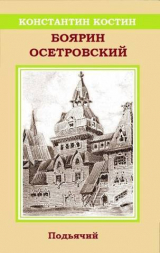
Текст книги "Боярин Осетровский (СИ)"
Автор книги: Константин Костин
Жанры:
Бояръ-Аниме
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Глава 31
Прошло несколько дней. Ржевский отправился в «ссылку», в сопровождении двух «конвоиров», сиречь – моих стрельцов.
Да, стрельцов. Бывшие бойцы рода Осетровских продолжали стягиваться в Москву, приводили своих детей, некоторые – и внуков, так что моя личная армия уже состояла из сотни с небольшим человек. Поэтому я смог подать в Стрелецкий приказ прошение о включении мои ребят в списки полков, так что теперь я гордый владелец стрелецкого полка Осетровских – кафтаны черно-зеленое, «осетрового цвета», колпак и сапоги – зеленые. Стяг моего полка – а у каждого стрелецкого полка было свое знамя, а как же – корреспондировал – надеюсь, я правильно употребляю это слово, у меня по русскому четверка была – с формой: черный поле, белый крест, зеленая кайма. Для пущего понта я заказал вышить им на шапках знак рода, того самого осетра, который на крокодила похож.
Не просто бойцы – орлы! Нафаня, свежеиспеченный сотник, выстроил мое воинство во дворе терема – кафтаны, как шинели, колпаки не такие высокие и остроконечные, как здесь привыкли, скорее, похожи на отороченные мехом вязаные шапочки, ну, те, что в нашем времени носят несколько неприличное название. У каждого – мушкет, через плечо – перевязь, на которой висит сабля, на груди свисают с этой перевязи деревянные футлярчики-берендейки, смахивающие на китайские бамбуковые колокольчики ветра.
Орлы!
Блин, на это орлиное оперенье ушли остатки моих денег и большая часть той нычки, которая была припрятана у Сисеевых и которую нашла своим Золотым Словом девочка Ав-Ав… блин еще раз – надо прекратить ее так называть, а то забудусь и в лицо к ней так и обращусь. Конечно, боярин может обращаться к своим людям, как захочет, хоть «Навоза кусок!», но, если ты хочешь чтобы тебе служили не за страх, а за совесть – лучше так не делать.
Была у меня мысль отправить ее с Ржевским, мол, пусть там сразу золотые россыпи поищет. Но потом подумал, что отсылать маленькую девочку зимой неизвестно куда, чтобы там, в этой неизвестно куде, бродить о лесам и горам в описках золота, попутно отбиваясь от волков и… и кто там еще на Алтае живет. Нет, пусть Ржевский сначала все разведает, от кого конкретно придется отбиваться – тогда уж всем скопом и поедем. А деньги… Есть у меня одна мыслишка, если прокатит – как говорил один гном-любитель пива: «Батистовые портянки будем носить, крем „Марго“ кушать». Кстати, этот крем меня еще в прошлой жизни заинтересовал, я погуглил – это такая разновидность мороженого, украшенное взбитыми сливками, фисташковым сиропом и виноградом.
Но это – если прокатит. А пока катит только мой верный поручик. Уже даже успел сообщить с помощью волшебного зеркала о том, что все в порядке, добрался до переправы через реку в какой-то Гусской волости. Да, я два раза переспросил – так и называется. Таки Гусская, так сказать. Все у Ржевского было в порядке, свою культурную программу, то бишь «вино, женщины и мордобой» он не устраивал, правда, чуть помявшись, он признался, что на постоялом дворе сыграл в кости. Я успел мысленно представить, как Ржевский бредет пешком по заснеженной дороге, таща на себе седло – все, что у него осталось после проигрыша, но, как оказалось, свое реноме он блюл и у заезжих купцов выиграл. В этот раз я представил, как разъяренные купцы гонятся за ним, размахивая канделябрами и обзывая шулером и костарем. И опять обломился – выигрыш был не настолько большой, игроки расстались довольные друг другом и проведенным временем.
Словом – у Ржевского все было настолько хорошо, что это даже настораживало.
Вот у меня все было не настолько радужно.
Нет, так-то – все тихо и спокойно, но…
Меня настораживала та история с Пронскими. На первый взгляд – забавная, практически комедийная ситуация, но, если присмотреться…
Бояре не требуют у других бояр выдачи их людей для наказания. Просто потому, что ни один боярин своего человека не отдаст. Сам накажет, если посчитает нужным, но не отдаст никогда. Спрашивается в задаче – с чего тогда Пронский этого требовал? Да еще угрожая обратиться к царю, если я его требования не выполню? По сути, я попадал в вилку – или я отдаю Ржевского, чем роняю свою репутацию в ноль и лишаюсь возможности обратиться за помощью к кому бы то ни был, потому что выдать своего человека, это зашквар, либо не отдаю и тогда отвечаю за действия своего поручика перед царем. А там ситуация такая, что оправдаться было бы крайне сложно. И царь-государь вполне мог недвусмысленно сверкнуть глазами и лишить меня своего расположения, после чего жить мне останется примерно… ну, сколько там понадобится отряду стрельцов, чтобы доскакать до моего терема? Ну, плюс еще с полчаса жизни, пока бояре решают, кто именно меня прикончит.
Сначала я решил было, что это была хитро подстроенная ловушка, но потом, поразмыслив, решил, что – нет. Не совсем. Во-первых, в боярских стычках бить по чужим людям – дурной тон он же вышеупомянутый зашквар. Во-вторых же – слишком велика цепь случайностей, приведших Ржевского в баню Пронских. Он мог и не решить напиться, пойти в любой другой кабак, клюнуть на первую попавшуюся девку или отправиться к любой другой, не заметить, что Настенька идет в баню… Нет, отказаться от мысли добраться до нее, потому что слишком сложно – Ржевский как раз не мог. Да и если бы сыночек не приперся не вовремя – опять-таки ничего бы не было. Скорее, это не ловушка, а импровизация на скорую руку, прокатит – не прокатит. Хотя… Нет, теоретически, можно было бы постоянно следить за домом, ожидая, пока мой поручик из него выйдет, потом поймать его на Повелении, сделать так, чтобы он напился, потом отправился к Пронским, а там уже Настенька на изготовке и сыночка Олежек – там же. Теоретически – так могло быть. Практически – нет. Здесь наоборот – слишком серьезный план, тот, кто такие планы составляет, не допустит, чтобы все провалилось только потому, что я решил наказать Ржевского сам. Да и Настенька, насколько я знаю об этой боярышне – не та личность, которую можно задействовать в такой схеме. Не те актерские способности и не то умение держать язычок за зубами.
Однако – пришло в голову одному, придет в голову и кому-нибудь посообразительнее. Надо быть готовым к тому, что бояре, не найдя способ достать меня грубой силой, пойдут путем интриг и морем крови… нет, море крови – не из этой песни. Путем интриг и подстав, скажем так.
Блин. Или это все же и была – ловушка? Жаль, что Ржевский уже уехал, нельзя его проверить на то, под Повелением он или нет. А через зеркало Повеление не действует… или действует? Блин, а ведь мы этого ни разу не пробовали! Интересно…
Я вскочил, потирая руки и охваченный жаждой деятельности, и в этот момент в мой кабинет вошел Нафаня:
– Викентий Георгиевич! Там… за вами пришли.
Кого там еще на блинной сковородке принесло? Я шагнул к двери…
Так. Стоп.
– Ко мне?
– Нет, – лицо моего сотника было встревоженным, – За вами. Из Приказа тайных дел.
За каким блином я мог понадобиться этому Приказу? Не то, чтобы встревоженный, но озадаченный, я вышел к гостям.
И понял, что не гости это ни разу.
Вдоль стен сеней стояли мои стрельцы, человек двадцать. Без мушкетов, но каждый держит руку на сабельной рукояти. В центре помещения – боярин, в высокой шапке, золотом форменном кафтане – значит, как официальное лицо явился – и здоровенные мужики в серо-голубых, сизых, кафтанах.
Царские псари. Суровые ребята, которые отвечают за охотничьих псов царской псарни, а там такие зверюги, которые могут медведя заломать. Сворой, не в одиночку, но все же. А еще эти суровые ребята, наверняка под одеждой обвешанные защитными амулетами, как кольчугой, выступали в роли этакой группы захвата, когда Приказу тайных дел нужно было арестовать какого-нибудь боярина за измену.
Я, вроде бы, ни в чем таком замечен не был…
– Боярин Викентий Георгиевич Осетровский, ты обвиняешься в измене царю государю всей Руси Василию Федоровичу. Пройди в карету.
Глава 32
Сижу за решеткой, в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой…
Вообще, конечно, стишки, при всем уважении к Александру Сергеевичу, мою ситуацию описывают неверно. Во-первых – сижу я, конечно, в темнице, но вовсе не за решеткой – за обитой сталью дверью. Во-вторых – темница моя вовсе не сырая, вполне себе комфортная темница – стол, табурет, кровать, с периной, между прочим, и свежим бельем, на столе – подсвечник на три свечи и Библия, в дальнем углу – отгороженный закуток туалета. Прямо не тюремная камера, а гостиничный номер, декорированный под Средневековье. Оно и понятно – держат здесь явно бояр, чья вина еще не доказана точно, поэтому и смысла издеваться над ними нет. А бояр, чья вина точно доказана, в застенках тоже не держат – сразу на кол.
Что-то там у меня еще «в-третьих было»… А, ну да. Это стихотворение школьники у нас неправильно понимают, как человек, учивший его в школе наизусть, могу вас заверить. Всем кажется, что «вскормленный в неволе орел молодой» – это узник так фигурально про себя говорит. Мол, я, молодой орел, сижу за решеткой в неволе и грущу о свободе. На самом деле там после слова «…сырой» – точка идет. Герой стихотворения сидит за решеткой. Точка. А потом уже речь о том, что молодой орел, не фигуральный, а самый натуральный, с крыльями и перьями, под окном клюет что-то там кровавое, мясо, надо полагать. Причем орел этот – вскормленный в неволе, то есть птенцом где-то подобранный и прирученный. Вот герой и говорит ему, мол, братан, мы птицы вольные, пора валить отсюда, это место не для нас…
Я лег на кровати и посмотрел на бревенчатый потолок камеры. Чего только в голову не придет, когда сидишь в одиночке.
Единственное, что мне точно не приходило в голову – это испугаться. Я даже не стал перебирать в голове свои возможные прегрешения, по старой пословице: «У нас любого человека можно, ни говоря ни слова, сажать в тюрьму и никто не задумается, за что. Каждый будет думать, на чем он спалился». Но Полянский, глава Приказа тайных дел, не удержался и обвинил меня в измене. А, хотя «измена государю» сейчас на Руси – обвинение ОЧЕНЬ серьезное и закончится оно может вышеупомянутым колом, страха у меня все равно нет. Потому что про Приказ тайных дел я слышал очень многое – и некоторые вещи были довольно… пугающими… – но никто и никогда не слышал, чтобы Приказ шил липу. Не потому, что здесь работали настолько честные и принципиальные люди – люди как люди – сколько потому, что обвинить боярина в том, чего он не совершал, а это – обман царя. О котором он обязательно узнает. Тут самому можно на колу оказаться. Я же, как вы помните, никакой измены за собой не помню, а, значит – и обвинить меня не в чем. Разборки же между боярскими родами – изменой не считаются.
Поэтому я спокоен, как валун на дороге. Только скучно.
Бесшумно открылась дверь – петли и засовы и у нас, в Разбойном Приказе смазывали регулярно, а уж здесь-то скрипучие петли прям позором были бы – я еще успел подумать, что надо бы подсказать… кому-нибудь… что в двери не мешало бы глазок сделать, а вдруг я стою за углом с табуреткой в руке… Самое неуместное прогрессорство в истории прогрессорства.
– Выходи, боярин. На допрос.
Тюремщики в коротких темных кафтанах, здоровенные, плечистые ребята, крайне похожие на стереотипных средневековых палачей, тоже в масках, вели меня широким коридором, вдоль рядов одинаковых дверей, обитые железом. Наверняка все они – под Повелением лично Полянского, чтобы я не смог приказать им вывести меня на свободу. Да и на шее и под одеждой – не одна связка амулетов, защищающих от… да, пожалуй, почти от любого Слова. Я здесь – далеко не первый боярин, так что система должна быть продумана и отработана.
– Проходи.
* * *
Пыточная. Глупо и странно, но при виде нее я испытал какое-то подобие ностальгии – точно такая же была у нас в подвалах Разбойного Приказа. Просторное помещение с высокими потолками – чтобы, если пытуемый вдруг решит разбушеваться, тюремщики не мешали друг другу, скручивая его. В одном углу горит очаг, радом – груда вухих веников, в другом огромной буквой «П» возвышается рама для подвешивания, рядом, на длинном столе, раскладывает инструмент, повернувшись ко мне спиной, палач, сухощавый мужичок, чуть поодаль – небольшой столик для подьячего, записывающего показания, пока пустой, два широких деревянных кресла, тоже пустуют.
Тюремщики замерли у дверей, уперев в пол алебарды.
– Раздевайся до пояса, боярин, – не оборачиваясь, проговорил палач. Он продолжал перекладывать инструменты, тихо бормоча под нос, какой из них – для выдавливания пальцев из суставов, а какой – вырывания ногтей. Как будто забыл, для чего они.
Знакомая манера, подумал я, сбрасывая кафтан на пол и стягивая рубаху. У нас в Приказе так же делали – перед пытуемым раскладывали инструменты, рассказывая, какой из них для чего. Медленно, не торопясь, пусть его собственная фантазия против него работает. Часто еще до начала собственно пытки допрашиваемый уже доходил до нужной кондиции и был готов рассказать все.
Кстати, калечащие пытки – это не для первого допроса. Они применяются тогда, когда вина допрашиваемого уже установлена точно, но он упорствует и в преступлении не признается. Отсюда и пословица: «Не сказал правду подлинную, скажешь подноготную». Да, вы все верно поняли – «подноготная», от игл, загоняемых под ногти. Вон, тех самых, до которых сейчас палач добрался. Правда, в свое время мне в интернете попадались утверждения, что и слово «подлинная» – тоже от названия пытки. Мол, человека били длинными палками, «подлинниками», поэтому правда, которую он рассказал, называлась «подлинная», мол, полученная под длинными палками. Ерунда, конечно, нет такого выражения «подлинная правда», подлинный – это значит, оригинал, в отличие от копии, и никакими длинными палками в ходе пыток не бьют. Короткими удобнее.
Палач развернулся ко мне, тоже в маске, ага. В конце концов, не каждый пытуемый проникнется к своим мучителям христианской любовью, а шансы выйти на свободу есть у каждого. Выйти – и случайно встретить своего палача на улице. Понятное дело, что последствия такой встречи никому не надо – ни палачу, ни будущему обвиняемому в избиении, ни даже Разбойному приказу.
– Давай руки, боярин.
Мне обвязали запястья веревкой, перекинули ее через верхнюю поперечину рамы и я встал навытяжку. Подтянул палач меня, кстати, не так уж и сильно – не вишу и даже не на цыпочках стою. У нас в Разбойном каждого молодого подьячего и то жестче подтягивали. Ну, чтобы имел представление о том, что такое пытка, на собственной шкуре.
– Приступим? – посмотрел на меня сквозь прорези в маске палач. Знакомые глаза, однако… То-то и голос мне знакомым показался, и Разбойный Приказ все время вспоминается…
– Никодим?
Палач вздрогнул, приблизил свое лицо поближе к моему:
– Викентий⁈
Никодим-Железник! Точно! Раньше он палачом у нас в Приказе был, а потом куда-то делся. А он – вот он, в Приказе тайных дел подвизается.
– Что ж ты, Викентий, – обиженно буркнул Никодим, – Сразу не признался? Я б тогда представление с приспособами и не устраивал бы…
Ну да – на того, кто знает, в чем суть, этот психологический прием не подействует.
– Придется сразу к делу переходить…
Так. Стоп. Палач не может пытать того, кого знает. Во-первых, чтобы исключить риск мести, во-вторых – чтобы палачу не мешали чувства во время работы. Никодим должен доложить начальству, что я его знаю и его должны заменить! Какое еще «приступим»⁈
И – стоп номер два. Пытки не проводятся одним палачом! Должен быть подьячий для записи показаний, должен быть тот, кто ведет допрос. Где они?
Вот тут я, до сих пор спокойный, почувствовал страх. Не так пугают пытки, как непонятность, а я реально перестал понимать, что здесь затевается.
– Кнут да батоги мы, пожалуй, сразу отставим… Федуська!
– А? – отозвался один из тюремщиков.
– Сбегай, пусть дочек моих позовут.
Тот коротко кивнул и скрылся за дверью. Я висел, пытаясь не дергаться, но, от непонимания происходящего определенно начал напрягаться. Все неправильно, пытки неправильные, еще и дочки какие-то. Воображение представило этаких доминатрикс, в кожаных корсетах и чулках, тоже кожаных, ага, которые сейчас начнут охаживать меня плетками. А меня БДСМ, знаете ли, как-то никогда не привлекал. Меня побои не возбуждают, а только злят.
Дверь раскрылась, и в нее вошли…
Дочки.
Две маленькие девочки-близняшки, лет восьми-девяти, в голубых платочках и голубых же сарафанчиках. Лобастенькие, глазастые, ерьезные, как… как маленькие восьмилетние девочки. Я давно заметил, что маленькие девочки выглядят серьезнее и умнее маленьких мальчиков.
– Знакомься, Викентий, это дочки мои, Язва и Баля.
Язва и Баля⁈ Что это за имена вообще⁈
Так. Стоп. Может, это специальная такая психологическая подготовка для тех, кто знает, как проводятся пытки? Для таких как я, в общем. Раскачать меня непонятками, вывести из равновесия, с таким уже проще работать…
Я не успел додумать мысль. Дочки начали РАБОТАТЬ.
Одна из них подошла ко мне и положила руку на мой бок, на ребра. Я успел почувствовать прикосновение тонких прохладных пальчиков…
Вас когда-нибудь било током? Нет, не то легкое дерганье, когда вы случайно дотронетесь пальцами до оголенных контактов в розетке, а такой, серьезный удар током, после которого вам кажется, что вас выкрутило, как тряпку, а позвоночник, пардон, осыпался в трусы? Меня вот ТАК током никогда не било, но, сдается мне, ощущения от легкого прикосновения маленькой девочки были очень, очень схожими.
Я пришел в себя только через несколько секунд, дрожащий и покрытый крупными каплями пота. Мышцы еще конвульсивно подергивались, правый бок горел, как будто его прижгли клеймом. И тут вторая дочка палача дотронулась до левого бока.
Непроизвольно дернувшись, я осознал, что от этого прикосновения никаких неприятных ощущений не было. Наоборот – сразу, резко, как будто ее выключили, исчезла боль в боку, мышцы мгновенно вошли в тонус, я на мгновенье почувствовал себя бодрым и полным сил.
На мгновенье – потому что через секунду до меня дотронулась первая девочка. И меня опять ударило болью.
А потом – исцелением.
И снова – боль.
И опять – исцеление.
И снова – боль.
И снова…
И снова…
И снова…
* * *
Кажется, я кричал. Впрочем, в этом я не уверен. Зато, с дурацкой гордостью могу сказать, что мои штаны остались сухими.
Девочки, эти маленькие твари, наконец отошли от меня в сторону. Никогда в жизни я не бил девочек. И в этот раз такого желания тоже не возникло. Не бить. Убить. Уничтожить.
Я висел на веревках, больно врезавшихся в запястья, ноги меня не держали, я трясся, как в лихорадке. И при всем при том – у меня на теле не осталось ни единого следа.
– Ну что, Никодимка, готов ли наш «боярин» к разговору? – в пыточную быстрым шагом вошел Полянский. Кавычки в его словах прямо ощущались.
В руках у главы Приказа была пачка разнокалиберных бумаг. И это – еще одна неправильность. Не должен боярин сам таскать какие-то бумаги, не по чину ему. А больше никого в камере и не появилось.
– Готов, Григорий Дорофеевич, готов, – согнулся в поклоне палач, – Дочки мои постарались на славу.
Полянский положил бумаги на стол и подошел ко мне. Я поднял голову. С трудом, по ощущениям – на мою голову кто-то надел пудовую шапку из свинца.
– Готов ли признаться, Осетровский?
– Признаться в чем? – прохрипел я. Из уголка рта по подбородку потекла теплая капля. Кровь. Прикусил щеку изнутри.
– В измене, Осетровский, в измене государю. В том, как ты англичанам сведения о сибирских слонах продал.
Глава 33
В первый момент я решил… да ничего я не решил. Мне вообще показалось, что я брежу. Ведь согласитесь – какой-то бред творится, девочки-близняшки из этого… старого фильма, где «А вот и Джеки!», обвинение в измене, сибирские слоны…
Потом я вспомнил о своем прикрытии в Мангазее – и вот тут я да, решил. Решил было, что случайно угадал и где-то в Сибири действительно живут последние мамонты. Царь их охраняет, само существование их держит в секрете, а я так беспалева рассказывал о них всем, направо и налево, в том числе и тем самым англичанам.
Но тут мой бедный мозг, пусть и взболтанный, как яйцо в шейкере, все же заработал. И подсказал мне, что это – чушь и бред. Даже не потому, что никаких мамонтов в Сибири нет. Когда я отыгрывал роль эксцентричного англичанина, спрашивающего о слонах всех встречных и поперечных – я ведь спрашивал всерьез. В том смысле, что задавал вопросы и анализировал ответы так, как учили в Разбойном приказе. Не специально – я просто по другому не умею, за год службы эта манера успела въесться в подкорку. Так вот – я разговаривал со многими людьми, слышал от них многое, в том числе и истории о якобы виданных слонах, прячущихся за кедрами. Но я могу поклясться – все эти истории были пустым враньем. Никто из тех, с кем я разговаривал, не видели мамонтов, и не слышали о них. Ну, кроме как от меня. Значит – в Сибири мамонтов нет.
– Не знаю ни про каких слонов… – прошептал я. Почему у меня голос так хрипит? Я же не кричал… не кричал же, верно?
– Не знаешь… – Полянский улыбнулся, сощурив глаза. Отошел к столу и положил руку на пачку бумаг, – А вот видоки говорят иное…
Глава Приказа тайных дел взял одну из бумаг, отодвинул ее от себя на вытянутой руке и зачитал:
– «…означенный Викешка назывался английским дворянином Варфоломеем Кравучем, очень хорошо по-английски говорил, отчего его даже коренные англичане за своего принимали. Может, и не Викешка он вовсе, а и вправду английский подсыл?…»
Вторая бумажка:
– «…хвастался, что видел в Сибири самых настоящих слонов, на каковых собирается охоту открыть для добычи слоновой кости. А ту кость беспошлинно в Англию вывозить, царя государя о том в известность не ставя…»
Третья:
– «…показывал фигурку, из кости сибирского слона сделанную, говоря, что саморучно того слона добыл…».
Четвертая:
– «…прибыл в Архангельск на английском корабле, что говорит о том, что и вправду англичанам служит…».
И было тех бумажек еще много… В них излагались показания неизвестных мне свидетелей, которые искусно мешали мои реальные слова и поступки – сделанные от имени, мать его, моей маски, англичанина Барти Крауча! – так и откровенные выдумки, ложащиеся в каменную стену обвинения меня в государственной измене, как влитые.
Если все эти бумажки взять и отнести царю – против меня уже можно применять калечащие пытки. И если проводить их будет Никодим под контролем Полянского, который по каким-то причинам твердо уверен как в том, что где-то в Сибири и впрямь живут мамонты, так и в том, что я виноват в том, что с изменническими целями рассказал о них англичанам.
Так. Стоп. Не так. Неправильно.
Но вот что именно тут неправильно – мозг сообразить никак не мог.
– Ну так что, «боярин», – опять эти кавычки, – Викентий? Вот здесь, – перед моим лицом появилась еще одна бумажка, исписанная витиеватым почерком, – твое чистосердечное признание в том, что на англичан ты работал. Вот здесь подпишешь – и закончатся твои мучения.
Полянский кивнул на девочек, отошедших в уголок и, кажется, занявшихся игрой в куклы. Девочки синхронно посмотрели в нашу сторону и покладисто кивнули.
Меня передернуло.
Вот оно. Вот что неправильно. Глава Приказа тайных дел ведет себя так, как будто следствие по моему делу уже закончено, остался сущий пустяк – подпись от меня получить и можно на суд царю отправляться. А так не делается. СНАЧАЛА эти бумаги должны были царю попасть, потом меня к царю привести – измена среди бояр не такой частый случай, каждый из них царем предварительно рассматривается, и только ПОТОМ начинается следствие и пытки. Полянский жестко нарушает процедуру и, когда эти бумажки попадут царю…
Если. Если попадут.
Не может он к царю с моим признанием пойти, как минимум – в немилость впадет, что через голову царя действовал. Как максимум – сам в измене может быть обвинен. Что это означает?
Я поднял взгляд над бумагой:
– Что тебе от меня нужно?
– Подпись… – начал, улыбаясь, Полянский.
– Не то. Что тебе от меня на самом деле нужно?
Глава Приказа тайных дел перестал улыбаться, коротко оглянулся и, наклонившись ко мне, тихо произнес:
– Изумрудный венец, Осетровский. Отдай его мне – и будешь свободным.
Вот оно что…
Вот почему палача не поменяли – нет у Полянского других верных палачей, которых можно в свой план посвятить. И подьячего поэтому нет, и сам порядок допроса нарушен.
Весь этот компромат собран исключительно для того, чтобы выбить из меня Венец. Неизвестно, да, по сути, и неинтересно, на кого в данном случае работает Полянский – на Морозовых, на Дашковых-Телятевских, на кого-то третьего или просто на самого себя. Главное – кто бы из бояр не хотел получить Венец, он не может просто так схватить меня и пытать. Царь-батюшка, дай ему Бог, долгих лет и здоровья, недвусмысленно запретил. Зато можно обвинить меня в измене, привести сюда, выбить признание, а потом поставить перед фактом…
– Не отдашь – я бумаги царю отдам. А тогда мимо плахи с топором тебе никак не проскочить будет.
– Так я же… – прохрипел я, – Не признался…
– Скоро признаешься.
У меня фантомно зажгло в правом боку.
– Не признаюсь, – с уверенностью, которой не испытывал, заверил я его, – Продержусь долго, а там и о том, что меня не по закону схватили, царь государь узнает.
– Да кто ж ему расскажет? – расхохотался Полянский, – Вокруг сисеевского терема все моими людьми окружено, мышь не пролетит, птица не пробежит…
Тут он запнулся, видимо, осознав, что запутался в метафорах. А ты, Григорий Дорофеевич, тоже нервничаешь. По офигенно тонкому льду ходишь, как говорил Кирпич. Если я продержусь еще хотя бы сутки – царь о твоем самоуправстве и так узнает. У него везде свои люди. Царские соколы везде летают и, хотя формально они к твоему Приказу относятся – подчиняются вовсе не тебе. Если продержусь сутки…
Только не продержусь я. Не смогу. Не выдержу.
Полянский не выдержал первым.
– Ладно, – сказал он, наконец, – Раз ты такой смелый да стойкий, посмотрим, как ты запоешь, когда рядом с тобой твою се… твою подружку вздернут да начнут горящим веником парить. А то и вовсе на кобылу посадят. Сейчас за ней людей и отправлю.
Глава Приказа тайных дел резко развернулся и выскочил из пыточной.
Я сжал кулаки. А что мне еще оставалось делать?
* * *
Я лежал в своей уже привычной камере, накрывшись полой кафтана – а смысл одеваться, если скоро потащат обратно? – когда ко мне ворвался Полянский.
– Как⁈ – зарычал он, бледный, как смерть, – Как ты это сделал?
– Не делал я ничего, – ответил я, поднимаясь и чувствуя, как внутри меня медленно разжимается пружина, до этого стискивающая сердце. Потому что кроме Полянского в камере никого не было. Ни Аглашки, ни Клавы, ни Насти – никого. А это значит…
– Как ты с проклятьем договорился⁈ Десять человек погибли, с места не сойдя, десять!
Пружина лопнула с никому, кроме меня, не слышимым звоном. Сработало! Сработало!
* * *
– Голос… – тихо пробормотал я, идя к ожидающим меня конвоирам, который сейчас вывезут меня из терема. Голос промолчала, и я уже облился потом, но тут эта бестелесная стервочка все же соизволила откликнуться.
– Слушаю тебя.
– Все, кто придет сюда и станет здесь командовать или на живущих здесь нападать – не гости.
– Ну ладно, – лениво протянула она.
* * *
Как я уже говорил – на Голос никакой надежды, она своенравная и несговорчивая. Спокойно могла проигнорить мою просьбу. Но нет, умничка моя бестелесная, все сделала правильно, спасла моих девочек, молодчинка.
– Как ты с проклятьем договорился⁈ – Полянский навис надо мной как стервятник над падалью… Блин, не самое удачное сравнение…
– Да никак, – пожал я плечами, – Оно мне не подчиняется.
Не соврал, кстати, чистейшая правда.
– Мы думали, раз ты там спокойно живешь – нет больше сисеевского проклятья, снято… А оно есть!
– Ну есть. Я тут при чем?
Спасибо тебе еще раз, Голос. Обязательно какой-нибудь подарочек тебе придумаю. Правда, не знаю, какой. Что может быть нужно бестелесной девушке? Пряников она не ест, платьев-украшений не носит… А, ну да. Она узнать хочет, кто род Сисеевых уничтожил. Ну вот – в благодарность я ей это и расскажу. Вернее, кто именно уничтожил, я догадываюсь. Романовы. Осталось выяснить зачем – и можно идти, порадовать Голос…
Мою некоторую отстраненность – а вас бы током били целый час, вы бы себя как, нормально ощущали? – Полянский принял за спокойствие, отчего окончательно озверел. Схватил меня за грудки… Озадаченно посмотрел на оставшийся в его руках кафтан – я ж его не надел, только накрылся, помните? – с рычанием отбросил его в сторону и попытался ухватить меня за бороду. Ну, потому что полуголого человека больше особо и не за что схватить. Да и с бородой у него не получилось, короткая она у меня выросла, никак не ухватишь.
Полянский не выдержал, закатал мне оглушительную пощечину и заорал:
– А ну вставай, холоп!!! Сейчас будем тебя под Язвенным Словом держать, пока все бумаги не подпишешь! А как подпишешь – к царю пойду, и тогда с его повелением мы твой терем по бревнышкам раскатаем, хоть с проклятьем, хоть без! И Венец достанем, и Источник, все получим! Только ты этого с отрубленной головой уже не увидишь! А послушался бы, отдал Венец – царь ничего и не узнал бы…
– О чем не узнал бы?
Лицо Полянского стало белым как полотно. Ну, так говорят – сам я здесь никогда не видел настолько белого полотна, как то, каким стало лицо главы Приказа. Потому что вопрос ему задал не я.
Вопрос задал царь.
Царь государь, Василий Федорович, преспокойно стоял в дверях моей камеры, опираясь на посох. И ему было глубоко плевать, что он никак не мог здесь оказаться.
– Не приказывай казнить, государь! – бросился ему в ноги Полянский. Следом на коленях оказался я. Во-первых – потому что как-то некрасиво валяться на кровати, когда царь стоит перед тобой. Некрасиво, да и для жизни опасно. А во-вторых – глаза царя сверкнули, как будто в них на секунду вспыхнули две яркие лучистые звездочки, и меня как будто какая-то неведомая сила сдернула с постели.
Это что, так царское Повеление выглядит?
– Кого не надо казнить, Гришка?
– Меня, царь государь, меня не надо казнить!
– А кого надо? – лениво поинтересовался царя.
За его спиной белели кафтаны рынд, готовых хоть сей момент казнить кого там царь укажет.
Полянский замер. Медленно выпрямился, крупно дрожа:
– Никого… Никого не надо… – пролепетал он.
– Ну как же – никого, – деланно удивился царь, – Я вон, явную измену вижу. За нее кому-то точно голову снести нужно. Велел ведь – не трогать молодого Осетровского, а он – вот он, в подземелье сидит.








