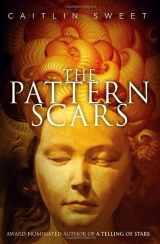
Текст книги "Узор из шрамов (ЛП)"
Автор книги: Кэйтлин Свит
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Кэйтлин Свит
Узор из шрамов
Моей решительной и любящей сестре Саре, которая невероятным образом всегда оказывается права.
Книга первая
Глава 1
В нижнем городе и во дворце эту историю всегда рассказывали так (а я знаю, потому что жила и там, и там): когда Телдару, нынешнему провидцу короля Халдрина, было пять лет, могущественный и глубоко ненавидимый лорд велел ему принести кувшин вина. Мальчик исполнил поручение, ибо он был ребенком, сыном хозяина таверны, и не мог отказаться. Лорд был уже пьян, но залпом проглотил почти все вино. Нетвердой рукой он поставил кувшин, тот качнулся и упал со стола. «Негодник! – закричал он Телдару, который все еще стоял рядом. – Ты принес мне плохой кубок. Посмотри, что за бардак; только провидец сможет в этом разобраться…» Мужчина прищурился, разглядывая темные брызги на дереве, и перевел взгляд на мальчика. «Исправь свою неуклюжесть, – проговорил он. – Развлеки меня. Прочти в этом узоре мое будущее, и я не велю тебя выпороть».
Телдару привстал на цыпочки и вгляделся в поверхность стола. Он нахмурился. «Я вижу волну прибоя, – высоким отчетливым голосом объявил он всем, кто толпился вокруг, и в таверне воцарилось молчание, – а под ней стоишь ты. У тебя неподвижное фиолетовое лицо». Говорили также, будто полуденное солнце, светившее в окна таверны, накрыла тень, и раздался крик совы, как перед наступлением ночи. Некоторые утверждали, что в этих внезапных сумерках были видны звезды, и одна даже упала, свидетельствуя об истинности пророчества.
Лорд уставился на ребенка, а тьма вновь сменилась светом. Спустя миг он поднялся, опрокинув стул, и все его люди тоже встали; их короткие кольчуги шуршали, мечи стучали о лавки. «Убейте его», велел он, указав на Телдару, но никто не подчинился. Он попятился и упал без сознания. Через три дня лорд утонул в ванне своей любовницы. Спустя еще два дня король (отец Халдрина) привел Телдару к пруду провидцев в роще замка.
«А каким был твойпервый раз?», спрашивали меня люди, думая о мальчике, лорде и вине. Я слышала этот вопрос в борделе, где провела свое детство, и у пруда провидцев, где с ним простилась. Долгое время я отвечала так: когда мне было восемь, я увидела женщину, которая плакала у фонтана, где в жаркие летние дни я любила сидеть и болтать ногами. Она стиснула мои руки и воскликнула: «Он уехал, он бросил меня… что же теперь со мной будет? Скажи мне, дитя, скажи, ибо мои глаза не видят…» Когда она это произносила, мой взгляд блуждал по воде, и из каменного отверстия белого фонтана разлетались крупные капли. И я увидела в воздухе ее подобие, только на этот раз она смеялась и подбрасывала над собой ребенка. Образ был золотистым, но сотканным из всех остальных цветов – тонкий и многогранный, как крылья стрекозы.
– Будет ребенок, – сказала я, и по видению, словно по воде, прошла рябь. – Вы будете вместе смеяться. – Слова были как само видение: тяжелые и легкие одновременно. В голове гудело.
Она обняла меня (ее слезы прочертили на моей шее теплую дорожку) и сказала: «Какое замечательное видение», как будто не слишком верила моим словам, но не хотела расстраивать. Спустя год мы снова встретились у фонтана, и на ее коленях сидел рыжеволосый малыш. Она обняла меня и дала первую в жизни серебряную монету.
Так я отвечала людям, которые спрашивали о моем первом видении. Впечатляет меньше, чем история Телдару, но ее золотой свет озарял каждый мой рассказ, а рыжеволосый младенец вызывал улыбку. И это действительно было,только не в первый раз. Поэтому можно сказать, что лжецом я была еще до проклятия.
Настоящий ответ на этот вопрос таков: моя мать снова плакала. Плакал очередной ее ребенок. «Он ушел, – всхлипывала мать, – он меня бросил». Она повторяла это снова и снова, чистя картошку на грязном, исцарапанном столе. «Ушел, бросил», пока картофелина не превратилась в тонкую ленту, свисавшую с ножа. «Тихо!», крикнула она, поворачиваясь к красному от плача младенцу. Нож соскользнул. Она издала звук, похожий на хрюканье животного. На стол и старые выцветшие подстилки из камыша закапала кровь. Она смотрела на нее, потом подняла голову и прошептала:
– Нола. – Ее глаза округлились. – Нола. – Я застыла на маленьком стуле у двери. – Помоги мне. Скажи, что меня ждет, ибо мои глаза не видят.
Когда она произносила эти слова, я смотрела на узор из крови и картофельной кожуры. Через секунду я увидела, как вокруг ее ног собирается тьма, как эта тьма поднимается, окружая колыбель младенца и соломенные постели, где сгрудились дети. Тьма становилась плотнее, и в конце концов в ней не осталось никого. Когда она начала убывать, я поняла, что мне надо сделать вдох, но там, где раньше были люди, сейчас была пустота, и я не могла дышать. Комната казалась такой же и при этом расширилась, а грудь будто набили камнями.
– Нола!
Я лежала на полу. Надо мной маячило лицо матери. Ее рука была поднята, и я отстраненно заметила, что палец обернут грязной тряпкой, пропитанной кровью. Плач младенца казался громче обычного.
– Дитя. – Она прищурилась и пристально взглянула на меня. – Ты что-то видела? Скажи мне. – И я сказала голосом, который не был похож на мой.
На следующий день она отвела меня в бордель и продала старой провидице за мешочек медных монет. С тех пор я не видела ни ее, ни своих братьев и сестер.
И я спрашиваю: какой ответ лучше? Золотистая вода и смеющийся младенец или тьма и набитая камнями грудь? Я знала, как только впервые услышала этот вопрос. Несколько лет я отвечала неправду, но по собственному выбору. Слушатели верили, потому что сами этого хотели. В те первые годы проклятия не было, только невинность и дар, который, как я надеялась, принесет мне радость.
* * *
Я была грязной. И всегда была, но поняла это только теперь. Мне исполнилось десять: десять лет, проведенных в саже и копоти, в навозе из ямы перед входной дверью. Все это въелось в мою кожу и слоями покрывало длинные волосы.
– От волос придется избавиться, – сказала стоявшая передо мной высокая опрятная женщина. На ней было синее бархатное платье и пояс с серебряными петлями. Мои пальцы жаждали прикоснуться к ткани (тяжелой, теплой, представлялось мне, гладкой в потертых местах) и металлу (холодному и твердому). Я сжала пальцы, вонзив в ладони отросшие ногти. – Не хочу, чтобы из-за нее по моим девушкам ползали насекомые.
– Конечно, миледи, – сказала мать за моей спиной. – Я думала об этом; я бы сама ее подстригла, но она такое устроила – ревела, визжала, и я не стала ее трогать, хотя обычно она послушная девочка, миледи, – добавила она фальшивым голосом. – Хорошая, послушная девочка.
«Я никогда не реву и не визжу, – подумала я. – А ты не собиралась меня стричь». Мне очень хотелось сказать об этом, но я не стала – вдруг женщина в синем передумает и выгонит меня из комнаты с занавесками и коврами обратно на улицу.
– Как тебя зовут? – Другой голос; с низкого табурета у камина поднималась женщина. Она была старой, скрюченной и горбатой. Казалось, будто она что-то несет – узел с одеждой или младенца. Ее кожа была очень темной, и я подумала, что она еще грязнее, чем я. – Как тебя зовут? – вновь спросила женщина низким, густым голосом с акцентом. Ее глаза были черными, а зрачки сияли, словно жемчуг (однажды я видела жемчуг на шее богатой дамы). Глаза провидицы. Я знала о них только из сказок, и теперь, когда увидела настоящие, по коже побежали мурашки.
– Нола, – ответила я и повторила громче, – Нола, – поскольку младенец вновь начал плакать, сопеть и кашлять, задыхаясь от слез.
– Я Игранзи, – сказала старуха. Подойдя, она твердыми сухими пальцами ухватила меня за подбородок. Ее кожа оказалась не грязной – она была темно-коричневого цвета с другим, таким же темным оттенком (отдаленно похожим на фиолетовый). Возможно, ее закалило солнце острова или солнце грядущего – какой-то свет, которого никогда не знали в Сарсенае.
– Ты умеешь прорицать, Нола? – спросила Игранзи.
– Умеет, – воскликнула мать, – она умеет! Я спросила ее о своем будущем – хотя, конечно, это было не по-настоящему, я просто сказала, – но этого хватило. Ее глаза стали огромными, черными, вот как ваши, миледи, она упала на пол, а когда очнулась…
– Нола, – Игранзи не смотрела на мою мать. Она не отводила от меня взгляда, а ее голос был твердым, но не грубым. – Ты умеешь прорицать?
– Я… я не знаю. – Видение о ночи и исчезновении было вчера; сегодня я страшилась надеяться.
– Испытай ее, – произнесла высокая женщина. – Немедленно. Если она провидица, и ты ее берешь, она нужна мне чистой.
– Хорошо, – сказала Игранзи, а потом обратилась ко мне. – Иди за мной.
И мы вышли из комнаты через дверь, которая вела не на улицу. Дверь была такой низкой, что даже горбатой Игранзи пришлось наклониться, а полумрак за порогом пах мылом и гнилым мясом. Несколько шагов, и перед нами появился выход, дверной проем, дрожавший в дневном свете. На секунду мне показалось, что он движется, но подойдя, я увидела занавеску, сделанную из лент. Изношенные, выцветшие, почти такие же грязные, как моя одежда, они казались мне очень красивыми. Я хотела остановиться, чтобы почувствовать на коже их легкие прикосновения, но мне пришлось выйти за Игранзи в прозрачный солнечный свет.
Четыре стены из серого камня, увитые желтоватым плющом, два этажа, балконы с деревянными перилами, а в центре – дворик. Увидев это мельком, я взглянула на балконы. К перилам прислонились женщины, смотревшие вниз – женщины и девочки не старше меня. Они молчали, не двигались, и никто из них не улыбался. На них были красные, оранжевые и багряные одежды, а руки (у кого-то бледные, как у меня, у других – темные, как у Игранзи) унизывали тонкие браслеты из меди и серебра. Одежду таких цветов я могла лишь вообразить, а металл, который видела прежде, всегда был серым и тусклым. Я посмотрела на каждую из них и выпрямилась, словно это могло сделать меня чистой и привлекательной.
– Иди за мной, – повторила Игранзи, указав на двор. Он был маленьким и пустым, если не считать деревянных мостков, проложенных по грязи, и низкого скрученного дерева с двумя ветвями и двенадцатью темно-зелеными листьями (я их сосчитала). Под деревом лежал плоский камень.
– Сядь, – велела Игранзи, и я села. Камень был холодным. Положив руки на его бока, я почувствовала, какие они гладкие – свидетельство прикосновений многих пальцев, гладивших его в ожидании.
Игранзи опустилась у дерева на колени. Только сейчас я заметила в его стволе отверстие. Края и верх отверстия были круглыми, дерево вокруг казалось светлее и было украшено резьбой. Зигзаги и спирали, волны и окружности, соединенные штрихами, легкими, но заметными, как вены под кожей. « Узор», подумала я и попыталась погрузить пальцы в камень, уже нагретый моим теплом. Узор был всеми жизнями и каждой в отдельности, всеми временами и единственным; Узор, который могли заметить только провидцы…
Игранзи сунула руки в отверстие, и ее плечи коснулись полосок ткани, висевших на гвоздях над резьбой. Некоторые были не больше ногтя, другие трепетали, как знамена, которые, подумала я, могут нести кошки, если бы они умели это делать. На больших кусках виднелись рисунки, вышитые золотой или серебряной нитью, и они до сих пор сверкали, хотя сама ткань добела выгорела под солнцем и дождем. К некоторым нитям были привязаны локоны, зубы и толстые маленькие мешочки, в которых лежало нечто, чего я не могла увидеть. Подношения или мольбы: « Покажи мне его будущее… покажи мне мое…»
– Что вызвало у тебя видение? – Теперь Игранзи сидела на корточках лицом ко мне. На коленях у нее была круглая медяшка, и она двигала по ее краю правым указательным пальцем; движение казалось одновременно сосредоточенным и бесцельным.
– Кровь моей матери, – ответила я. – Она чистила картошку.
– Ее кровь. – Брови Игранзи поднялись, на лбу образовались морщины. – Ага. Опасный узор. В нем сила: использовать егоили быть использованной им.Это, – она положила мне на колени медную пластину, – не опасно, хотя для тебя пока что слишком сильно. Ты когда-нибудь смотрела на свое отражение в воде или в металле – в зеркале, таком, как это?
Я отрицательно качнула головой.
– Вообще никогда себя не видела?
Я вновь покачала головой. Внезапно, с тяжелым зеркалом на коленях, я подумала, что не хочу на себя смотреть, и закрыла лицо ладонями.
– Тогда, если у тебя есть способности, твое прорицание будет очень чистым.
Я прижимала ладони до тех пор, пока мои губы не сморщились.
– Я не хочу на себя смотреть, – сказала я странным искаженным голосом.
Игранзи улыбнулась так легко и быстро, что я (не привыкшая к улыбкам) подумала, не почудилось ли мне.
– Ты будешь смотреть не на себя. Не на себя, а на других, на тех, чьи лица тоже будут в зеркале. Сегодня, – добавила она, медленно поднимаясь на ноги и качнув горбом – или я себе это вообразила, – это будет Бардрем. Бардрем!
«Имя мальчика», подумала я. Я едва успела рассмотреть балконы и молчаливых девушек, когда показался мальчик. Он так быстро бежал по деревянным мосткам, что его светлые волосы развевались за плечами, а льняные штаны сморщились вокруг голеней. Когда он остановился, волосы упали на плечи, закрыв глаза, и ему пришлось завести их за уши. Как только он повернулся ко мне, пряди снова выскользнули.
– Это Бардрем, – сказала Игранзи, – который, как видишь, всегда болтается где-нибудь поблизости.
– Он мальчик, – выпалила я и покраснела. Я чувствовала это, хотя мои руки уже опустились на колени, накрыв зеркало.
– Верно, – сказала Игранзи. Носком кожаного ботинка Бардрем хмуро ковырял сухую грязь. – Хотя выглядит он милым и изящным, как девочка. Я взяла с него обещание постричься к одиннадцати годам, иначе это сходство может навлечь на него неприятности.
– Игранзи, – произнес мальчик, откинув голову и закатив глаза. Старая провидица улыбнулась, на этот раз широко, открыв желтовато-белые зубы и темные щели между ними, а он ухмыльнулся в ответ.
– Бардрем – поваренок, – сказала Игранзи и подняла руку, когда Бардрем собрался ее перебить. – Хотя на самом деле он поэт. Верно?
– Да. – Теперь он выглядел серьезным, но не так, будто хотел казаться старше (я уже знала, что мальчики обычно хотят выглядеть старше).
– Он поэт и повар, мягкий и сильный, а потому способен выдержать странности видений других людей. Наш Бардрем очень полезен.
Он пожал плечами и вновь улыбнулся.
– Это помогает мне писать стихи. И, – добавил он, – я люблю чужие видения.
Игранзи положила ладонь на его предплечье, покрытое золотистыми волосками (как нити, подумала я, такие тонкие, но все равно видны).
– Ты будешь смотреть в зеркало вместе с Нолой, пока она не увидит и не заговорит.
– Если увидит.
– Что он имеет в виду? – спросила я у Игранзи, хотя не сводила глаз с Бардрема.
– Многие приходят ко мне, утверждая, что у них есть дар прорицания. Многие вроде тебя, кто желает другой жизни, жизни во славе, как у Телдару.
Теперь я посмотрела на Игранзи.
– Я не хочу славы. И не притворяюсь, – сказала я громко, но все равно себе не поверила.
– Хорошо, – сказала Игранзи. – Тогда давайте смотреть.
* * *
Сперва я видела только себя. Я знала, что не должна смотреть, но не могла отвести взгляда: в зеркале была девочка, чьи черты расплывались из-за солнечного света, металла и бликов, но с каждым морганием становились все резче. Ее лицо было острым – нос, подбородок, даже угол бровей. Скулы выпирали наружу. Волосы, как и глаза, имели неопределенный темный оттенок, хотя, когда она моргала, глаза становились больше, поднимаясь сквозь медь навстречу реальной ей…
– Нола. Не смотри на себя. Смотри на Бардрема – ну же, дитя. Смотри на него.
Я слышала Игранзи так, словно была под водой (хотя на самом деле никогда не погружалась, только время от времени полоскала волосы в воде, которая была слишком грязной, чтобы пить).
– Смотри на него.
И я посмотрела, отведя свои глаза-отражения и найдя его.
– Говори слова, Бардрем, – произнесла Игранзи, и его губы раскрылись.
– Скажи мне. Скажи, что меня ожидает…
Он говорит не как мальчик и не выглядит ребенком. Его лицо в зеркале расплывается, растворяются все его очертания. Но вот оно сливается опять, так медленно, словно каждая пора возникает в свою очередь; он возвращается, и теперь это мужчина. Его волосы темнее и коротко стрижены. Губы тоньше. Я пытаюсь разглядеть его лицо, но оно отступает так быстро, словно я падаю на спину. Позади него камни: ряды высоких валунов пугающих выпуклых форм. Он стоит среди них и вдруг издает долгий, резкий, внезапно обрывающийся крик. Глядит на меня, но не на меня-ребенка: на меня-в-зеркале, которая (вижу я, опустив глаза) одета в кремовое платье. С левого плеча спускается толстая рыже-каштановая коса. Я перевожу взгляд на него – это неправильно, как я могу быть рядом с ним среди этих камней? – и он кричит вновь. Может, это мое имя? Я пытаюсь отвернуться, но не могу, потому что мы – наши Иные Я, – находимся в другом месте, которое не существует для нас сегодняшних, но все же является частью нашего Узора. Его рот кривится, он яростно вытирает ладонями слезы. В этот миг из-за камней поднимается птица, яркая алая птица с синей головой и зелено-желтым хвостом. Из его глаз течет кровь, из моих тоже – я чувствую ее на руках, она горячее и гуще слез. Если бы я могла посмотреть вниз и увидеть узор этих капель, если бы я могла, то, возможно, нашла бы обратный путь через эти медные небеса. Я пытаюсь опустить голову, но не могу пошевелиться и смотрю, как он плачет, как истекает кровью; во мне рождается крик, короткий и яркий, подобный той птице, но даже он оказывается взаперти…
– Нола! Нола, вернись…
Я лежала, но на этот раз надо мной склонялась не мать, а Игранзи. Она переплела свои холодные сухие пальцы с моими и стиснула их так сильно, что боль вернула мне способность дышать. Я вздохнула и закашлялась.
– Что ты видела? – Голос Бардрема, детский, высокий, потрясенный. – Твои глаза стали черными и серебристыми. О чем было твое видение?
– Бардрем… – начала Игранзи. И это было все, что я услышала. Я посмотрела на него (он держал волосы, чтобы те не падали на глаза; красные губы были слегка приоткрыты), отвернулась, и меня вырвало. После этого я не видела ничего, даже тьмы.
Глава 2
Я проснулась в постели. В постели,а не на тощей вонючей циновке, лежащей на полу. Я перекатилась на бок, потом на другой (подо мной был матрас, грубый холст, набитый колючей соломой) и услышала треск деревянной рамы.
Я проснулась в тишине и одиночестве. Никакого плача младенцев, никаких детей, прижимавшихся к моей спине, дрожащих от страха или от лихорадки. Матери тоже нет. Я смотрела на деревянные темно-красные стены. Никогда раньше я не видела выкрашенной комнаты, и на миг мое сердце забилось сильнее. Может, я сплю или умерла? Но когда я зажмурила глаза и вновь их открыла, темно-красные стены никуда не делись, как и дверь напротив. В комнате было квадратное окно, очень маленькое, расположенное так высоко, что мне пришлось бы встать на кровать, чтобы в него выглянуть. Я этого не сделала – пока что. Мне было достаточно видеть солнце и решетчатые тени невидимых ставней, дрожащие на красных стенах, словно вода.
Когда дверь открылась, было темно. Я не двигалась – не потому, что боялась, а потому, что до сих пор была уверена: все это – моя выдумка, которая исчезнет, как только мои ноги коснутся лоскутного ковра на полу.
– Ты проснулась. – Женщина в синем платье с серебряным поясом, чьи овальные петли отражали пламя подсвечника у нее в руке (все ее пальцы были унизаны кольцами).
– Да, – ответила я, подумав, несмотря на свое благоговение: «Это же очевидно; как глупо так говорить».
– Сядь, дитя. Дай на тебя взглянуть.
Я подчинилась и в тот же миг поняла, что стала другой. Моя кожа, голая под шерстяным одеялом, которое я прижимала к поясу, была чистой. Я не только видела это, но и чувствовала: во мне была легкость, глянец, из-за которого я ощущала себя словно гладкая металлическая вещь. Волосы исчезли. Я не чувствовала их тяжести на спине, а когда подняла руку, на голове оказалась только густая плотная щетина. На секунду я вспомнила косу из своего видения, но потом провела по черепу кончиками пальцев и заставила себя об этом забыть.
– Гораздо лучше, – сказала женщина. Она поставила подсвечник на низкий умывальный столик с чашей, второй и последний предмет мебели в комнате. На поверхности воды танцевали маленькие огоньки. Чистая, ожидавшая меня вода.
– Ты остаёшься, и это очень хорошо, потому что Игранзи старая и страшная, и люди не хотят платить, чтобы она смотрела их судьбы в зеркало. А ты… – Она скрестила руки, склонила голову и сомкнула губы, разглядывая меня. – По крайней мере, ты молода. Однажды ты можешь стать достаточно симпатичной, чтобы выманивать монеты из людских кошельков. Но одной из моих девушек ты не будешь никогда. Ты не станешь с ними общаться, и тебе не придется ложиться с мужчинами за деньги. Место провидца в стороне, а если ты об этом забудешь, тебя выпорют. В конце концов, важна не твоя плоть, и я не буду бояться тебя, как остальные.
Она сделала паузу; чтобы перевести дух, подумала я. Никогда не слышала, чтобы люди говорили так много.
– Ты ничего не хочешь мне сказать, пока я здесь?
Мне стало ясно: теперь я в безопасности. И порка меня не пугала. Я расправила голые плечи и посмотрела ей прямо в глаза.
– Я хочу есть.
Ее брови взлетели вверх. Мне начинало нравиться, какой эффект я произвожу на взрослых.
– Наглая девица, – лениво произнесла она. – Ты получишь свой ужин. Наверняка это будет лучшая пища, какую ты ела в своей жизни. Что-нибудь еще?
– Моя мать. – Я даже не знала, что собиралась сказать эти слова, и их неожиданное появление – и внезапная дрожь в голосе – вогнали меня в краску. Я крутила одеяло в руках, таких чистых, до самых ногтей, что едва их узнавала. – Она ушла?
Женщина кивнула.
– Сразу, как получила медяки.
– Она обо мне не говорила? – Голос больше не срывался, но я все еще чувствовала дрожь в груди, смущаясь и злясь одновременно.
– Нет. – Она взяла подсвечник. Петли на поясе издали тихий поющий звон. Она подошла к двери и посмотрела на меня. – Твоя мать – ужасная женщина. Ты должна быть благодарна, что Узор привел тебя к нам.
– Да, – сказала я и вновь осталась одна, во тьме еще более глубокой, чем прежде, обнимая себя и чувствуя, как слезы, которых я не понимала, капают на мою новую чистую постель.
* * *
Девушки действительно меня боялись. При встрече в узких коридорах борделя они отступали к стенам. Если они были одни, то опускали глаза, а если нет, замолкали, принимаясь шептать и переговариваться у меня за спиной. Многие касались своих длинных волос. (Мои стригли раз в несколько недель, чтобы клиенты не обращали на меня внимания, хотя однажды Бардрем сказал: «Некоторым нравятся мальчики, так что иногда оборачивайся, особенно в темноте»).
В начале я почти не видела мужчин. Большую часть времени я проводила во дворе с Игранзи, а когда на улице становилось слишком холодно – в ее комнате, такой же маленькой, как моя, но наполненной удивительными вещами: морскими раковинами, подвешенными на цветных нитях, масками, вырезанными из огромных листьев, подсвечниками из вулканических камней в форме змей и рыб. В остальное время я сидела на кухне, где до хрипоты надрывался худощавый повар Рудикол, а Бардрем мог стащить для меня кусок мяса с приправами, яблоки или персики: пищу, предназначенную для мужчин, не для меня.
Мужчины, которых я видела в те первые месяцы, приходили к Игранзи. Она всегда отсылала меня прочь, но я подсматривала за ними с дорожки или от стены. Я оборачивалась через плечо, а Игранзи кричала: «Нола! Уходи!», даже не глядя в мою сторону. Мужчины были разными. Один – высокий, рыжебородый; на секунду мне показалось, что это мой отец или человек, которого мать за него выдавала. Но когда я с ним поравнялась, то поняла, что он моложе: его круглые глаза под рыжими бровями метались из стороны в сторону, и хотя я испытала облегчение, было немного жаль, что это не он – мне всегда нравилось, как он подмигивал, и как блестит его серебряный зуб.
Другой мужчина был низким и таким толстым, что его живот под зеленой шелковой туникой колыхался из стороны в сторону. Он дышал со свистом и пах кислятиной. Я уставилась на шелковую одежду и золотую цепь, едва видневшуюся под одним из его подбородков, и подумала: «Вот так выглядят богачи?»
– Почему к тебе приходят богатые мужчины? – однажды спросила я Игранзи. Стояла осень, три листа на дереве стали алыми, один – желтым, а остальные уже опали.
– По тем же причинам, что и все остальные, – ответила она, – в том числе женщины. Причины две, и скоро ты сама их поймешь. Они хотят услышать то, что, как им кажется, они знают о собственном Узоре. Или то, что их удивит.
– А если им не понравится твое видение?
Она улыбнулась своей беззубой улыбкой и взяла с моих колен зеркало. (Она не разрешала мне прорицать – да я и не хотела, – но говорила, что мне нужно привыкнуть к его ощущению).
– Многим не нравится. Многие угрожают, топают ногами, хватают и трясут, пока у тебя не закружится голова. Поэтому приходится учиться спокойствию. Ждать, когда пройдет их гнев, если он внезапный, или тихо говорить, прежде чем он накопится. Ты должна сказать: «Узор не определяется раз и навсегда. Я вижу истину о том, что было с тобой раньше и есть сейчас, и, быть может, твое будущее. Но в нем ничего не определено – оно лишь ожидает».
Я покачала головой:
– Нет, Узор определен. Так все говорят.
Игранзи молчала, заворачивая зеркало в квадратную синюю ткань с вышитыми на ней золотыми спиралями. Она положила его внутрь дерева и повернулась ко мне.
– В Сарсенае действительно так считают. Но не там, откуда родом я. Мы считаем, что хотя видения прорицателя – правда, не обязательно все случится именно так.
Я вновь покачала головой и, должно быть, нахмурилась, потому что Игранзи засмеялась:
– Однажды ты поймешь, хоть ты и местная, – отчего я нахмурилась еще больше.
Но чаще ее уроки были простыми.
– Перед тем, как прорицать, ты должна хорошо поесть, но ничего жирного и тяжелого – иногда сила видений может вызвать рвоту. В этом ты уже убедилась, верно?
(Она никогда не расспрашивала меня о том первом видении, хотя у нас с Бардремом это превратилось в повод для шуток: «Нола, расскажи. Нет? Ладно, а сегодня? Может, сейчас?»)
– Во времена бедствий – войны, чумы или голода, – люди хотят знать судьбы своих детей. В остальное время они спрашивают о себе.
– Когда начнутся месячные, твоя сила возрастет, особенно когда ты будешь прорицать женщинам. Кровь дает силу.
В те первые месяцы она не разрешала мне использовать зеркало и обучала другим методам прорицания. Среди них был расплавленный воск, который наливали в чашу с холодной водой, и кухонные отходы: крошки старого хлеба и куриные кости, которые подбрасывали в воздух (их принес Бардрем и огорчился, узнав, что ему нельзя остаться).
– Когда кто-то просит тебя прорицать, поможет все, что способно образовывать узор. Каждый способ обладает собственной силой, и каждый провидец реагирует на них по-разному.
– А когда я попробую? – спросила я, вертясь на ярко раскрашенной табуретке у ее кровати.
– Позже, – ответила она, – когда будешь знать больше.
– Но я хочу сейчас, с воском – это красиво.
– Нет, Нола. Еще рано.
– Телдару пришел в замок всего через два дня после того, как узнал, что у него есть дар! Король не заставлял его ждать. Просто покажи. Мне даже не обязательно делать!
Она смотрела на меня черными глазами с жемчужинами внутри. Она не рассказывала, как это – видеть ими, – хотя я спрашивала. Она говорила мало, только простые вещи, которые, возможно, я и сама бы однажды поняла. Я замерла и уставилась на нее.
– Два месяца назад, – медленно произнесла она странным голосом, в котором не было ничего сарсенайского: я слышала глубину и акцент, казавшийся диким и древним, – ты жила в грязи. Два месяца назад тебе было восемь, и скорее всего ты умерла бы от болезни или от рук собственной матери. Восемь лет… хорошо, если тебе удалось бы дожить до девяти. А сейчас ты сидишь здесь, забыв свое «раньше» и даже свое «сейчас», потому что «завтра» искушает тебя так же, как и любого, кто приходит ко мне во двор.
Моя губа задрожала, и я прикусила ее. Мне не хотелось, чтобы она это видела, но она, разумеется, замечала все.
– Нола. Дитя. – Ее обычный голос и улыбка. – Когда я пришла в Сарсенай, мне было пятнадцать. Чужая земля, чужие люди, и я одна. Я помню, что это такое – хотеть и нуждаться, забывая обо всем остальном. – Она поднялась с кровати и погладила меня по щеке. Прежде она меня не касалась. Сейчас я думаю, что никто и никогда не касался меня с такой нежностью – возможно, отчасти поэтому я дернулась в сторону. Она отошла в угол, а я рассматривала ее ковры, маленькие, со свалявшимися кончиками разноцветных нитей таких цветов, которых я прежде не знала.
– Наберись терпения, – проговорила Игранзи. Я услышала, как она наливает воду в приземистую оранжевую чашку с черным крабом. Мне нравилась эта чашка: казалось, клешни краба поднимаются над поверхностью, готовясь ущипнуть тебя за нос или вцепиться в губы.
– Даром прорицания сложно обладать, а ты еще очень мала. Когда ты выучишься, времени будет много. Прояви терпение, Нола. Хорошо?
Я оторвала глаза от ковриков и посмотрела на нее.
– Хорошо, – искренне ответила я. Я верила, что постараюсь быть терпеливой, сдержанной и послушной.
Но я была мала, и у меня ничего не получилось.
* * *
Все началось со стихотворения.
Есть девочка, и ей нужны твои глаза.
Взгляни на нее в зеркало или брось зерна.
Я ей скажу, что ты ответишь на вопрос.
Никто и никогда об этом не узнает.
Мне понадобилось несколько минут, чтобы прочесть стишок: читала я медленно (когда-то давно меня учил отец; сперва мать над нами смеялась, а потом разозлилась), и написан он был крошечными буквами на клочке бумаги величиной с мою ладонь. В кухне было дымно, хотя ставни и дверь были открыты настежь, впуская осенний воздух.
Только я перестала щуриться, разглядывая этот клочок, как Бардрем бросил мне на колени еще один. Я уставилась на него, но он умчался прочь, сворачивая у кухонного стола к котлу и держа в руках подносы с морковью и картофелем. Рудикол кричал:
– Моя старуха и то шевелится быстрее, а мне даже не приходится ее пороть!
На втором листке стихотворения не было. Там говорилось: «Обычно мои стихи серьезные. Этот похож на шутку, но то, о чем в нем сказано, правда. Дождись меня. Бардрем».
Нахмурившись, я перечитала стишок. Кажется, я начала понимать, о чем идет речь, хотя это казалось невозможным. (Мое сердце билось быстрее, подскакивая до самого горла).








