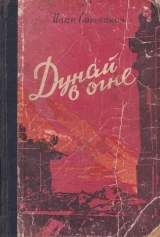
Текст книги "Дунай в огне. Прага зовет (Роман)"
Автор книги: Иван Сотников
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Назвали-то как?
– Виктором, пусть, говорят, будет победителем новой жизни над старой. Виктором!
– Значит, самый юный новосел освобождаемого Пешта.
– Вас к аппарату, – протянул трубку телефонист.
– Товарищ подполковник, – негодовал Думбадзе, – вот звери, а!..
– Да не тяни ты, говори… – торопил его Жаров.
– Мальчишку лет четырех из окна с третьего этажа на мостовую вытолкали. Я не удержался и прямо из батареи по ним в окна.
– Бей, Никола!..
После двухдневных боев полк Жарова вышел к проспекту Андраши. Прямая стрела магистрали пересекает почти весь Пешт, а внизу под землею здесь пролегает метро.
– Это лучший проспект столицы, – сказал молодой Ференчик. – Но здесь не живет ни один рабочий.
– Теперь, Йожеф, – ответил Жаров, – ваш Пешт. Рабочие строили этот проспект, им и жить тут.
– А знаете, я еще вылечусь и поработаю на свою власть. Надо – я и воевать пойду за нее.
Поздно вечером Жаров заглянул в подвал разведчиков. Они только что поужинали и шумно беседовали за еще не прибранным столом.
– Да у вас гость тут, – рассмотрел Андрей венгра в гражданском.
– Поговорить зашел, – свой человек, инженером на машиностроительном будет, коммунист, – сразу выложил все Голев.
Со стула встал невысокий мадьяр, с чисто выбритым лицом, на котором маленькие, чуть заметные усики. Он степенно поклонился и с достоинством произнес:
– Имре Храбец.
Жаров пожал руку, и они разговорились.
– Если б не ваши солдаты, Будапешт умер бы с голоду, – переводил Орлай слова Имре, когда заговорили о жителях столицы. – Немцы вывезли все, а что не вывезли, уничтожили.
– У советских людей доброе сердце.
– Нам ли не знать!
– Вы состоите в партийной организации? – сменил Жаров тему.
– Да, у себя на заводе.
– Чем же сейчас занимаются коммунисты?
– Готовят к пуску завод, они убеждают жителей не медлить и восстанавливать все разрушенное. Они берут на учет остатки продовольствия и помогают местным органам наладить снабжение. Ваша армия все трофеи отдает жителям, и они хоть что-нибудь получают. Знаете, как никогда, дел много.
Он увлеченно рассказывал о жизни военного Пешта. Только на передовой, под самым огнем население отсиживается в подвалах. А чуть сзади, где потише, оно давно на улице, на заводах, в мастерских. Весь трудовой Пешт всем сердцем торопит Советскую Армию и, чем может, помогает ей.
Жарову невольно вспомнился сегодняшний случай. Роты ушли вперед. Пушки отстали. Им невозможно пробиться сквозь горы кирпича, битое стекло, спутанную проволоку, вывороченные рельсы трамвая. Березин спустился в подвалы двух-трех зданий и попросил помочь. Ему даже не пришлось агитировать. Все взрослые и масса ребятишек поднялись наверх. Нет, они явились не из страха, им никто не угрожал, не приказывал даже. Они пришли по зову своей совести.
Но Имре рассказал и про других. Вот тут близко в подвале отсиживается банкир Пискер. Уехать он не успел. Этот день и ночь об акциях хнычет, ценные бумаги оплакивает. Или еще – один промышленник Кислингер. У него макаронная фабрика. Так он и не хочет пускать ее. Видите ли, какие деньги будут, не знает:
– А ну, разыскать! – приказал Жаров Якореву.
– Зато многие, – продолжал инженер, – просто воспрянули духом.
– Смотрите только за пискерами да кислингерами: эти оружия не сложат, – предостерегал Березин.
Подвал, в котором отсиживался фабрикант, оказался рядом, и Максим быстро доставил его к Жарову.
– Бела Кислингер, – угодливо кланяясь, снял он шляпу.
– Почему не работает фабрика? – в упор спросил командир полка.
– Война же! – развел тот руками, отступая шаг назад.
– А вы видите, люди голодают, видите? – наступал на него Жаров.
– Да, но…
– Фабрика разбита?
– Да нет, то есть, крыша только… – путаясь, заметался Бела.
– Так вот, завтра приказываю пустить фабрику! Продукцию сами реализуйте, чтоб жителям поступала. Слышите, чтоб вся поступала. Как сделать, со своими властями согласуйте.
– Пустим… согласуем… – кланялся он, пятясь к двери.
– Не пустите – отберем фабрику, сами пустим, пригрозил Жаров.
По дороге в штаб Андрей поднялся на верхний этаж, где размещен наблюдательный пункт.
Угрюм и мрачен вечерний Пешт. Огненной дугой стоит над ним пламя пожарищ. Бесконечны руины зданий, еще не остывших от взрывов. Хмуро смотрят провалы искалеченных стен и мертвые глазницы окон. Несмолкаемо гудят бомбардировщики, и мощные удары бомб сотрясают землю и воздух. Зябко пушит январская поземка. Всюду беспрестанный треск пулеметов и автоматов и несмолкаемый гром артиллерийской пальбы в том самом темпе, по которому фронтовой человек безошибочно узнает идущее наступление. Взглянешь на город сверху – живой вулкан огня и дыма.
Немцы сопротивляются с отчаянием смертников. Они подрывают памятники, уничтожают скверы и парки, рушат громады зданий, предавая их огню. Дай им время – они камня на камне не оставят в городе. Его израненные и покалеченные кварталы, объятые дымом и пламенем, – подлое дело их рук, ничего не щадивших в миллионном городе чужой им страны, ненавистного км народа.
6
Агитаторов полка Березин собрал за фасадом высокого здания. Он напомнил волнующие сводки последних дней, ликующие салюты Москвы. Весь Дунай в огне невиданных сражений. Возрождается освобождаемая Венгрия. В Дебрецене уже собралось венгерское национальное собрание. Оно приняло закон, ликвидирующий латифундии, и всю землю передало крестьянам. Венгрия объявила войну фашистской Германии. Все это – прямой результат великой миссии, с которой идет по зарубежным странам могучая армия-освободительница. Пусть об этом знает каждый солдат. Пусть наши успехи вселят в него еще большую уверенность и бодрость. Девятый удар неизбежно закончится полным освобождением всей Венгрии.
Максиму и Павло Березин поручил провести политическую информацию среди жителей квартала, в котором шел бой. Сам он отправился с другим переводчиком.
Вблизи передовой жители дни и ночи отсиживаются в бункерах. Агитаторы и отправились к «бункерянам», как шутя называл их Павло. Но едва спустились они вниз, сразу услышали бурные рукоплескания. В просторном подвальном помещении собралось до сотни человек. Люди скучились на койках и нарах, стояли в проходах и увлеченно слушали молодого венгра, выступавшего с табурета. Неизвестным агитатором оказался Имре Храбец.
– О чем он? – тихо спросил Максим у Павло.
– О национальном собрании в Дебрецене.
Имре говорил с огоньком, и ему часто аплодировали.
– Венгерское правительство объявило войну Германии! – произнес Имре Храбец, и ему зааплодировали еще с большей силой.
На табурет взобрался пожилой мадьяр.
– Смотри, Миклош Ференчик, – прошептал Максим, подтолкнув в бок Павло.
– Мы приветствуем новое правительство, – говорил меж тем Миклош, – и рады, что оно начинает с демократии для народа. Гитлеровская Германия – злейший враг Венгрии, и весть о войне с ней обрадует всех. У нас будет своя Красная народная армия. Вот сын, – указал он на Йожефа, стоявшего рядом, – мы вместе пойдем добровольцами против немцев, как только начнут создавать такую армию. А коммунистам, – повернулся он к агитатору, – коммунистам прямо скажи – весь простой народ душою с ними!
Бункер долго аплодировал.
– Товарищи, – сказал Имре Храбец, – будьте готовы к борьбе против гитлеровской Германии. Боритесь с разрухой. Коммунистическая партия призывает вас к делу и бросает клич: – Венгрия принадлежит вам, стройте ее собственными руками, укрепляйте, не жалея сил! Коммунисты везде и всюду будут на страже ваших интересов.
Агитатор смолк на минуту, прислушиваясь к гулу одобрения. Кругом небогато одетые люди с умными, понимающими и гордыми глазами, и в них ярко вспыхнувшие надежды горят уже верой в большой день, которым начинает жить их родина.
– Поклянемся же, товарищи, быть верными народу, – продолжил с табурета агитатор, – работать для народа, поддерживать только истинно народное правительство!
– Эшкюсюнк![18]18
Эшкюсюнк (по-венг.) – клянемся.
[Закрыть]
– Эш-кю-сюнк! – отзывался стоголосый бункер.
– Эльен мадьяр демокрация![19]19
Эльен мадьяр демокрация! (по-венг.) – Да здравствует венгерская демократия!
[Закрыть]
– Эльен Мадьярорсак![20]20
Мадьярорсак (по-венг.) – Венгрия.
[Закрыть]
– Эльен Москва!
– Мос-ква! Мос-ква! – долго скандировал бункер.
– Смотри, Павло, – тихо шепнул Максим, – чем не друзья! А ты расправы с ними жаждал.
– Этих зачем трогать! – растерялся молодой гуцул. В душе у него вспыхнуло вдруг доверие к этим людям. А он хотел уничтожать их. Вот дурной! Нет, эти не стали б мешать Павло жить и учиться, эти не стали б убивать его отца, угонять его Василинку. Не стали бы! Этим он верил.
Максим и Павло отправились в соседний бункер. В нем также тесно и многолюдно, и их заметили не сразу. Молодой венгр с бесцветным сонно невыразительным лицом и в долгополом одеянии, похожий на монастырского служку, слащаво и нараспев читал какую-то книгу. Его покровительственно слушали флегматичные джентльмены в манишках и их млеющие дородные супруги в пестрых халатах. Повыше, на нарах, размещался простой люд, а на самом верху хозяйничала бойкая детвора. Заунывно молитвенную обстановку нарушил вдруг шустрый мальчонка: забравшись под потолок и свесив с нар свою курчавую голову, он уставился на грузных аристократов и стал вызывающе напевать Петефи, положив стихи поэта на им самим, мальчишкой, придуманную музыку:
Как здоровье ваше, баре господа?
Шею вам не трет ли галстук иногда?
Мы для вас готовим галстучек другой!
Правда, он не пестрый, но зато тугой!
– Смотри, Максим, – тихо сказал Павло, толкая офицера в бок, – он готов, шельмец, вешать этих господ.
На мальчонку цыкнули, и он примолк было, но вдруг снова озорно выкрикнул, сопровождая слова свои уморительными жестами:
– Правда, он не пестрый, но зато тугой! Ой, тугой!
Внизу негодующе запротестовали. Когда стихло, служка продолжил чтение. О чем, он, кивнул Максим в его сторону. Об ангелах? Ах, о том, чем они питаются. Ну и ну! По мнению «эрудированного» богослова, им нипочем любая пища, и все ангелы глотают ее так же, как и люди. Впрочем, осваивать не могут: пища не расстраивает им желудки и не становится частью их божественного тела. Умора просто. А чуть погодя Павло переводил дальше: ангелы, оказывается, и целуются, только… без страсти, без огня, так сказать, совсем не женятся и замуж не выходят… Максим и Павло захохотали, не сдерживаясь.
– Откуда ж ангелята берутся? – не стерпев, созорничал Павло, направившись в сторону респектабельных джентльменов.
– Богохульствующий да будет наказан! – встал со скамьи высокий монах в черной сутане и с постной миной на желтом лице. Тонкие губы его широкого рта зло вздрагивали. – Книгу эту написал я сам, и в ней святая истина! – сказал и попятился, ибо только теперь разглядел, что его противник, так чисто говоривший по-венгерски, оказывается, советский солдат.
– Пане капеллане, вы! – ахнул Павло, сраженный такой неожиданной встречей. – Вот где привелось свидеться. – Так это ж, Максим, наш иерей-иезуит, помнишь? – обернулся Орлай к Якореву.
– Это какой тебя выдал хортистам?
– Он самый.
Человек в сутане протестующе поднял руку.
– Кто вы такой? Я не знаю вас.
– Nil admirari – ничему не следует удивляться, – напомнил Павло иезуиту его излюбленную латинскую фразу. – Неужели не узнаете, капеллане? Павло Орлай, собственной персоной, да-да, тот самый, которого вы запрятали в хортистский застенок.
Иерей отшатнулся, и желтое лицо его мгновенно побелело.
– Это обманщик, товарищи, злобный хортист! – возвысил Павло голос, обращаясь к трехэтажному бункеру. – Это папский прихвостень, жандармский соглядатай, выдававший старым властям честных людей. – Голос солдата накалялся все больше и больше. – Может, скажете, выдумка все? А вот смотрите, – и Павло мигом скинул шинель, гимнастерку, обнажив грудь и спину в лиловых рубцах и еще не выцветших кровоподтеках. – Это его роспись, это он разрисовал меня руками хортистских палачей. Видите, какой он ангелист, расписывающий ангельское смирение. Взгляните только на его душу, она чернее, чем у самого злого демона. Ты думаешь, я простил тебя? У-у, ты!.. – шагнул он к капеллану, замахнувшись автоматом.
– Остынь, Павло, – схватил его за руку Якорев, – остынь, дорогой товарищ: ты же советский воин!
– У-у, змея! – опуская автомат, прохрипел Павло.
– Эти руки, – поддерживая его за локти, заговорил Максим снова, – честно работали и честно воюют, и их незачем марать, Павло. Переводи, пусть все слушают.
Нахлобучив шапку, гуцул кольнул иерея из-под мохнатых бровей злым взглядом, упрямо поджал губы.
– Долой, долой! Судить его! – загудел стоголосый бункер, и слова эти еще больше перепугали иезуита в черной сутане. Он весь как-то съежился, чуть не присев на пол, и поднял над головой руки, словно защищаясь от ударов.
– Vox populi – vox dei – глас народа – глас божий! – громко сказал Павло. Но мораль его Максиму показалась неубедительной, и захотелось скорее заговорить о людях, о всем, что им близко и дорого. Легонько отстранив Павло, он повел рассказ о войне, о победах советской армии, о свободе, которую обретает обновляемая Венгрия, о первых декретах дебреценского правительства. Берите эту свободу, укрепляйте ее, стройте по своему нраву. Советские люди поддержат любое честное начинание. Весь бункер гудел от аплодисментов, и чувствовалось, люди здесь думали не об ангелах и совсем не о том, чем они питаются и как целуются.
В самый разгар беседы наверху грохнул снаряд, и все содрогнулось, с потолка и стен посыпалась штукатурка.
– Вот он, Vox dei! – прошипел иезуит. – Глас божий, карающий нечестивцев! – повторил он по-венгерски. Но слова его заглушил новый взрыв, сразу погас свет и содрогнулась земля. Послышались крики детей и плач женщин. Кое-кого поранило. Когда зажгли свет, у развороченной стены, опрокинувшись навзничь, лежал человек в черной сутане. Он был мертв.
– Выход завалило! – истошно завопил грузный мужчина в высоком котелке. – Заживо погребены.
Кажется, не было силы, которая смогла бы заглушить вой и визг, вспыхнувший в бункере…
Угодив в угол дома, немецкая бомба пробила перекрытия всех пяти этажей. Разорвалась она над бункером, и в каменном мешке осталось много мадьяр. Сквозь гору битого кирпича и камня снизу глухо доносились истошные вопли детей и женщин. Голев собрал бойцов и поставил их на раскопки. Вопли заживо погребенных несколько притихли. Когда же образовалось отверстие, достаточное, чтоб через него пробрался человек, жители по одному начали выбираться наружу.
– Детей сначала, детей, – торопил Голев.
Вдруг внизу снова послышались детские вскрики и визг женщин.
– Куда! – закричал Тарас, – марш обратно! – Пака не вытащу всех детей, никто не вылезет, – и он обратно затолкал строптивого нарушителя, не обращая внимания ни на какие его попытки объясниться из-под котелка, побелевшего от известковой пыли.
За женщинами и детьми первым выкарабкался сухопарый человек в котелке, с бледным и длинным лицом и с глазами, в которых еще не остыло выражение: успеть бы! Вынув из кармана чистый батистовый платок, он долго вытирал гладкое лицо и лысый череп, покрытый крупными каплями пота. Солдаты сразу окрестили его «джентльменом».
Приведя себя в порядок, он решительно шагнул к Голеву.
– Пауль Швальхиль, американский делец! – представился он, чуть приподымая котелок. Господин из Нью-Йорка самоуверен, и в правильных чертах его лица с быстрыми серыми глазами есть даже что-то привлекательное, а приглядишься – оно исчезает: в мимике, в его манерах все вылощено и высокомерно до такой степени, какая характеризует людей, не сделавших в жизни ни одного доброго дела.
Все заинтересовались неожиданным «союзничком». Действительно, американец. Опять агент крупного концерна. Сколько они оставили их в порабощенных гитлеровцами странах. Он представитель и акционер американской фирмы «Стандарт-ойл». Хороша акула! На этот раз не только приказчик, но и хозяин.
Давно ли он здесь? Очень давно – свыше десяти лет. Он специалист по нефти, и благодаря ему ее добыча намного выросла. Что, он работал на гитлеровцев? Да нет, господа офицеры, видно, шутят. Он просто занимался делами фирмы, добывал нефть, поставляя ее другим фирмам. Обычная торговля. Отличный бизнес. Нет, это не помощь врагу. Но война не может остановить деловой жизни. Нет-нет, он истый демократ, как и все американцы. Ведь самый высокий закон демократии – не трогать того, что принадлежит другому.
– Это закон империалистического разбоя! – оценил Максим его «демократию». – По такому «высокому» закону отданные венгерским крестьянам земли надо опять отдать земельным магнатам, а всем банкирам и фабрикантам дать полную свободу выжимать из народа последние соки. Хороша свобода!
– Дудки, не выйдет! – выслушав перевод Орлая, не сдержался Голев. – Поворота к старому тут не будет.
Пауль что-то бормочет о космополитическом демократизме, о долге союзников быть терпимыми к другим взглядам. Якорев без обиняков объяснил ему, что «союзником» его считать никто не может и не хочет и что его просто судить надо, судить как военного преступника.
– О, господин офицер просто шутит, – расшаркался американец. – В таком случае весь Уолл-стрит судить надо: его капиталы живут и действуют во всех воюющих странах «оси».
Но он тут же убедился, что с ним не шутят, вобрал голову в плечи и стал нервно вытирать батистовым платком мокрую лысину.
Уже потом выяснилось, что он с задунайских нефтепромыслов и приехал, чтоб за бесценок скупить акции, которыми еще владели некоторые дельцы капиталистической Венгрии. Но Советская Армия наступает столь быстро, что ему не удалось обделать выгодное дельце. Он так и выговорил «дельце». Помешали, оказывается.
– Ну, и «демократ»! – качал головою Голев.
– Чего ты хочешь, – иронизировал Соколов, – только в фамилию вдумайся: шваль и хиль!
– Американец тоже! – даже разозлился Матвей Козарь.
– Какой он американец! – запротестовал Максим. – Настоящие американцы либо куют оружие, либо штурмуют сейчас линию Зигфрида. С теми и я заодно. А таких…
– А таких, – перебив, заключил Глеб, – таких я зубами рвал бы. Думаю, настоящие американцы на меня не обиделись бы даже.
7
Йожеф изумлен. За пятнадцать лет он вдоль и поперек исколесил весь город. Но как мало все изменилось. А пришли русские, и столько перемен. Что стало с людьми? Еще вчера казалось, они покорно принимали жизнь обездоленных. Сегодня они богачи, и у них уже право – говорить, требовать, решать. У них сила.
С семи лет отец привез его сюда в ученики. Йожеф изо дня в день видел этих людей. Он ел с ними, пил, спал. Знал все их тайны. Сначала страшно было. Потом привык. В квартале «Мария-Валерия телеп» ко всему привыкают быстро. Чего он только не видел тут! И мать, бросившую ребенка в колодец; и сына, задушившего больного отца; и умирающих детей, которым по неделе не давали есть и пить. Видел глаза, потухшие и смирившиеся со всем на свете, и глаза, обжигающие ненавистью и не прощающие ничего и никому. Все видел. Жизнь здесь каждого ожесточала по-своему.
Ведь как было. Вот богатые – у них все. А вот бедные – у них ничего. Их много, их очень много, и их некому сосчитать. А ведь как просто сосчитать. Бедные создают – богатые владеют. По какому праву? Пусть бы каждому свое. Ты сработал – ты и получай. Вот справедливость! А кругом ложь и обман. Как же мириться с этим? И Йожеф жил ожиданием, надеждой. Ведь должно же быть иначе. В нем никогда не засыпал чистый голос против любой несправедливости. Почему же со всем мирятся взрослые? Почему? Сколько лет эти мысли бились в его измученном мозгу. Только потом он понял: у них отняли силу, отняли право. А казалось, так просто подняться и разом уничтожить всех, кто мешает жить. Ведь это так просто. Стоит лишь решиться. Было же, люди решились и победили, стали хозяевами. Только у них недостало сил отстоять свою власть, и советская Венгрия погибла, Йожефа тогда еще не было на свете. А пришли русские, и люди снова решились. Они теперь, как хозяева. У них сила.
Лишь недавно Йожеф нашел людей, каких не знал раньше. Судьба свела его с Имре Храбецом и его людьми. Он слышал про них и раньше, сочувствовал им, а не встречался, не знал. Теперь он нашел и не потеряет. Он навсегда с ними, с коммунистами. Его отец Ленина видел. Жаль, отцу не пришлось бороться – задавила жизнь. Йожеф будет бороться. Он станет народным солдатом.
Но вот настали и дни, когда молодая еще неокрепшая Венгрия начинала создавать свою демократическую армию. По всей стране вдруг появились синие листовки с призывом – добровольно вступать в ее ряды. И Йожеф решился, не раздумывая. Он будет воевать за новую Венгрию. Он еще не знал, какой будет она, та Венгрия, но верил, будет народной, справедливой.
Старый Миклош по-своему переживал эти дни. Откуда только взялись силы, энергия. Будто вернулась молодость, и Ленин снова звал его на борьбу с мировой гидрой, на борьбу за свою землю, за свою честь, за свое счастье. Он сразу бросился к русским, чтоб показать им удивительную листовку.
– Видали, – шумел Ференчик среди разведчиков, – будет и у нас своя народная армия. Мой Йожеф тоже идет, чтобы воевать бок о бок с вами. Возьмут – и я пойду.
Истые венгры с энтузиазмом шли в эту армию, посылали в нее своих сыновей и братьев, своих отцов и мужей. На многолюдных митингах коммунисты разъясняли, что их партия всеми силами поддерживает создание новой армии. Она посылает в нее верных борцов народа, испытанных партизан, лучших людей. У каждого добровольца коммунисты лишь спрашивали, любит ли он родину, ненавидит ли гитлеровцев, может ли храбро и умело сражаться за демократию.
Даже старый Миклош загорелся стать солдатом этой народной армии.
8
Осматривая только что отбитый у немцев и еще дымивший с угла большой дом, в одной из комнат разведчики наткнулись на ребенка. Лет семи девочка забилась в пустой угол и страшными глазами глядела на чужих солдат, стоявших у двери с оружием наперевес. Опустив автомат, Максим взял девочку на руки. Все ее хрупкое тельце трепетало мелкой дрожью, и она не ответила ни на один вопрос, заданный Павло по-венгерски.
Максим спустился в подвал, куда сбились жители дома и без труда отыскал ее мать. Обезумев от горя, женщина с час металась по дому в поисках ребенка. Сейчас она не знала, как отблагодарить русских солдат, спасших ей дочь.
А часом позже эту венгерскую девочку, всю в крови, Максим принес в санчасть. Бойцы только что видели мужчину в шляпе и макинтоше, выбежавшего из горящего здания с девочкой на руках. Мужчину пытались задержать, а он, бросив ребенка, неожиданно оказал сопротивление. Переодетого гитлеровца убили, но отстреливаясь, он поранил и девочку, похищенную им для маскировки Истекая кровью, она потеряла сознание.
– Ей кровь нужна, – заявил доктор, – и немедля, а у нас нет сейчас.
– Да сколько ей нужно, у меня возьмите, – и Максим с готовностью засучил рукав.
– Погоди, неугомон, группа-то у тебя какая?
– Третья у меня.
– А ей какая нужна? – обернулся он к сестре, заканчивавшей проверку на стеклышках.
– У ней первая.
– Ну, вот и не годится твоя, – обернулся врач к Якореву.
– Так сейчас найдем, подумаешь, много ей надо…
Максим, запыхавшись, прибежал к разведчикам.
– Товарищи, – обратился к ним одессит, – нужен стакан-другой крови – девочка умирает, а у меня группа не подходит.
– Да ты толком расскажи… – крикнул кто-то.
– Бери мою, – выслушав Максима, первым предложил Зубец, – всю жизнь помнить будет.
– Да зачем ей от такого лядащего – пошутил Демжай, – у меня лучше, и группа хорошая.
Охотников хоть отбавляй, но никто из них не подходит по группе крови.
– А у тебя какая, Павло? – обратился к нему Максим.
– Первая у меня, – на миг растерялся гуцул.
– Так давай же! – не сводил с него глаз Якорев.
Орлай нерешительно потоптался на месте. Ладно, убивать их он не станет. Тоже люди. Теперь он даже делится с ними хлебом, пайком. Детишки так голодны. Но кровь?..
– Ты что, боишься или не хочешь? – взял его Максим за локоть.
– Чего тут бояться – дело простое. Думаю, стоит ли еще им и кровь давать. Так поправится.
– Нет, ты поди посмотри на нее, – потащил его Максим к девочке. – Не дашь – она умрет сегодня же. И тебе легко убить ее? Убить ребенка? Да тебя отец проклял бы за это.
– Ладно, пусть берут, – скидывая шинель, решился Павло.
Врачу помогала Таня. Взяв прибор, она привычно ввела в вену иглу, и у Павло непроизвольно повлажнел лоб, а лицо побледнело. Максим, стоявший подле койки, на которую уложили гуцула, дружески пожал ему свободную руку. Орлай сразу раскраснелся. Ему не видно склянки, по стенам которой струится его кровь. А Максим как завороженный глядел на эту кровь и мысленно торопил Таню, словно от нее зависело ускорить дело.
Белое личико девочки порождало тревогу. Оно словно взывало к этим людям о помощи, о спасении.
Кровь, живая человеческая кровь! Сколько ее нужно раненым, и скольких спасла она от неминуемой смерти. Когда-то Березин дал кровь воину-башкиру и спас ему жизнь. Акрам Закиров побратался кровью с румынским партизаном. Янку Фулей теперь его кровный брат. И вот Павло Орлай! Еще недавно готовый без разбору убивать мадьяр, дает сейчас кровь их ребенку, попавшему в беду. Такова, видно, жизнь: в ней всегда торжествует справедливость.
Девочка всем понравилась: хрупкая, белокурая, с огромными глазами, синими-синими, как васильки. Когда ей стало лучше, каждому захотелось хоть что-нибудь подарить ей. Кто вынул чистый носовой платок, кто расческу, кто перочинный нож. А Голев вмиг смастерил такую потешную куклу, что девчушка обняла ее, прижала к себе и не выпускала из рук.
– Вот бы удочерить ее! – предложил Тарас.
– А куда она денется! – засмеялся Максим. – Хочет не хочет, а теперь дочь полка. Вырастет – так и будет писать в анкетах.
Нежелание Павло и его согласие дать кровь венгерской девчушке Голеву казалось естественным и понятным. Доброе в человеке всегда побеждает. После переливания он позвал гуцула с собой и отвел его в теплый подвал, уложил в кровать.
– Не храбрись, сынок, – сказал он заупрямившемуся было Павло, – отдохни, собери силы.
У Павло в самом деле кружилась голова и как-то ослабли руки и ноги. Видно, сказывались бессонные ночи и невероятное напряжение последних дней. Тарас согрел чаю, напоил гуцула. Девушка-мадьярка сбегала к соседям, принесла живой комнатный цветок и, смущаясь, вручила Павло. Обитатели подвала скучились у кровати и во все глаза разглядывали солдата. Как же русский – и дал кровь! А когда Голев рассказал им, как хортисты пытали гуцула, как угнали его сестру, убили отца, их изумлению не было границ.
– Душа у него добрая, советская, – сказал Тарас, заботливо поправляя одеяло. – Не все же венгры – палачи и убийцы, не все с Хорти и Салаши, далеко не все. Было, многие из венгров и за Советскую власть бились, и нам помогали против белых. Миклош, скажем…
Старый мадьяр даже вздрогнул. Он слово за словом переводил Голева и вдруг запнулся, словно поперхнувшись.
– Что значит один Миклош!.. – заспорил Павло. – А сколько за одно с Хорти?
– Дай срок – подсчитают, сколько. Но уверен, больше тех, что против. Да и Миклош не один. Венгров и я с гражданской знаю. Помню, попал тогда в Томск, а пленных там видимо-невидимо – и венгры, и чехи, и немцы, кого только не было. А как попал? Вспыхнуло в Томске восстание бывших царских офицеров. Меньшевики да эсеры постарались. Нас и послали навести порядок. Только приехали, а мятеж подавлен уже. Кто думаете подавил? Оказывается, партийная дружина, ее большевики создали, и помогали им пленные, главным образом, венгры. Они свой батальон имели, интернационалистов. А знаете, кто их распропагандировал, кто заронил им в душу революционную искру? Сам Бела Кун. Да, да, тот, что создавал потом коммунистическую партию Венгрии и возглавлял тут первую советскую республику. Он тоже закалялся в огне русской революции.
– А что же потом было, что потом? – послышались голоса мадьяр.
– Бела Кун вскорости уехал оттуда, а интернационалисты отбыли в Забайкалье, на борьбу против атамана Семенова. Тогда из пленных сколотили новый отряд. А когда белочехи захватили чуть не всю сибирскую магистраль, в Томске стало совсем тяжело. Город оказался отрезанным. А тут белые офицеры, их тысячи три было, снова мятеж подняли. Без интернационалистов с ними не справиться бы. Но путь на Томск остался открытым, защищать его некем, а здесь много оружия, большой золотой запас. Ревком и решил тогда эвакуировать город. Был одобрен план мадьяра Ференца Мюнниха[21]21
Ф. Мюнних. – ныне Председатель Совета Министров Венгрии.
[Закрыть] пробиваться за Урал, на соединение с Красной Армией. Дорогой не один бой приняли, и в окружении были, пока не пробились под Пермь.
– А дальше, дальше? – не утерпел Павло.
– Влили нас в Красную Армию, и на Колчака! А Ференц Мюнних стал командовать боевым участком; где геройски воевали и русские, и венгры с немцами, и китайские добровольцы. Как братья по революции воевали. Многие и головы сложили тогда, в одной могиле остались, а многие и выжили.
– А наш Мюнних? – заинтересовались мадьяры, которым Миклош переводил рассказ Голева.
– Мюнних жив был и воевал геройски, – ответил бронебойщик. – А пришла весть о революции в Венгрии – он и поспешил домой, свою советскую республику строить. Где он теперь, – право, не знаю.
Голев помолчал немного и, глядя на Павло, продолжил:
– Видишь, не один Миклош, а тысячи венгров защищали Советскую власть. Как же не помочь им теперь, в их беде? Так-то, сынок. Знай и помни!
– Да-а… – протянул Павло. – Видно, везде есть люди, что на верной дороге, и их нельзя не ценить.
Оставив гуцула, Голев вернулся в санчасть.
Еще до того, как нашлась мать девочки, она уже лежала осмелевшая и с розовыми щечками, со всех сторон обставленная солдатскими подарками. Хоть она и обрадовалась матери, но ей, маленькой Аги, вовсе не хотелось уходить отсюда, где так много хороших и добрых солдат в серых русских шинелях.








