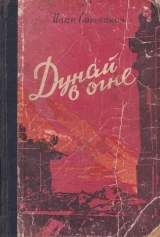
Текст книги "Дунай в огне. Прага зовет (Роман)"
Автор книги: Иван Сотников
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Иван Сотников
ДУНАЙ В ОГНЕ
Роман


ДУНАЙ В ОГНЕ
Глава первая
КРОВНЫЕ БРАТЬЯ
1
Растянувшись в нитку, разведчики больше часу брели чистым буковым лесом. Сквозь сетчатые ветви над ними голубело бездонное небо. Гладкие светло-серые стволы как бы торопились навстречу, и от них рябило в глазах. Золотые реснитчатые листья просто звенели под ногами. Можно подумать, ни войны, ни опасности. А вышли из лесу – все переменилось. Просторное нагорье сплошь усеяно огромными валунами, густо поросшими мхом. Отчаявшись выбраться из опасного лабиринта, тропа нежданно-негаданно бросилась на кручу, взмывшую к самому небу.
Максим Якорев озабоченно огляделся вокруг. Ну, и Гуцульские Альпы! Горы и горы – нет им конца и краю. То встают стеною, то разверзаются пропастью, и из-за каждого уступа того и жди кинжального огня противника.
До крови исцарапав руки, Максим первым, следом за дозором, взобрался на скалу. Залег у обрыва под буком, чтобы видеть, как, выбиваясь из сил, люди цепочкой карабкаются вверх. За буковым лесом отсюда хорошо видны румынские селения. За гребнем же, который бойцы берут штурмом, их ожидает Рахов, Тисса, вся Гуцульщина.
Еще вчера, напутствуя разведчиков, замполит Березин много рассказывал о Закарпатье, и в пути через горы Максим немало размышлял об этом. Родной же, насильно отторженный край. Здесь все в легендах: и тысячелетний подвиг, и тысячелетняя трагедия. Что их ожидает там и что предстоит свершить за тем гребнем? Нет, его одолевало не праздное любопытство. Просто хотелось, чтоб и в боях за горами все отличились геройски, чтоб и туда принесли они свободу и счастье.
Редакция фронтовой газеты заказала Максиму новый очерк. О чем и о ком написать его? Вон как возмужал Глеб Соколов. Бесстрашный воин. А ведь было, как и Максим, боялся голову из окопа высунуть. Было. Теперь же из него стоящий командир выйдет. Или вон Зубчик, неугомонная голова, за ним карабкается. Вроде щупл и ростом не вышел, а семерых стоит. Мал золотник да дорог. По очеркам Якорева Зубца в армии знают. Вон и башкир Акрам Закиров. Такого сапера не скоро сыщешь. Виртуоз хоть куда. Ярослава Бедового Максим проводил особенно долгим взглядом. Вырос новичок. Теперь он не станет плясать под пулями на бруствере окопа, как было в Румынии. Упорный белорус. Только в душе у него еще немало темных пятен, и выводить их ему, Максиму. А Тарас Голев! Старой закалки солдат: и парторг толковый, и бронебойщик что надо. Все герои, и о любом хоть роман пиши, не то что очерк. Да вот беда – о каждом из них все уже написано.
За Голевым карабкалась Оля Седова. До чего у нее большие ласковые глаза! Оля долго пролежала в госпитале и лишь на днях возвратилась в полк. Максим мало знал девушку и всю дорогу присматривался к радистке, невольно сравнивая ее с Верой и Таней. Ни на одну из них Оля не похожа. Вера строга и неприступна, Таня задумчива и сердечна. А у Оли веселый и задорный нрав. У разведчиков сразу глаза разгорелись, и они наперебой ухаживают за нею. Просто проходу не дают. Ну, в обиду себя Оля не даст. Сама кого хочешь обидит. Истинно, птичка-востричка, как ее давно прозвали в полку. Хохочет без умолку. С такой не заскучаешь. А отчаянная какая! Разве о ней написать? Впрочем, тоже не годится. Сейчас всех интересует не вчерашний, а сегодняшний день войны. А что о ней напишешь про сегодня?
Разведчики брали последнюю кручу. По-прежнему ни выстрела. Но стоило их дозорам продвинуться ближе к перевалу, как сверху резанул пулемет. Его оглушительный треск, подхваченный гулким горным эхом, раскололся на тысячи звуков, и, казалось, не один, а сотни пулеметов рвут и режут воздух. Мгновенно забыв про свои раздумья, Максим подавал команду за командой. Однако скоротечный бой затих также внезапно, как и начался.
Сбив немецкий заслон, бойцы вымахнули на самый гребень.
– Говерла! – донесся до Якорева обрадованный возглас проводника-гуцула.
Ничего подобного Максим нигде не видел. Присев у порога ветхой колибы, как зовут тут хижины-землянки гуцульских пастухов, он залюбовался чудесным ландшафтом. Вдали высились три гребня: один над другим, и последний – под облака. Вот они, хмурые Черногоры, и посреди их суровых вершин – величавая Говерла. А вокруг нее гребни окаменелых волн, над которыми нависли сизые тучи, слегка позолоченные косым солнцем. Подпирая их плечами, Поп Иван словно опасался, как бы они не осели на зеленые полонины лугов и серебряные нити горных рек.
– Какой край! – сказал Максим проводнику.
– Ой, як мила Гуцульщина! – отозвался тот, не оборачиваясь, и добавил: – Дуже красна ридна Гуцульщина.
Проводника-партизана бойцы любовно и ласково называют дядя Петро. Максим вскинул глаза и пригляделся к гуцулу. Добрый старикан! Сейчас он стоял в гордой позе, опираясь на свой диковинный самопал, сохранившийся едва ли не со времен опришков Олексы Довбуша, карпатская вольница которого еще два с лишним века назад долго приводила в трепет своих угнетателей. Большой и кряжистый, дядя Петро чем-то напоминал эти горы, что громоздились вокруг. На нем широченный в две ладони кожаный пояс. На крутое плечо небрежно накинут нарядный кожух. На голове обычная шляпа с пером, как это принято в здешних местах. Ридну армаду он встречал, одетый по-праздничному.
– Ты бывал на Говерле? – спросил Максим гуцула.
– Ни.
– А правда, с нее Дунай виден?
– Ни, а Москву, кажут, бачили.
– Москву?.. – изумился Максим.
Старик не ответил. Как можно сомневаться, раз кажут люди.
Солнце нехотя скатилось за кручи скал, и сразу, как бывает только в горах, померк день. На дальнем хребте потухло последнее дерево, только что горевшее в багрянце заката. Дозоры ушли вперед, а разведчики остались с головной заставой, закрепившейся на самом перевале.
Внизу на склонах запылали костры, и на их огонь заявились гуцульские партизаны. Большинство из них просто с палками и ножами, а некоторые и с огнестрельным оружием: или с самопалами, как у дяди Петро, или с мадьярскими и немецкими винтовками. На склонах дальних гор тоже стали вспыхивать костры, вначале немного, потом все больше и больше.
– То партизаны Олексы, то гуцулы, – убежденно произнес дядя Петро. – То огни привета Червоной Армаде.
Олексу Борканюка знает все Закарпатье. И как не знать! Он родился в самом центре Гуцульщины, в большом местечке Ясина, что за хребтом, недалеко от Рахова. Сюда, в родную Верховину, он вернулся в страшные годы хортистской оккупации, чтоб поднять людей на борьбу, и героически погиб здесь, выданный предателем. Героя гор знали и видели тысячи людей. Они читали его листовки и вместе с ним били врага. Им хорошо памятны его предсмертные слова, гордо брошенные в лицо палачам, слова о том, что все равно свет придет с востока.
– Ведал он, оттам, у тий сторони Москва! – объяснял гуцул, указывая за горы. – Ведал, даст она нам життя як свято.
У ближнего костра вдруг зазвучала песня, тихая и мелодичная:
Говерла, Говерла, гора изобилья,
Ты первой, Говерла, солнце встречаешь,
С ветрами всегда говоришь ты,
И думки тебе людские известны.
Это песня о сказочной Говерле, о горе-великанше, которую ни обойти, ни объехать; о горе несметных богатств, где пастбища немереные, стада несчитанные, виноградники нетронутые. На горе той сила и счастье людское, только не пускают к нему руки хозяев-чужеземцев, никак не пускают.
Ладная песня слово за словом раскрывала легенду.
– Чуете, колокол? – встрепенувшись, кивнул дядя Петро в сторону гор.
Максим прислушался. В бескрайней тишине, померкшей и неповторимой, отдаленно-отдаленно звучал колокол. То были не редкие удары церковного благовеста и не торжественный перезвон, как сказывают тут, святого праздника. То был тревожный и призывный звук набата, идущий прямо в сердце и заставлявший биться его настороженно и жарко, как бывает перед боем. И не понять, откуда он: то ли из Рахова, что затих внизу у Тиссы, то ли из Ясины, с родины Олексы Борканюка, то ли еще откуда.
– То колокол Говерлы, – убежденно сказал старый гуцул. – Почему звонит, спрашиваете? О том лишь Говерла ведает, да память людская… Чуете, гудит як?
За словами старика чувствовалась красивая легенда, в которой ум и сердце этих гор, и всем захотелось узнать ее.
Проводник-гуцул говорит тихо и торжественно, как о тайне, дорогой и сокровенной. Как знать, было ль то, иль народное сказанье обросло мудрой небылью, а Максиму верилось, было именно так, не иначе.
…Кто знает, когда то было: всякий счет годам потерян. Лишь память гор хранит дивну сказанку про горьку беду. Был на Говерле утес-дыбун: глаз не поднять, головы не запрокинуть. А в городе за ним – замок белокаменный, где жил мудрый русский князь. В мире и дружбе жил он с соседями, на чужую землю не зарился. Сыскались однако лиходеи-ненавистники, до чужого добра большие охотники. На Говерлу стали жадно посматривать. Призадумался князь, самолучших мастеров созвал и повелел им башню-великаншу воздвигнуть, чтоб с нее все Карпаты обозреть можно. Прослышал о том князь стольно-киевский, – серебряный колокол в горы послал. Послал, чтоб по всей краине его призывный звон раздавался. Пуще прежнего раззарились чужеземцы на добро горных людей и, захотев покорить их, с оружием двинулись на Говерлу. Долго и славно бились ее защитники, пока чужеземцы не сожгли города. Огонь проник в башню. Злодеи-пришельцы взревели от радости. Только не стихли еще ликующие клики захватчиков, как грянул гром, и эхо разнесло его по горам и долам. На месте рухнувшей башни взвился столб земли и дыму, выше неба взвился, и никакого колокола враги не нашли – его поглотила своя земля. Но и там у него сохранился голос. В дни больших тягот и бед народных колокол опять звонит по всем Карпатам.
– Чуете, вин знова кличе! – закончил старик. – Ишь, гудит як.
И в самом деле, отдаленно-отдаленно гудели набатные удары колокола. Может, то гуцульские партизаны сзывали своих товарищей для последней решающей схватки; может, они предупреждали об опасности соседние села и горные селения; может, призывно обращались за помощью к армии-освободительнице, идущей из-за гор, – кто знает!
2
Много их на фронте, необычных встреч.
Продвигаясь поутру с дозором, Максим увидел странную процессию горных всадников, спускавшихся крутой тропкой. Впереди ехал священник, за ним молодой гуцул с крестом, потом следовал гроб, именуемый здесь деревищем. Он подвешен на шесте, концы которого привязаны к седлам двух лошадей, идущих друг за другом. Затем гуськом тянулись, вероятно, родные и друзья покойного.
Дозорные вышли к тропе, и все трое молча взяли пол козырек. Ритуальная процессия застыла на месте.
– Слава Исусу! – опомнился первым священник.
– Русские, русские! – пронеслось из конца в конец.
Вместе с гуцулами разведчики вышли к небольшому горному кладбищу. Дорогой выяснилось, хоронили партизана, убитого в горах хортистами. Его сын Павло Орлай скорбно стоит у гроба, словно отрешенный от всего, что здесь происходит.
У Максима защемило сердце. Мигом вспомнился страшный день из давнего, давнего детства. В их дом ворвались тогда белые. Схватили отца, выволокли его во двор к высокому дереву и истерзанного повесили вниз головой. Максим же, перепуганный маленький мальчонка, упал на порог и, бессильный даже кричать, с ужасом глядел, как умирал отец. «Запомни, сынку!» – крикнул ом перед тем, как ему срубили голову. Да разве забыть такое! Оттого ему так и близки горестные чувства юноши-гуцула у гроба отца.
После похорон Павло Орлай подошел к Якореву.
– Возьми с собою, – попросил он. – Отец наказывал: придут русские – будь с ними.
Максим привел его в полк. Гуцул говорит по-русски, знает мадьярский, и его оставили проводником-переводчиком.
Двадцатидвухлетний Павло высок и статен, темноволос. Он лет на пять моложе Максима. Когда рассказывает о своей жизни, его кулаки крепко стиснуты, а в светло-голубых глазах, похожих на чистое верховинское небо, то и дело вспыхивают огоньки, злые и негодующие.
Отец Павло имел крошечное поле в сорок сягов; а сяг – мера небогатая – меньше четырех квадратных метров. Как прожить на такой земле!
– Ось погодите, привезу грошей – будет життя як свято! – подбадривал он жену с сыном, собираясь за океан.
Отцу повезло. Приехал, поправил семью, и снова подался в Америку. Павло подрос, и три зимы бегал в школу. Читал и писал лучше всех. Поощряя способного ученика, учитель устроил его в гимназию. А вскоре отец потерял работу и заболел, перестал слать гроши. Семье пришлось туго, и чтоб учиться, Павло был лесорубом и шахтером, собирал виноград и косил траву, натирал полы в мадьярских особняках.
Словесность в гимназии преподавал суровый с впалыми щеками чех, за строгой наружностью которого скрывалось однако доброе сердце. Мальчиков-украинцев насчитывались единицы. Он по-отцовски любил их и нередко рассказывал им о русской революции. Ничего подобного в учебниках не было. Оказывается, еще в 1918 году в Ясине был создан Гуцульский совет, и он пытался воссоединить Закарпатье с советской Украиной. Помешали англо-саксонские и французские правители. У юных гуцулов вспыхивали глаза. Живое слово учителя будило в них веру в светлые дни. А раз он прочитал им коротенькую выдержку из письма одного крестьянина-украинца, присланного тем в ужгородское отделение чешского департамента земледелия. В нем говорилось: «Дорогой департамент! Дорога принадлежит государству, воздух господу богу, а леса и поля – графу Шенборну; что же я должен делать?»
– Не решать с детьми социальных проблем: это не их дело! – услышали все скрипучий голос отца иерея, бесшумно прокравшегося в аудиторию. Словесник спокойно закрыл книгу.
– Дети должны знать правду! – возразил он иезуиту и, гордо поклонившись, вышел.
Холеное лицо иерея змеилось злорадной усмешкой. Он готовился читать буллу святого отца, и по классу пронесся глухой ропот. Духовный наставник давно изводил гимназистов папскими посланиями, и Павло Орлай, поднявшись с места, не без иронии сказал, как их удивляет такой интерес отца иерея к папским буллам.
– Nil admirari[1]1
Nil admirari (лат.) – ничему не следует удивляться.
[Закрыть], сын мой! – закатывая глаза, ответил иерей.
– Omne nimium nocet[2]2
Omne nimium nocet! (лат.) – всякое излишество вредно!
[Закрыть]! – усмехнувшись, отпарировал юноша.
– Вы попомните мне, негодный! – рассвирепел униат и начал читать буллу Пия XI, призывавшую верующих к крестовому походу против русских.
Схоластическая латынь римского папы вызвала отвращение, и к подготовке уроков никто не притронулся.
– Ужо погодите, – грозил расходившийся служитель церкви, – всем попомню!..
А когда на улицах закарпатских городов стали хозяйничать хортисты, наступили еще более черные дни Закарпатья. Хортисты-мадьяроны, как тут окрестили венгерских реакционеров, вовсе запрещали все родное, национальное.
Вольнолюбивые гимназисты-украинцы собирались небольшими группами и тайно читали Шевченко и Пушкина, Горького и Маяковского, с жадностью ловили каждое слово, напоминавшее о России. На одном из таких собраний Павло с пафосом продекламировал стихотворение, вычитанное им в одном из старых мукачевских журналов:
Я карпатский руснак,
Стародавний казак,
Сторожил я века наши горы
От монгол, янычар,
Немчуры и мадьяр,
Изнывая без братской опоры.
Чуть не тысячу лет
Мы страдали от бед,
На скалах Прометеем распяты,
Но таили огонь,
И, сжимая ладонь,
Сохраняли для Руси Карпаты.
Едва прозвучали последние слова, как распахнулась дверь. На пороге стоял иерей и, потирая, будто намыливая руки, злорадно усмехался:
– En flagran delit![3]3
En flagran delit! (по-франц.) – на месте преступления, с поличным!
[Закрыть] – произнес он по-французски свою излюбленную фразу.
Павло Орлая арестовали в тот же день, и для него потекли томительные дни заточения.
Хортистские жандармы день и ночь истязали заключенных. Вместо рассказа об этом Павло молча поднял рубаху, и все увидели красно-лиловую роспись рубцов и ссадин по всему телу.
Через год юношу судили. А в день суда в город ворвались партизаны и вызволили заключенных. Так Павло очутился на свободе. В партизанском отряде его поджидала новая радость: вернулся отец. Он тоже в партизанах. Дома еще не был – в селе жандармский пост, да и далеко до дому. Но в горах уже гудели русские пушки – значит, скоро освобождение, скоро домой. Этим жили все. Да вот отец не дожил до светлого дня и погиб за день до прихода русских.
– Не горюй, Павло, – мягко взял его за руку Максим, – не горюй, дорогой товарищ! Закончим войну, – и дома будешь, и никакой иезуит не помешает тебе учиться. Верь, не помешает!
3
Разбив противника, полк вошел в Рахов. Как и всем, Якореву понравилась гуцульская столица. Здесь все необычно: и торговые ряды с бедной церквушкой на взгорье; и главная улица вдоль реки, где множество лавчонок и магазинов; и журчанье неумолчной Тиссы, что без устали гремит под боком; и горы из любого окна, обступившие Рахов со всех сторон и продвинувшиеся в самый город, улицы которого горбятся на их каменных перекатах. Но особо замечательны люди, родные и близкие. Они обступают каждого солдата, радушно зазывают в мазаные хаты; предлагают молоко и сыр, добры парадички[4]4
Парадички (по-укр.) – помидоры.
[Закрыть] и истекающие соком черницы[5]5
Черницы (по-укр.) – плоды тутового дерева.
[Закрыть], потчуют всем, что есть лучшего, и никак не понимают, как можно солдату отказаться от стаканчика доброй палинки или сливовицы.
На просторной площадке, неподалеку от базара, большой круг. Акрам Закиров вынес свою красномехую волшебницу и играет пляску за пляской. Пляшут гуцулы с душой, в них много благородного вкуса и темперамента, буйного и неудержимого.
Максим увидел вдруг комбата Николу Думбадзе.
– А ну, мою любимую! – озорно вступил тот в круг, и в глазах его блеснула удаль, которая, хочешь не хочешь, сама собой расправляет твои плечи, выше поднимает голову.
Акрам заиграл лезгинку. Вскинув руки, Никола мелким и плавным поскоком пошел по кругу. Потом осторожно зачастил, ускоряя темп. Еще минута и, казалось, захваченный вихрем искрометного танца, он уже нисколько не располагал собою и весь был во власти неистовой мелодии, что как ветер волну несет его, куда и как ей только хочется.
Молодые гуцулы переглянулись, восхищенно прищелкнув языком, а девушки-горянки невольно подались вперед, и, хоть у каждой из них по-своему екнуло сердце, у всех одинаково ярко запылали щеки. Максим сначала редко через такт, потом чаще и чаще начал подхлопывать в ладоши. Его мигом поддержали десятки бойцов, рассеянных по кругу, а через минуту-другую и весь круг, расцвеченный пестрядью гуцульских вышивок. Когда же Максим вскрикнул «асса», удары рук стали чаще и жарче; «асса», «асса», «асса», – повторяли теперь сотни голосов, накалявшихся все более и более. Сам Никола, если б далее захотел, не мог бы теперь остановить вихревой музыки, стремительно несшей его по кругу. Он весь принадлежал этим людям, так же, как и они, всей душой слитые с ним, тоже не могли б остановить ни рук, ни голоса, ни сердца, если б не волшебник, которому все подвластно и послушно. Он разом оборвал мелодию.
Весь круг неистово зааплодировал, потом будто по команде устремился к центру и, стиснув Николу, поднял его на воздух.
С базара Максим завернул к мазаной хате дяди Петро, где обосновались разведчики. В комнате полно бокорашей, как зовут здесь лесосплавщиков. Они обступили старика Голева, возле которого чинно восседал сам дядя Петро и запросто без прикрас рассказывал о своей жизни. Примостившись на низкой скамейке, Максим оглядел комнату. Как и всюду, стены расписаны поверху вишнями и за потолочные балки заткнуты оранжевые неувядающие купчаки.
– Дякую вам, добре, – благодарил хозяин солдат за махорку и снова продолжал рассказывать.
Еще мальчишкой ушел он из родных мест «долю по свету глядаты». Копал солотвинскую соль, батрачил у венгерских помещиков, был грузчиком в Амстердаме. Много раз его сманивали в пенсильванские шахты, да не поехал: жена померла, с кем Оленку оставить, а везти ее на чужбину боязно. Потому чуть не задарма и пошел в лесорубы к Шенборну.
– Це дуже погано! – беспокойно почесывал хозяин за ухом.
– А пашня е у тебе? – допытывался уралец Голев.
– Е, сорок сягов.
– Тесно живете.
– Ой, дуже тисно, як в деревище, – сокрушался старик.
– Теперь сам будешь хозяином, – сказал Голев. – Не затем пришли мы, чтоб оставить у вас на шее разбойника Шенборна.
– Розумию, друже, розумию.
Шумно распахнулась дверь, и у порога на минуту приостановилась красавица-горянка в ярком праздничном костюме.
– Тату!
Дядя Петро, широко расставив руки, пошел навстречу.
– Оленка! – обнял он молодую женщину и долго не выпускал из рук.
– Я до тебе, тату: пидемо на Тиссу к партизанам на свято. Пидемо, тату! – и только тут Олена увидела вдруг Якорева. – Так то же Максим, тату, Максим, – повернулась она к отцу. – Коли б не пришов вин своечасно, не жити б тоди твоий Олене. Дякуй его, тату. Ну, дякуй же!
Шагнув навстречу, изумленный Якорев весело улыбался. Нет, он никак не представлял, что эта Оленка – дочь дяди Петро.
4
К командиру полка Павло привел Михайло Бабича. Это пожилой гуцул, степенный рабочий с солекопален. Командир отряда ранен, а Бабич его заместитель. Он пришел пригласить офицеров на берег Тиссы пообедать с партизанами.
Андрей Жаров с интересом присматривался к гуцулу. Он худощав, малоподвижен, зато разговорчив. Речь у него живая, то очень степенная, то слишком стремительная, смотря по тому, о чем разговор. Сейчас всю дорогу он рассказывал о партизанах.
Людям до сих пор памятны дни сорок первого года Захлебываясь, хортисты кричали о гибели Москвы. От черных вестей у всякого гуцула холодела душа. Но однажды из-за гор вынырнул краснозвездный посланец. Синие листовки, как голуби, закружились в воздухе. Они принесли самое главное: правду и надежду. Жива большая Родина! И тогда не по дням, а по часам стала расти закарпатская вольница грозных мстителей. И что только не предпринималось, чтоб уничтожить партизанские силы. А они, что трава, росли и росли – на всяком клочке земли появлялись, и громить их отряды карателей не раз поднимались в горы.
Вот и недавно хортисты появились вдруг на Верховине, у гражды[6]6
Гражда (по-укр.) – усадьба.
[Закрыть] Матвея Козаря. Хозяин вовремя заметил карателей, и партизаны скрылись. Хортисты все же арестовали Матвея и его жену Оленку.
– Где партизаны? – пристали они к гуцулу.
– Никаких партизан не знаю, – отнекивался Козарь.
– А кто ж был тут?
– Пастухи-гуцулы, вас испугались.
Большеголовый толстяк махнул рукой, и Оленку привязали к тонкому ясеню, вывернув ей руки за спину. Женщина повисла в полуметре над землею. Матвея, рванувшегося к ней на помощь, отхлестали плетью.
– Не надо, Матвей, не надо, – останавливала его Олена.
– Где партизаны? – подступали к ней каратели.
– Не розумию, ироды.
– Говори, загубим!.. – грозили ей снова.
Большеголовый толстяк с оплывшим лицом, подскочил к ней и, взмахнув клюшкой, зацепил за ворот платья.
– Говори!
Она зло плюнула ему в лицо.
– Ах, так! Вот тебе, вот! – свирепел офицер, срывая с нее остатки платья. – Вот, вот!
У Козаря зашлось сердце, и он зубами вцепился в плечо хортиста. Матвея оторвали и снова иссекли плетью.
– Любишь жену – говори ты! – подступал к нему офицер.
Гуцул молчал.
– Говори.
Матвея секли еще и еще, но он лишь молча извивался под плетью. Сначала боль обжигала его, но скоро тело совсем отупело, он чувствовал только, как в груди глухо отдаются удары. Перед глазами поплыли огненные круги, и он перестал видеть.
Очнулся от холодной воды, которая заливала рот, нос, уши.
– Говори.
Он только посмотрел на свою Олену, все также висевшую на молодом ясене, и у него еще больше сжалось сердце.
– Оленка! – выдохнул он.
Почти нагая, она совсем уронила на грудь голову и висела беспомощная и растерзанная, а на слова Матвея лишь слабо подняла глаза. Каратели ожесточились. Схватив Козаря, они и его подвесили ко второму ясеню против Олены. Затем начали таскать хворост, сваливая его у комлей под ногами своих жертв. «Жечь станут», – мелькнула догадка, и Матвей почувствовал, как холодные капли пота скатываются со лба на щеку, потом на обнаженную грудь. Он взглянул на жинку – и у нее тоже. Она с трудом подняла взгляд, тихо вымолвила:
– Молчи, Матвей! – и голова ее измученно свисла на грудь.
В Олену запустили чуркой, и по лицу женщины заструилась кровь. Каратели подпалили хворост. Большеголовый толстяк подошел к Матвею, под которым уже змеилось пламя, и снова потребовал:
– Говори.
Матвей обвел взглядом горы, и какими особенно дорогими они показались ему теперь. Ведь тут прошла его жизнь. Тут еще мальчишкой, как заведено, отец ставил его лицом к восходу солнца и говорил: – Оттам Россия, Москва; оттам счастье! Сам он не дождался его. В эту землю Матвей закопал отца и мать. Тут он полюбил потом Оленку, первую красавицу на всю Верховину. Сколько побатрачил он, чтоб справить их свадьбу. Вот у них и гражда своя, и кусок поля есть, и свое небольшое стадо. Что еще надо сердцу гуцула! А много ему надо. И пошел Матвей в партизаны, пошел биться за свое счастье. Да вот оно и близко. По всем Карпатам гудят русские пушки. А вот, подишь ты, сгорит Матвей, и пройдет мимо него это жаркое счастье.
Языки пламени вдруг коснулись ног. Вот она, мучительница-смерть! Еще немного, и не увидит Матвей своих гор, голубого верховинского неба, Оленки своей. Он взглянул на нее и увидел, как и под ее деревом подпаливают хворост.
– Оленка, ридна Оленка!
– Прощай, прощай, друже!
Он благодарно посмотрел на жену. Нет, силы нашей им не сжечь. Но откуда, откуда эта сила? – допрашивал он самого себя. От них, оттуда, – мысленно решил Матвей, снова услышав далекие раскаты советской артиллерии. И вдруг ощутил нестерпимую боль в ногах; его постолы начинало лизать раздуваемое ветром пламя.
– Говори, не поздно еще! – требовал начальник карателей.
– Вот они, тут, в горах мои партизаны! – грозно закричал гуцул. – Тут они! Умру я, они бить вас будут, бить. Чуете, гудит як! То Красная Армия идет через горы! Конец вам, конец!
И в ту же минуту грянул выстрел. И не выстрел, а залп. И не залп, а тысяча залпов. Но сознание Матвея уже бессильно справиться со случившимся…
На берегу Тиссы офицеров обступили партизаны и партизанки, и каждому захотелось обнять их, пожать руки, сказать доброе слово. Несколько простых столов выставлены прямо на лужайке. Весь обед, очень простой и скромный, проходит в самой оживленной беседе. За обедом Бабич и досказал всю историю про Матвея и Олену.
…Первое, что пробилось в сознание гуцула, было потрескивание сухих горящих сучьев. Открыв глаза, он увидел над собою небо, и два молодых ясеня. Сильное пламя, раздутое у комлей, высоко вздымалось вверх и на одном из деревьев обнимало человеческую фигуру, корчившуюся на стволе ясеня.
– Оленка, Олена! – в отчаянии вскрикнул Козарь, порываясь с земли к горящему дереву. – Что ж они наделали с тобой! – и с страшной болью во всем теле упал на землю. Но прежде чем упал он, взгляд его поймал дорогой образ женщины, лежавшей рядом: – Оленка!.. – только выдохнул он и снова впал в беспамятство.
А когда очнулся, обгоревший труп хортиста еще висел на ясене. «Палачу и смерть палаческая! – расслышал он гневный голос Бабича. – Они сами ее придумали, и не нам стыдиться этого», – словно оправдывал тот партизан, казнивших главаря карателей на том же ясене, с которого Зубец и Якорев только что сняли Олену.
Разведчики поспели вовремя.
Оживленный разговор за столами идет своим чередом, и к рассказу Бабича прислушиваются немногие.
– А где ж они теперь? – спросил Жаров.
– Кто? – не сразу догадался командир отряда, о ком речь.
– Да кто – Матвей, Олена…
– Да вот он, в отряде, – указал Бабич на совсем молодого партизана.
Матвей Козарь представлялся рослым богатырем с плечами в косую сажень, и воображение теперь отказывалось представить этого стройного хрупкого юношу с красивым обветренным лицом на пламенеющем дереве и взывающим к родным горам о мести и справедливости.
– А вот и Олена, – добавил Бабич, указывая на женщину, вставшую из-за стола. – Я о тебе тут рассказывал, – пояснил он и, усмехнувшись, добавил: – Как на ясене горела, да не сгорела…
– Да годи вам! – отмахнулась женщина. – Чи ж цикаво це слухаты. Про иньших крашче скажите.
Бабич, знать, ничуть не преувеличивал, когда говорил, что это первая красавица на Верховине. Гибкая, как лоза, она казалась необыкновенно живой и подвижной. Яркий платок небрежно откинут с головы на плечи. На сорочке искусно расцвечен ошеек, и на нем узкое монисто из коралликов, широко вышиты грудь и дудики, как зовут здесь рукавчики. Костюм обычен, весь Рахов одет почти одинаково. Тем не менее, молодая женщина необыкновенно привлекательна. Щеки в румянце, большие лучистые глаза искрятся из-под черных-пречерных бровей и смотрят игриво и ласково, как смотрит нашаливший ребенок, зная, что его не накажут. Маленький, резко очерченный рот, чуть лукав, а заостренный и немного выдающийся вперед подбородок говорит об упрямстве и твердости. Во взгляде, в жесте, в слове – во всем чувствуется самостоятельность и сила, привлекающая и покоряющая. Ее почему-то легко представить на пламенеющем ясене – такая сгорит и ничего не скажет.
Матвей полуобернулся и с гордостью окинул взглядом свою Оленку и, видать, остался довольным: посмотрите, дескать, какая умница и какая красавица, разве сыскать еще такую.
– Вы про себя расскажите, – просто сказала Олена, обращаясь к заместителю командира отряда, – от е що послухаты!
Но о себе он не стал рассказывать. Жизнь тут, як болото: куда ни ступишь, грузнешь и только. – А из него выберешься, все одно крутишься, как отара на объеденной полонине: ухватиться не за что. Что тут рассказывать.
Помолчав, стали обсуждать самые насущные вопросы:
– Яку власть строить? Як ее строить? – допытывался Бабич.
– Народную власть, – разъяснял Жаров, – свою, народную.
– Так и думаем, люди в ридну семью хочут, в ридну советску Украину хочут. Как заказать сердцу.
– Пусть и решат сами люди, – говорил Жаров, – выберут свою власть и решат. Они не ошибутся.
– Я и думаю: одни партизаны должны жизнь по-новому строить, другим еще воевать надо, – уже горячо продолжал Бабич. – Вместе с вами воевать станем. За мир воевать, щоб крашче булы життя и праця! – обвел он взглядом всех партизан. – Щоб кращим стало майбутне! – заключил он опять по-украински, хоть и сносно говорит по-русски.
Неподалеку вспыхнула песня-коломыйка, звучная спиванка, как ее называют тут. Она весела и задорна, под такую можно и плясать в присядку и идти маршем в бои и походы.
Козари вы, козари,
Козари – герои…
5
Жизнь неслась горным потоком: бурно и стремительно. В душе ежечасно пробуждалось что-то новое, необычное, что восхищало и тревожило, заставляя думать. Выше всех чувств Максим чтил верность. Он знал ее вдохновляющую силу и красоту. И вот его верность никому не нужна. Лариса молчит три года. Оттого и любовь к ней давно померкла. Вера Высоцкая здесь, рядом. Она могла бы наградить его настоящим счастьем. Но сердце ее принадлежит другому. Что ж, добиваться ее любви? Или мучиться и терзаться, отдавшись отчаянию? Максим горько усмехнулся. Так это было нелепо и ненужно. Нет, в мученики он не годится. Каленым железом выжечь все, что мешает жить, воевать. Выжечь! Настоящая любовь не может, не должна терзать и мучить. Так ему казалось. Но он не мог и сознаться себе, что ему еще грустно и больно от этих утрат. В душе стало пусто и тускло. Мысли невольно обращались к прошлому, искали всяческих оправданий его Ларисе. Порой ему даже казалось, он по-прежнему любит ее, веселую и немножко взбалмошную, которая нередко дразнила его своими капризами. Неужели любит? Нет, лучше совсем избавиться от всей проклятой лирики!






