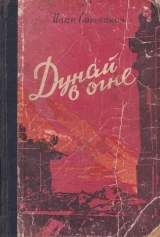
Текст книги "Дунай в огне. Прага зовет (Роман)"
Автор книги: Иван Сотников
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Глава восьмая
БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
1
Пала биржа. Тысячетонная громада, как зачервивевшая туша неведомого зверя, кишела гитлеровцами и салашистами, все выползавшими и выползавшими из всех ее щелей. Брели они понурые, обвязанные платками и шарфами, облаченные в пальто и макинтоши, ободранные и грязные. Березину просто не верилось, что вся эта масса, растленная и обезображенная, уже ничем не похожая на войско, только что исступленно отбивалась в каменных катакомбах разгромленной цитадели.
Григорий с любопытством разглядывал пленных. Нет, не удалось им выиграть время и продержаться хоть до вечера, чтоб, используя сумрак, укрыться за Дунаем. На всех лицах испуг с изумлением: почему не убивают?
Жесток и упорен был бой за биржу. Рассказы солдат и офицеров, виденное и пережитое им самим порождали картину за картиной, и мысль Березина неотступно искала определений, схватывающих самую суть событий жаркого дня.
С раннего утра солнце посматривало на город с недоверием, вприщур сквозь облака. Его скупая ласка как-то настораживала и тревожила, всем недоставало тепла и света, и в душе просто холодело от жуткого посвиста пуль над головой.
Истребители Якорева тронулись ползком. Им удалось заглушить окна, сеющие смерть, и ворваться в нижний этаж. За ними рывком пробились роты Черезова.
Высоко заломив шапку, белокурый вихрастый паренек кинул в дверь тяжелую гранату и вслед за разрывом молнией влетел туда сам. Воздух рассекли густые струи пуль, они рикошетили от каменных стен, и солдат на бегу упал на пол.
– Ты жив, Михась? – крикнул из-за стены Зубец.
– Сам не знаю, давай сюда!
Семен ползком пробрался в комнату. Вскоре к ним присоединился и Акрам Закиров. Молодой башкир тяжело дышал: он только что с трудом расправился с грузным эсэсовцем. В соседней комнате они в упор расстреляли пятерых гитлеровцев, не захотевших поднять рук. Едва разведчики тронулись дальше широким коридором, как сразу же ввязались в новую схватку. На них напали семеро. Правда, двое из тех упали еще раньше, чем сцепились врукопашную, но силы все равно неравные. Толстозадый немец в черной куртке зажал Михасю голову. Юркий разведчик завертелся вьюном. Изловчившись, он зубами вцепился в толстую мясистую руку, сильно рванул голову, и его чуть не стошнило от чужой соленой крови. Взвыв, немец ослабил мертвую хватку. Михась рванулся еще и в какую-то долю секунды разрядил автомат в своего противника. Немец грохнулся, скрипя зубами и поддерживая пухлый живот. Михась расстрелял еще одного эсэсовца. Третьего прикончил Зубец. Остальные двое, насевшие на Акрама, подняли руки. Башкиру пришлось вести их на сборный пункт военнопленных. Но в первой же пустой комнате один из них бросился на сапера, и все трое покатились по полу в одном клубке. Распутал его Якорев, выручивший Закирова.
– Ах, гады, в плен не хотите! – зло закричал Акрам. – Так вот же вам, вот! Издыхайте по-собачьи!
Оставив Акрама, Максим бросился вверх по лестнице. В одной из комнат он наскочил на эсэсовского офицера.
– Хэндэ ауф! – требовал Максим, тесня его к нише окна. – Сдавайсь!
Якорев прижал его к стене, заталкивая в развороченную снарядом нишу. Немец озлобился и упорствовал. Сильным ударом Максим опрокинул его вниз.
В другой комнате рыжий толстяк загнал Ярослава в угол, пытаясь размозжить ему голову о стену. Выручил Гареев. Схватив толстяка за ногу, он опрокинул немца. Сквозь закрытую дверь грохнула очередь. Демжай растерянно взглянул на Якорева. Все магазины у обоих давно расстреляны. Казах сбоку стволом автомата открыл дверь и бросил в нее две гранаты. Оттуда понеслись истошные крики по-русски: «Мы плен, плен!»
Зубец с группой комсомольцев очищал комнату за комнатой с таким порывом, что все с трудом переводили дух.
В поисках Зубца Акрам нагнал Голева. Одну из комнат они забросали гранатами, и оттуда как из брандспойта брызнула белая струя пуха, от которого сразу сделалась совершенно темно. Он залеплял глаза, прилипал к губам, попадал в горло, лез в нос.
– Вот, дьяволы! – чихая, ругался Тарас. – Сколько пуховиков натащили. Видно, надолго устраивались.
Глеб Соколов со своим взводом пробился выше всех, вынуждая салашистов к капитуляции.
Пока роты Черезова очищали верхние этажи, немцы контратаковали и снова заняли нижний этаж. Жаров ввел в бой первый батальон. Им теперь командовал Леон Самохин. Его подразделения быстро оттеснили противника на второй этаж, биржа стала походить уже на слоеный пирог: внизу Самохин, над ним немцы, еще выше Черезов, над которым снова эсэсовцы и салашисты. Но черная туша биржи уже вся утыкана белыми флагами.
Пленные сбивались кучами, ожидая отправки.
– Капут Салаши, капут! – без конца твердили они избитую фразу.
– Он давно плут, раньше бы раскапутить! – смеялись бойцы.
Березин остался в нижнем этаже биржи, куда стягивались роты Черезова и Самохина. Думбадзе уже наступал за биржей. В одной из комнат вдруг послышалась песня:
Пусть ярость благородная
Вскипает как волна.
Идет война народная,
Священная война.
Березин даже рассмеялся, и у него вроде полегчало на душе. Как же он не догадался сам. Ярость! Именно, ярость! – вот чем был пронизан весь бой за биржу.
2
Мертвое здание биржи осталось позади. Батальоны Кострова повернули к парламенту, полк Жарова взял левее, в сторону площади Франца Иосифа. Просто удивительно, как долго венгерская аристократия пресмыкалась даже перед тенью австрийского императора, этого – «фазана в эполетах».
Роты Самохина штурмовали здания возле Академии наук. Но их сдерживал убийственный огонь из подвалов и окон главного полицейского управления.
– Бей по ним! – требовал Леон от Руднева, – Кроши проклятущих!
Про себя он подумал: «В здешних катакомбах ни одну тысячу людей сгубили». Стены содрогались от взрывов. Немецкие фаустники били из проломов окон, косили наступающих из пулеметов. Но все их попытки тщетны. Прикрываясь броней танков, бойцы пробивались к самому фасаду здания и в нижних этажах завязывали гранатный бой.
Дóроги, очень дóроги последние метры. Всюду трупы солдат в серых шинелях. У Ярослава повязана левая рука. Голев забинтовал раненую ногу. Окровавлена щека у Матвея Козаря. С дороги ползет раненый, оставляя на снегу красный след. На носилках пронесли умирающего офицера, попавшего под разрыв фауста. Пушка Руднева опрокинута, и его наводчик убит.
Ярость боя нарастает с каждым часом. Бойцы очищают дом за домом. Остатки гитлеровцев и салашистов сбились в здании Академии наук. Все чаще появляются группы пленных. Слово «плен» вдруг сделалось модным и универсальным: его отлично понимают и по-немецки, и по-венгерски.
– Мы плен, плен!.. Куда плен?.. – слышится всюду.
Нет, враг еще не сложил оружия. На площадь вдруг вымахнули три «тигра» и несколько «фердинандов» и загремели выстрелами. Но в одного из них пушкари угодили снарядом в гусеницу, и, сползая, она потянулась вдоль дороги. Другой «тигр» запламенел под кленами, и металл горит лучше сухих дров. Высокое пламя перекинулось на каштаны, сучья которых словно корчатся от палящего зноя.
А тут из переулка выскочили видавшие виды «тридцатьчетверки». На одной из них захватывающая надпись: «Мы сталинградцы!» Она с гулом и грохотом мчится прямо на машину, пытавшуюся забуксировать обезноженный «тигр», и с ходу делает три выстрела один за другим. Синие языки пламени скользнули по «тигру», а «Мы сталинградцы!» проскочили мимо. Из-за домов вылетают новые «тридцатьчетверки» и, разбегаясь по улицам, оцепляют последний квартал Пешта.
А над головами наступающих на Буду молнией пронеслись краснозвездные штурмовики.
Савва Черезов вздохнул с облегчением. Как вовремя подмога на земле и в небе. За мощью боевых машин люди станут чувствовать себя увереннее. Бойцы пробились уже к самому зданию Академии наук, одной из своих сторон обращенной к площади Франца Иосифа.
– Не бей по Академии! – крикнул Черезов батарейцам, хотя они и не сделали по ней ни одного выстрела.
«Сохраним ее венгерским ученым, – опять подумал он про себя, – если окружим, все равно капитулируют».
Бойцы ворвались в нижние окна.
– Сдавайсь! – неслись их крики, и руки раскормленных эсэсовцев нехотя тянулись вверх.
– Занимай соседние здания, окружай! – требовал комбат, направляя туда взвод за взводом.
И вдруг – ослепительная вспышка и оглушительный грохот. Залповые разрывы, треск пулеметов и автоматов, урчание танков, звучный язык «карманной артиллерии» – все слилось в грозную симфонию штурма. Только Черезов ничего уже не видел и не слышал. Раскинув руки, он без сознания был распластан на мостовой.
Сквозь дым и огонь Таня весь день вытаскивала раненых. Казалось, иссякли последние силы, и она уже не сможет сделать и шагу. Но стиснув зубы, девушка ползла снова, накладывала на раны повязки, укладывала бойцов на плащ-палатку и тащила их одного за другим в тыл, в безопасную зону.
Раненый, которого она тащила сейчас, безостановочно стонал. Он весь в крови. Хоть бы вытащить его за стены ближайшего здания, а там помогут. Но раненый вдруг умолк. Таня поспешно склонилась над ним и ужаснулась: умер! В отчаянии она высвободила плащ-палатку, чтобы возвратиться за новым раненым, как заметила на мостовой офицера. Он уткнулся лицом в землю, раскинув руки и словно собираясь ползти. Но был недвижим. Таня подползла к командиру, и сердце ее дрогнуло. Майор. Кто же это такой? Не помня себя, она склонилась над ним, повернула голову. Черезов! Но что такое? Ни капли крови. Неужели оглушен? Она осмотрела его всего – никакой раны.
Перевернув контуженного на плащ-палатку, она тронулась с ним на медпункт.
Командование батальоном Черезова Жаров передал Румянцеву. Шли последние минуты боя, и здание за зданием капитулировали всюду.
Лишь темно-коричневый парламент с высоким куполом в центре еще не подпускал к себе ни с какой стороны. Явно обреченные на гибель, гитлеровцы решили погубить и этот красивейший дворец, взметнувший ввысь огромные острые шпили своих башен.
С высокого этажа только что отбитого у немцев здания Голеву открылась панорама сражения. Оно неистово гремело вдоль дунайской набережной. Мутный и помрачневший Дунай беспрестанно дыбился от взрывов, будто вырываясь из гранитных набережных, в которые закованы его берега. Чудесные мосты, о которых он столько читал, взорваны немцами, и покалеченные фермы вызывают чувство едкой горечи. Задунайская Буда террасами ниспадает к реке и из сотен орудий бьет по Пешту. Но и Буда не в силах поддержать обреченных: их крах неотвратим.
Тарас спустился на площадь и вместе со всеми устремился к реке. Всюду стихали последние выстрелы, и цепи атакующих выходили на берег.
Так вот он, голубой Дунай! И не голубой вовсе, а хмурый и черный, злобно пенящийся и негодующий, подернутый чадом и дымом, местами даже вроде раскаленный опрокинутым в мрачной и бездонной глубине его багровым заревом пожарищ. Злобный и протестующий! Что ж, все понимают его чувства, понимают и разделяют их! В беспощадном огне, каким охвачен весь Дунай, догорают остатки старой Венгрии.
А на гранитном постаменте у набережной возвышается пламенный Петефи. С гордой курчавой головой, стоит он в иссеченной одежде с рукой, вскинутой вверх и вытянутой в сторону Буды и как бы указывающей на виновников злодеяний и разорителей его родины. Взывая к соотечественникам и их освободителям, он зовет их, зовет и торопит к отмщению!
3
Пешт свободен. У врага лишь небольшая часть «королевской» Буды. Но всем ясно, и с нею будет то же!
Полк Жарова уходит вверх по Дунаю, на переправу. Вместе со всеми ему предстоит штурм Буды, где ни на минуту не стихает бой.
Перед уходом из Пешта Андрею захотелось осмотреть венгерский парламент, и он направил Максима с Павло за Имре Храбецом. У того есть старый знакомый Дьюла Балаш – один из простых служителей национального дворца.
Разведчики разыскали Имре на заводе. Они зашли за Дьюла Балашем, и все четверо отправились в полк. На улицах всюду разбирают кирпич, чинят мостовые, даже начинают ремонт разрушенных зданий. А Максиму даже не верилось, что это тот самый Пешт, через который до самого Дуная они прошли с боями. Правда, здесь по-прежнему обгорелые деревья, сожженные здания, черные провалы окон, развороченные стены. Еще не убраны разбитые повозки, пушки, танки. И все же не узнать улиц трудового и торгового Пешта. Уже ни огня, ни дыма, и кругом полно людей. Мужчины в простой обуви с подошвой толще танковой брони и в зеленых плащах с погончиками и с капюшонами, защищающими от дождя и ветра. Женщины в пестрых жакетах и коротких пальто, почему-то в очень узких клетчатых юбках с преобладанием желтого цвета с оттенком горчицы.
Чувствуется, люди заняты своим делом и работают с энтузиазмом.
Всю дорогу Храбец и Балаш рассказывали про свой город. Они любили его и гордились им. Но сейчас их увлекало не прошлое, а будущее, завтрашний день венгерской столицы.
– Жаль, не видели вы весеннего Дуная, – говорил Имре. – Вольный и сильный, как раскованный Прометей, он свободно и неудержимо несет свои воды. Сдержи попробуй!
Мадьяр с гордостью взглянул на Максима.
– Венгрия тоже с места стронулась, – закончил свою мысль Имре, – скоро ее не узнаешь, не остановишь.
Они шли вдоль большой улицы, где первые этажи зданий были заняты под магазины и мастерские. Указывая на них, Имре говорил:
– Весь уличный партер торговал с утра до ночи, он одевал и обувал, кормил и поил миллионный город. А сейчас видите, все мертво. Но придет срок, и тут все закипит, все забурлит новой жизнью, и наш свободный Будапешт станет еще краше и богаче. У него теперь новый хозяин – сам народ.
Дьюла напоминал про житейские мелочи, милые сердцу удовольствия мирных дней. Оказывается, тут прямо на тротуарах продавали кукурицу, как называют у них кукурузу. Бывало, стоит небольшой столик, и на нем квадратный самовар с трубой, из которой вьется дымок. Прохожий получает еще теплый початок, к его услугам и солонка с перечницей, и можно сколь угодно лакомиться душистой кукурицей, словно проигрывая на губной гармошке незабываемый мотив. А в закусочных самым изысканным блюдом был венгерский гуляш, приправленный динамитным перцем – вездесущей у них паприкой. Здесь все к твоим услугам, конечно, если ты прилично зарабатываешь. К сожалению, слишком многие оставались без работы или имели столь низкий оклад, что им не до лакомств.
– А все Хорти! – возмущался Имре. – Он разорил венгров, он погнал их против русских. Он, змея ядовитая!
– Что змея, – кипел Дьюла, – он змеи змеее!
Максим слушал и думал. Как трагично может сложиться судьба народа, если им правит мрачный Хорти или исступленный Салаши. И вот страшная цена их правления – разрушенный Будапешт и тысячи мадьярских могил на пути от Волги до Дуная! Чем они рассчитаются за это с народом, и как народ рассчитается с своими палачами! И еще – здесь люди, что разоряли твою землю, пролили кровь твоих родных и близких. Их бы тоже жечь, убивать, казнить – вот справедливость! А он им сочувствует, даже больше – он уже дружит с ними. Истинно, обманутым не мстят. И все же нелегко быть справедливым. Нелегко, а нужно!
Пройдут годы, и лишь в дружбе, высокой и благородной, будет лучше обретен смысл усилий, смысл войны. Все станет проще и яснее. Он глядел на отвоеванные у врага улицы и площади, на освобожденных людей, которым развязаны руки, и как бы говорил себе: «Смотри, огонь и огонь, кровь и муки, смерть! Сколько усилий и каков их смысл! Все за мир для добра. Поймут ли нас тут и оценят ли понесенные жертвы? Поймут и оценят. Будет мир и дружба. Истинно братская рука никогда не забывается! Пусть желание очень сладко. Еще слаще свершение!».
– Все подымем из пепла, – сказал Имре, все, Максим! И подвига русских нам не забыть.
– Верю, – ответил Максим, – воля людская – волна морская, говорят у нас моряки. А воля у вас есть, и сила тоже. Мы три месяца присматривались к венграм. Добрый народ! Есть у мадьяр и спокойная скромность, и огневая страстность, стремительность, и даже удаль. Такие умеют терпеть и отчаянно биться. А теперь мы с вами и товарищи по оружию: у нас трудная и большая военная дорога.
– Спасибо за доброе слово, – тихо сказал Имре. – Спасибо, Максим. Я рад, что тоже иду в демократическую армию. Мы все сделаем, чтоб стала она истинно народной.
Так за разговором они и пересекли чуть не весь Пешт.
4
Дьюла Балаш – отличный проводник. У него сухощавое лицо с мушкетерской бородкой. В поношенном макинтоше и смушковой шапке он похож на тысячи других, каких бойцы встречали на всем пути от Тиссы до Дуная. Но в нем есть и черта, какой нет у многих. Это льстивая изысканность. За десять лет службы в хортистском парламенте он привык прислуживать «сильным мира», и оттого как-то подвижен и сдержан одновременно. Он успевает каждому объяснить и ответить на любой вопрос. И вместе с тем – уже независимость. В нем просыпается своя гордость – гордость хозяина, которому теперь принадлежит все.
Он уверенно увлекает за собой солдат и офицеров, все дальше продвигаясь с ними в глубину огромного здания. Его залы и лестницы еще в баррикадах. Их соорудили тут немцы и салашисты. Ими же заминировано и все здание, подготовленное для взрыва. Не успели! Мины сейчас снимают саперы.
Приходится идти через сотни комнат и зал, облицованных лучшими сортами дорогого дерева. Глаз привлекают искуснейшие орнаменты и огромные фрески, покалеченные варварами, чудесная цветная мозаика широченных окон, многие из которых выбиты и выломаны.
– Приемный зал! – объяснил Дьюла, указывая на бронзу статуй, розовый мрамор колонн и стен, на красное дерево изящной мебели, покрытой сейчас серой известковой пылью.
– Сколько тут бывало волков в дипломатических фраках! – сказал Андрей, обращаясь к Березину.
– Всех мастей и пород, – согласился Григорий.
Снова пустые коридоры и комнаты, захламленные гитлеровцами. Они в них спали и обедали, использовали под склады и хранилища, устраивали стеллажи для оружия. Бойцы уже теряли счет этим комнатам и коридорам с их бесчисленными поворотами и лестницами. Но вот Балаш ввел их в огромный холодный зал. Бледный купол слабо подсвечен светом январского утра. Оно проглядывает сюда сквозь рваную брешь, только что пробитую снарядом из Буды. Это зал заседаний парламента, пустой и мрачный. Снизу вверх веером расходятся безмолвные скамьи депутатов.
– Ну, и цирк! – удивился Глеб.
– Цирк и есть, – повторил Голев, – тут такие давались представления, уму непостижимо.
– Почему? – возразил Якорев. – Их уж не так трудно объяснить: обман народа – и только.
– Известно, их парламент, – согласился с ним Березин, – маска и ширма. Политикой все равно командовал Хорти.
Все, что когда-то читалось и изучалось, весь этот неустроенный мир капиталистической действительности, его политические учреждения вместе с их главой – парламентом за эти дни предстали вдруг живым подтверждением ленинизма.
Дьюла Балаш направился к круглому столу под зеленым сукном посреди зала и нажал там кнопку звонка.
– Это вежливый звонок председателя, – пояснил Имре.
«Зачем он, эка невидаль!» – подумал Максим.
– А это вот… – продолжил Храбец, делая Балашу знак рукою.
Дьюла нажал на целую батарею кнопок, расположенных в несколько рядов, и на всех обрушилось что-то чудовищно оглушающее и страшное. В сонмище звуков – и свист, и рев, и хрип, и грохот. Хочешь не хочешь, а затыкай уши или беги отсюда вовсе.
– Ну и какофония! – изумился Березин.
– Прямо концерт ведьм! – определил Соколов.
– Это придумано… – закончил Имре, когда Дьюла снял руки с кнопок, – чтобы заглушить оппозицию, любой голос из народа, если он послышится с трибуны парламента.
– Ну и техника! – покачал головой Голев.
– Вот и лицо венгерской демократии в стенах парламента, – сказал Березин.
– А вне стен, – добавил Имре, – тем же занимались суды, полиция, тюрьмы – весь государственный аппарат. Но теперь мы будем строить власть по-вашему – все для народа!
Сквозь широченную нишу окна из кулуаров парламента хорошо видна нагорная Буда. Общий фон ее серый, серо-голубой. Голубизна от Дуная и неба. На крутом берегу хмурый, покалеченный немцами королевский дворец, до которого отсюда едва ли больше километра. Но бинокль сокращает расстояние до ста метров. На бойцов смотрят мертвые глазницы окон. На железных воротах обвисают черные орлы габсбургской династии. Недобрая память австро-венгерской монархии витает над его руинами. А в дворцовых садах беспрестанно вспыхивают белые дымки орудийных выстрелов.
– В королевском дворце, – рассказывал Храбец, – совсем недавно Салаши присягал перед короной святого Стефана. Вся церемония транслировалась по радио. И вдруг, – не сдерживаясь, рассмеялся Имре, – в самый торжественный момент из эфира раздался голос, который разнесся по всей Венгрии: «Мадьяры, вспомните, как Салаши в 1918 году стоял перед судом!»
– Вот здорово! – больше всех обрадовался Зубец.
– Салаши – преступник! – разъясняли коммунисты мадьярам.
«Все они преступники, – подумал про себя Андрей, и Хорти с Салаши, и граф Эстергази, и кардинал Миндсенти, и все-все, кто повинен в трагедии Венгрии. Рано или поздно, всем им отвечать за свои злодеяния».
5
Весть о падении Пешта в «Орлиное гнездо»[22]22
«Орлиное гнездо» – резиденция Гитлера близ Бад-Наугейма, откуда он более месяца руководил Арденнской операцией.
[Закрыть] пришла очень поздно и не застала Гитлера. Она всю ночь гналась за ним через грохочущую Германию и лишь на рассвете настигла уже в Имперской канцелярии.
Несколькими минутами позже позвонил сам Фризнер, командующий немецкими и венгерскими силами на будапештском направлении. В другое время весть из Венгрии привела бы Гитлера в ярость. Сейчас он воспринял ее стоически, почти равнодушно. Нет, не потому, что он смирился с горечью утрат, следовавших одна за другою, и не потому, что недооценивал случившегося на берегах Дуная, – просто сердце слишком накалено, и ему нечем дышать. Он беспомощно облизал сухие губы, перехватил трубку из одной вялой руки в другую и, даже не повышая голоса, сказал Фризнеру:
– Я дал вам силы, дал время, власть – действуйте же, черт побери! – он так и сказал: «Himmeldonnerwetter!» Оттесните Толбухина. Оградите Буду от всяких катастроф. Остановите наконец Малиновского. Дунай – последняя черта. Вы головой ответите за фронт по Дунаю. Слышите, головой!
– Да, мой фюрер… – еле пролепетал Фризнер и долго еще держал в руках мертвую трубку, не смея опустить ее на место. Наконец, собравшись с духом, он несмело добавил: – Только наличных сил тут не хватит…
Ему никто не ответил.
Оборвав разговор, Гитлер уставился в невидимую точку. Он словно проваливался в транс, безотчетно отдаваясь истерии молча. Его бредовый взгляд был пронзителен и страшен. Будь тут свидетели, кабинет сразу огласился бы исступленными воплями, так характерными для его, если так можно выразиться, пафосной истерии.
К сожалению, в жизни немало мелких и крупных крикунов-истериков, малых и больших фюреров, не способных понять, как пуста и никчемна, даже вредна и опасна такая трата бешеной энергии. Лишенные трезвого расчета и благородного воодушевления, они, как машина на холостом ходу, напрасно убивают силы. Пробуждая в себе неугомонного беса или, как полагал Гитлер, даймона, способного подогреть их слабые силы и вялую волю, они часто и не подозревают, что сами убивают цель, к которой стремятся. Мужественных все это лишь возмущает или озлобляет, слабых деморализует, отвращая от любого дела, а трусливых вовсе обескураживает или убивает, делая их неспособными ни думать, ни действовать.
Гитлер прошел к карте у стены и уставился на нее воспаленными глазами. Карта вопила. Иссеченная красными стрелами, походившими на рубцы свежих кровоточащих ран, она взывала о помощи и спасении. Рассекая границы Пруссии, красные стрелы просто вонзались в ее тело. Из своей «вольфшанце»[23]23
«Вольфшанце» (по-нем.) – волчий окоп или волчье логово – так именовалась ставка Гитлера в Восточной Пруссии.
[Закрыть] под Растенбургом он давно уже слышал отдаленный гул русской канонады. Другие стрелы прямо через Варшаву тянулись в Польшу, подступая чуть не к сердцу самого Vaterland’a[24]24
Vaterland (по-нем.) – отечество, родина.
[Закрыть]. Горные хребты Карпат вдоль и поперек иссечены русскими стрелами. Из Югославии они протянулись на север, пересекли рубеж «Маргит», подступали к Вене. А стрелы Малиновского дугой охватили задунайщину, угрожая Чехословакии и тоже нацеливались на Германию с юга. Mein gott![25]25
Mein gott (по-нем.) – бог мой!
[Закрыть] Как несправедлива к нему судьба! А ведь было же, слава его гремела по всему миру. Он был властелином пространства и времени. Казалось, еще немного, и осуществились бы все его замыслы, все устремления. Он всюду наводил страх и ужас, и перед ним покорно склонялись страны и народы. Вот слава! А что теперь? Пусть бы она хоть походила на солнце. Тогда с зари до зари она светила бы ему, а скрывшись за горизонтом, наутро снова вставала бы над его измученной головой. Нет же, судьба послала ему год тяжких терзаний. Целый роковой год!
Если б можно было избавиться от неугодного времени, он бы, не колеблясь, вычеркнул из календаря весь сорок четвертый год. Он потерял Прибалтику, Белоруссию, всю Украину. Лишился Румынии и Болгарии. Эвакуировал Грецию и на произвол судьбы бросил гарнизоны на многих ее островах. Его теснят из Югославии и Венгрии. Утрачена вся Франция, и англосаксы уже пробуют на зуб его линию Зигфрида.
Нет, он не сидел сложа руки. Стиснув зубы, он шел на любую борьбу. Он не жалел ни сил, ни крови всей Германии. Венгрия вопит о помощи. Разве он не дал туда лучшие эсэсовские части? Разве не слал туда дивизию за дивизией из Австрии и Италии, разве не снимал их с Западного фронта? Все было, и все потеряно. Все сгорает в чудовищном огне войны.
Нет, он и тогда не опустил рук. Он пошел на большее. Можно сказать, на невозможное. На Арденны! Он рискнул чуть не всем – и вот награда!
Скажут, он пошел на дерзость против природы вещей, посягнул на святое святых. Пусть. Говорил же Клаузевиц, что на войне у смелости особые привилегии. Его замыслы и были рассчитаны на такую смелость. Но судьба, судьба! Разве она ценит подвиг духа!
Нет, что же все-таки случилось?
Малиновский и Толбухин атаковали его в Югославии и Венгрии. Их натиск был неотразим. В центре и на севере еще царило затишье. Но тучи собирались и там. Армии Эйзенхауэра на западе вроде выдохлись. А начнут русские новое наступление, заторопятся и англосаксы. Борьбы на два фронта Германии не выдержать. Значит, что же? Выход один – чтобы выиграть время, надо было разбить их поодиночке. Он и решился на Арденны. Тогда казалось, это последний шанс повернуть ход событий.
Оставив карту, Гитлер прошел к столу. Вяло опустился в мягкое кресло. Сквозь высокие узкие окна с серыми портьерами пробивался тусклый свет январского утра. Месяц назад, здесь, в кабинете, он проводил последнее совещание. Казалось, все было взвешено и рассчитано. Он собрал кулак в тридцать дивизий, выставил три армии, их возглавляли лучшие из генералов, преданные ему душой и телом. Он создал лихой батальон из головорезов, отлично говоривших по-английски, одел их в американскую форму, вооружил американским оружием. Эту тысячу он бросил на тылы англосаксов, на их коммуникации, чтобы посеять панику. Он рассчитал верную цель – выйти на Маас, пробиться на Антверпен. Рассечь армии Эйзенхауэра, разгромить его главные силы, поставить перед катастрофой. Что ж, его расчеты имели свой смысл. Опрокинув англосаксов, он погнал их к морю. Западная печать до сих пор вопит от ужаса. Ей мерещится второй Дюнкерк[26]26
У Дюнкерка в 1940 году были разгромлены французские и английские армии, сброшенные немцами в море.
[Закрыть]. Нет, Антверпен был бы похлеще Дюнкерка. Почти месяц трепал он дивизии англичан и американцев. Но ему недостало сил покончить с ними. В начале января американцы контратаковали его целой армией, и безуспешно. Ему требовалось немного времени, чтобы перегруппировать силы, выдвинуть резервы, и он добил бы англосаксов. Видит бог, добил бы! А тогда бы все на восток против русских. Он выиграл бы главное – время. И кто знает, не пересмотрел ли бы Запад свою политику. Но русские, русские! Все разрушив, они помешали ему выравнять чаши весов, чтобы потом пересилить их силу.
Ах, эти Арденны, убитая надежда! Нужно все решать заново.
Малиновский и Толбухин очистили чуть не весь венгерский Дунай, заняли Пешт, штурмуют Буду. Венгры создали новое правительство и из Дебрецена объявили ему войну. Все в самый разгар борьбы в Арденнах. Сколько дивизий поглотила одна Венгрия. Хорошо еще, с ним Салаши. Но что у него за силы! Живой призрак.
А теперь еще хуже. 12 января[27]27
Тогдашний премьер-министр Англии Черчилль 6 января 1945 г. обратился к Советскому правительству за помощью, так как английские и американские войска находились в Арденнах в бедственном положении. Верное своему союзническому долгу, Советское правительство отдало приказ Вооруженным Силам о переходе в наступление, которое и началось 12 января 1945 г., ранее намеченного срока.
[Закрыть] русские нанесли яростный удар по всему фронту от Балтики до Карпат. Сейчас нет участка, где бы они не наступали. Ясно, рвутся в Берлин. Он невольно поднял глаза на карту. С ее листа вся Германия по-прежнему вопила о спасении и помощи.
Ему пришлось спешно покинуть «Орлиное гнездо» и всю ночь мчаться сюда, в Берлин. Как горный обвал, на него обрушилось время тяжких решений.
Он позвонил и вызвал Гудериана. Что ему сейчас доложит начальник генерального штаба? Не дожидаясь, пока войдет Гудериан, он позвонил снова и приказал вызвать с Рейна Хассо Мантейфеля и Зеппа Дитриха.
Решать, так решать сразу!
6
В тот же день Мантейфель и Дитрих прибыли в Берлин. Их принял сам Гитлер. Еще не остывший от пережитого, он сдержанно пригласил их к столу и с минуту молчал, не зная, с чего начать.
Вот они его генералы, его любимцы, на которых он полагался всегда и во всем. Вместе с ними и многими другими он начинал эту войну. За ними стояла вся Германия, вся Европа. Где же их победы? Где их слава? Ни у него, ни у них ответа не было.
Генералы ждали и настороженно глядели на своего фюрера. Зачем он вызвал их? Не выдержав взгляда рейхсканцлера, Мантейфель первым отвел глаза, обвел ими стены кабинета. Всего месяц назад он присутствовал тут на совещании. За этим же столом сидел он вместе с Дитрихом и Брандербергером. Каждому из них Гитлер дал по армии, нацелил в Арденны. Напротив сидел сам фюрер, а по обе стороны от него фельдмаршалы Модель и Рундштедт, один из которых отвечал за Арденнскую операцию, другой за Западный фронт в целом. Что ж, операцию они провели, а весь германский фронт трещит по швам, вернее, трещит, как раздираемый заживо.
Как и тогда, у Гитлера сутулая фигура с бледным одутловатым лицом, сгорбившаяся в кресле. Руки у него дрожат еще более, а левая то и дело судорожно подергивается, что он всячески старается скрыть, то поддерживая ее за локоть, то незаметно массируя от кисти до локтя. Это явно больной человек, сильно подавленный бременем забот и обрушившихся на него неудач.
А было, фюрер гремел, мог зажигать. Теперь же, истощенный духовно и физически, он болен и озлоблен на все на свете.
Наконец Гитлер заговорил. Голос у него тихий, нетвердый. Месяц назад за этим же столом он требовал одного: движения вперед без оглядки, вперед, не взирая на фланги. Сейчас он говорит о роковых жертвах, о превратности судьбы, требует стойкости на Рейне.






